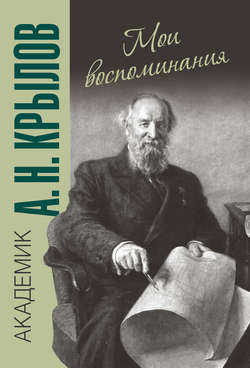Читать книгу Мои воспоминания - А. Н. Крылов - Страница 5
Раннее детство
ОглавлениеВ метрической книге села Липовка Ардатовского уезда Симбирской губернии записано: «1863-го года августа 3-го дня рожден, того же августа 10-го дня крещен Алексий – сын помещика сельца Висяга Николая Александровича Крылова и законной жены его Софии Викторовны, оба первобрачные и православные. Воспреемниками были вдова гвардии полковника Мария Михайловна Крылова и сын Наталии Александровны деревни Калифорнии Александр Иванович Крылов, которому фамилия однако не Крылов, а Тюбукин».
Кажется, только Л. Н. Толстой помнил, как его крестили, когда ему было три дня от роду, я же с этой записью ознакомился лет через 25, когда мне понадобилась метрическая выпись для вступления в брак.
Мне тогда рассказали, что в Липовку был только что посвящен молодой поп, и я был первый, кого он крестил. Так как бабушка Мария Михайловна все церковные службы и обряды знала лучше любого попа, то она ему все время подсказывала, что надо делать, какие молитвы читать, как и когда в купели на воде маслом чертить крестики и т. п., чем приводила в немалое смущение молодого попика.
Рассказывали также, что Александр Иванович, которому тогда было 18 лет, по рассеянности, подобно многим другим, хотя и плюнул на сатану, но дунул на меня, ребенка, за что от общей нашей бабушки Марии Михайловны большой похвалы не заслужил.
Как бы то ни было, делая свою первую метрическую запись, смущенный попик измыслил необыкновенное сословное положение Александра Ивановича и, перепутав его фамилию, чтобы не перечеркивать, исправил эту ошибку той своеобразной оговоркой, за которую мне через 25 лет пришлось дать диакону Андреевского собора красненькую (10 руб.), чтобы рассеять его «сумления» о метрической выписи и ускорить оглашение.
Какое же самое раннее воспоминание в моей жизни и к какому возрасту оно относится?
В начале лета 1866 г., с введением земства, мой отец, бывший до того времени мировым посредником (первого призыва) и живший в деревне Висяга, занял по выборам должность председателя Алатырской земской управы и переехал в г. Алатырь.
Был в то время в Алатыре, да и много лет спустя, сапожник Алексей Нилыч и сделал он мне первые мои сапоги с голенищами по колено. Был у нас кучер Петр, купил он себе на базаре сапоги, и вот, играя во дворе, я увидал, как Петр подошел к лагуну с дегтем, взял мазилку и густо вымазал дегтем свои новые сапоги.
Конечно, не успел Петр отойти от лагуна, как мазилка уже была в моих руках, и я свои сапоги вымазал еще гуще, чем Петр, и пошел в комнаты похвалиться перед родителями. Результат оказался неожиданный, и я хорошо его запомнил: мой отец взял меня левой рукой за правую ногу, поднял головой вниз, а правой рукой нашлепал по тому месту, откуда ноги растут, приговаривая: «Не обезьянничай, не обезьянничай».
Мне в то время было, вероятно, немного меньше трех лет, и хотя я плохо понял, что значит «не обезьянничай», но с тех пор я комнатных сапог дегтем не мазал.
Второе воспоминание, дату которого впоследствии я еще точнее не мог установить, относится к августу 1867 г., т. е. когда мне только что минуло четыре года.
В 1867 г. была Всемирная выставка в Париже; на нее поехала вместе с моей матерью и добрая знакомая Дарья Леонтьевна Кирмалова. Меня перед этим отвезли в Казань к бабушке Марии Ивановне Ляпуновой; так вот я совершенно отчетливо помню, как, выйдя на улицу с младшим братом моей матери Николаем Ляпуновым, которому тогда было лет 12, мы увидали, что навстречу едут на извозчике мой отец и моя мать, и мы побежали домой с криками: «Сонечка едет, Сонечка едет», так как, кажется, я лет до семи свою мать, подражая взрослым, звал Сонечка, а не мама.
С пяти лет воспоминания, по-видимому, идут в более или менее связной последовательности, локализация их по времени становится точнее, ибо они приурочиваются или к собственному возрасту, или к событиям внешнего мира.
Кроме меня у моих родителей детей не было. Отец был постоянно занят и был, вероятно, в частых разъездах. Матери моей в то время было 22 года, с нами вместе жили младшие ее сестры, сперва Елизавета, а потом Александра Викторовны; последняя и начала меня учить: читать, писать, молитвам, священной истории и французскому языку.
Судя по дошедшим до меня рассказам, молодая мать и еще более молодые тетки баловали меня беспредельно; мальчик я, видимо, был резвый, в шалостях мало стеснялся, так что более солидного возраста родственницы пророчили, что из меня вырастет разбойник и что, подобно моему троюродному деду Валериану Гавриловичу Ермолову, буду я по большим дорогам грабить.
Когда мне минуло пять лет, то, к ужасу моих молодых тетушек и матери, отец подарил мне по его заказу за 75 копеек сделанный настоящий маленький топор, сталью наваренный, остро отточенный, который и стал моей единственной игрушкой. Я прекрасно помню, что в моей комнате всегда лежала плаха дров, обыкновенно березовая, которую я мог рубить всласть. Дрова в то время были длиною в сажень, продавались кубами по три рубля за кубическую сажень (это я знал уже и тогда), плахи были толстые (вершка по три), и я немало торжествовал, когда мне удавалось после долгой возни перерубить такую плаху пополам, усыпав щепою всю комнату.
Должно быть, с топором у меня дело шло гораздо спорее, чем с букварем, так как мне врезался в память упрек Александры Викторовны:
– Вот Маша уже бегло читает, а ты все на складах сидишь – и мой на это ответ:
– Маше-то шесть лет, а мне всего пять.
Здесь невольно вспоминается рассказ о моем отце, которого попросили взять Александру Викторовну из Нижегородского института, где она кончала курс и кончила с шифром[1].
Как я уже упоминал, мой отец в то время был председателем Алатырской земской управы, помещик, владелец прекрасной старинной усадьбы и шестисот десятин превосходнейшей земли. Ездил он ежегодно, подобно другим помещикам, в Нижний на ярмарку закупать годичный запас провизии. У других, конечно, это делалось так, что барин ехал в крытом тарантасе или коляске, а отдельно шли возы с закупленным в сопровождении бурмистра или старосты.
Но у отца были свои привычки и свои взгляды. Ездил он на ярмарку, как всегда, без кучера, на громадном сноповозном рыдване. В рыдван впрягалась тройка лошадей, отец захватывал с собой изрядное количество кож и веревок. Рыдван этот был на железном ходу, взятом от прадедовской кареты работы какого-то венского мастера, а потому неизносимым.
Так вот в день выпуска произошло следующее: в переполненный каретами и колясками парадный институтский двор въезжает запряженный тройкой отличных лошадей рыдван, нагруженный верхом, закрытый черными кожами и на совесть обвязанный веревками.
Рыдваном правил рослый, широкоплечий, обросший окладистой черной бородой мужчина в смушковой папахе и казацком бешмете, перепоясанном вершковой ширины сыромятным ремнем. На этом ремне у левого бока висела полуаршинной длины желтой кожи кобура, из которой спереди блестела рукоятка громадного револьвера.
Не обращая внимания на крики швейцара, отец на рыдване подкатил прямо к парадному подъезду, соскочил с облучка и вручил изумленному швейцару карточку:
Подав письмо на имя начальницы института, он заявил, что приехал за девицей Ляпуновой.
Когда девица Ляпунова вышла к нему, он ей сказал:
– Поедемте, Сонечка вас в Алатыре давно ждет, – потом подставил ей ловко левое колено, правую ладонь, весьма напоминавшую медвежью лапу, и, слегка поддерживая левой рукой, вскинул как перышко на верх полуторасаженной высоты рыдвана; после этого вскочил сам, разобрал вожжи, гикнул и был таков. Девица Ляпунова и опомниться не успела.
Много лет ходил об этом рассказ по Нижегородской губернии, и многие спрашивали:
– Да что он – потомок Стеньки Разина или внук Емельки Пугачева? А он обычно говаривал:
– Если Александра Викторовна будет жить с нами, то ее институтские замашки и привычки надо из нее вырвать так, как вырывают зуб, – с корнем, единым махом.
Я упомянул отцовский револьвер в желтой кобуре. Этот револьвер в 1905 г., когда частным лицам было запрещено без особого разрешения иметь оружие, отец подарил мне, так как я был тогда в чине полковника, заведывал Опытовым бассейном, т. е. был начальником отдельной части и имел целый арсенал всякой всячины. Револьвер этот мастера Blanchard'a в Париже был куплен отцом в 1857 г. после того, как в Муромском лесу к нему пристали двое татар и шли рядом с возом, все щупая, что на возу; они отстали лишь, когда случайно из боковой дороги выехала артель крестьян-дровосеков:
– Ну, купец, счастлив твой бог, что ты нас повстречал, гнил бы ты в овраге, ведь это были Ахметка и Абдулка – разбойники ведомые.
С тех пор, куда бы ни ездил отец на лошадях, он с этим револьвером не разлучался; я еще в детстве помню, что он показывал другим, как надо носить револьвер на левом боку рукояткой вперед, чтобы выхватить моментально и пулю всадить не целясь, со вскидки, что он и проделывал мастерски.
В саду для этих упражнений был сделан валик, к которому ставился мешок с сеном и мишенью.
Кстати о Пугачеве. Мой отец родился в 1830 г. и, будучи мальчиком, знал еще тех почтенных старцев, которые в молодости видели Пугачева и помнили его поход через Симбирскую губернию до с. Исы Пензенской губернии. В числе этих старцев был и дед отца, Михаил Федорович Филатов, умерший в 1857 г., 98 лет, вспоминавший, как вся семья Филатовых с конвоем из псарей, охотников и доезжачих скрывалась в Засурских лесах.
Отец любил рассказывать то, что слыхал от этих стариков. У меня с детства врезался в память такой рассказ. Идя походом из Казани на Пензу, Пугачев взял Алатырь. Прежде всего он велел отрубить голову городничему, а на утро следующего дня согнать народ в собор приносить присягу.
Собрался народ, собор переполнен, только посередине дорожка оставлена, царские двери в алтарь отворены. Вошел Пугачев и, не снимая шапки, прошел прямо в алтарь и сел на престол; весь народ, как увидел это, так и упал на колени – ясное дело, что истинный царь; тут же все и присягу приняли, а после присяги народу «Милостивый манифест» читали.
Мне, в то время пяти- или шестилетнему мальчику, также казалось, что если человек вошел в церковь в шапке, прошел через царские двери, сел на престол, то, конечно, – царь, и я не понимал только, почему его зовут Пугачев.
«Милостивый манифест» мне много лет спустя довелось прочесть в «Русской старине», где он был напечатан через сто лет после Пугачевского бунта; я помню начинался он так: «Жалую вас и крестом, и бородою, и волею, и землею, и угодьями, и лесами, и лугами, и рыбными ловлями, и всем беспошлинно и безданно…».
Понятно, что такой манифест навеки врезался в память тех крестьян, которые слышали его чтение и передавали из поколения в поколение. Этот манифест, всего в несколько строк, не чета был Филаретовскому в восемь страниц от 19 февраля 1861 г.
Дом бабушки Марии Михайловны был в Алатыре на Троицкой улице, как раз напротив колокольни Троицкого монастыря.
Собственно на усадьбе было два дома: в одном, в комнатах, выходивших на улицу, помещалась управа – туда мне нельзя было ходить до обеда, ибо происходило какое-то «присутствие», а в задних комнатах была столовая, спальни, детская. В другом доме жила бабушка Мария Михайловна и старушки: Анна Петровна Скобеева, Марья и Ольга Андреевны Ивановы.
Скобеева умерла в глубокой старости, когда я был уже офицером, поэтому я ее и помнил; старушек же Ивановых запомнил с детства потому, что по просьбе бабушки ее родственник, богатый помещик Федор Иванович Топорнин, привез из Москвы и подарил Марье Андреевне швейную машинку; в то время это была такая диковинка, что чуть ли не весь город перебывал, чтобы посмотреть невиданную вещь, и я частенько бегал к Марье Андреевне подивиться, как это машинка сама шьет, когда ногой только колесо вертят.
В Троицком монастыре был в то время архимандрит Авраамий, пользовавшийся большим уважением в Алатыре и в округе.
Конечно, у него было множество поклонниц и в их числе наиболее знатные и старые: Настасья Петровна Новосильцева, моя бабушка Мария Михайловна Крылова, дальняя родственница знаменитого генерала Елизавета Гавриловна Ермолова и Анна Петровна Демидова; вероятно, были и многие другие, но я их не запомнил.
Отец архимандрит удостаивал по временам принимать трапезу от своих почитательниц, соблюдая, впрочем, строгую очередь. Понятно, что старицы одна перед другой старались получше угостить батюшку. Трапеза обставлялась торжественно, приглашались почетнейшие граждане города и, конечно, старицы. Само собой разумеется, готовился чисто рыбный стол, а в Суре в то время рыбы было вдоволь, аршинная стерлядь весом фунтов в десять стоила два рубля и особенный редкостью не считалась.
Вот по поводу этих-то трапез я два раза сыграл злую шалость; в последней я признался лишь через 25 лет, будучи уже профессором Морской академии.
Как сейчас помню, на сладкое у бабушки готовилось лимонное желе, которое особенно любил батюшка. Желе это готовилось на «рыбьем клею», т. е. «веществе постном», но рыбий клей требовал какого-то искусства в приготовлении, а то желе выходило тусклым. И вот в одной лавке появился привезенный из Нижнего «очищенный рыбий клей», называемый «желатин». Стала бабушка готовить желе на желатине, и выходило оно на редкость чистое и прозрачное.
Изготовила и моя мать как-то у нас на сладкое такое желе и зашел у нее разговор с отцом:
– Знаешь ли ты, Сонечка, что такое желатин, на котором ты готовишь желе и которым маменька угощает Авраамия?
– Знаю, очищенный рыбий клей.
– Вот то-то что нет, вернее бы сказать, очищенный столярный клей, делают его из телячьих ножек, телячьей головки и пр. Одним словом, это как бы очищенный и засушенный телячий студень, так что хорошо маменька архимандрита-то своего скоромит.
Слова эти мне запомнились, и я, видимо, решил свои познания проявить и действительно проявил.
Как-то подали на одном из торжественных обедов знаменитое желе, пробрался я в столовую и прямо к бабушке:
– Бабушка, бабушка, а знаете вы, что такое желатин, на котором желе делается?
– Зачем тебе? Это – очищенный рыбий клей.
– Вот и нет, папа сказал, что его из телячьих ножек делают и что он скоромный и батюшка оскоромился.
Эффект был поразительный, ему бы позавидовал сам Gavarni для «Enfant terrible». Меня за проявление химических познаний обещали высечь, но как-то дело обошлось.
Вторая шалость была злостная, учинил я ее, когда мне было лет шесть.
Знал я, что батюшка Авраамий любит разварного судака и притом непременно голову.
Сура на большей части своего протяжения течет песками, и судаки в ней водились и по величине, и по вкусу редкостные (недаром судак по-немецки Sander – песчаником зовется). Вот и выследил я, что у бабушки на кухне большой обед для батюшки готовится и по обыкновению громадный разварной судак.
Выложила кухарка Марья-мордовка судака на блюдо, обложила всякой всячиной – только соусом полить и на стол нести; а я заранее чуть не целый карман громадных черных тараканов заготовил. Вышла Марья из кухни, я мигом и насовал этих тараканов в судачью голову – и под жабры, и под тумак (язык), одним словом, куда только можно было. После этого принял самый невинный вид и жду, что дальше будет.
Понесла Марья судака в столовую, я насторожился; вдруг слышу какое-то смятение, ахи, охи; я предпочел не дожидаться конца и удрал в наш дом, в свою комнату.
Был мне затем учинен допрос:
– Сознавайся, ты тараканов насажал?
– Никаких тараканов не видел и даже не знаю, о чем спрашиваете.
За неимением прямых улик я был оставлен в сильном подозрении, но наказанию не подвергся.
Только лет через двадцать пять, когда бабушке минуло 90 лет и съехались родные ее поздравлять, я сознался, что тараканы были моих рук дело. Среди присутствовавших были старики, которые знаменитый обед помнили, а кто из них был помудрее, те говорили:
– Я тогда же говорил, что виноват ты или не виноват, а выпороть тебя следовало – видели, как ты на кухне вертелся.
1
Шифр – награда ученицам: вензель в виде нагрудного знака с инициалами царицы.