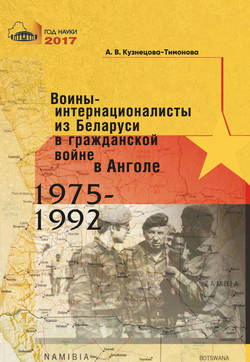Читать книгу Воины-интернационалисты из Беларуси в гражданской войне в Анголе 1975-1992 - А. Кузнецова-Тимонова, А. В. Кузнецова-Тимонова - Страница 18
Часть II. Человек на войне: воспоминания ветеранов войны в Анголе
«Мне почему-то хотелось попасть на войну… Может, потому что я потомок белорусских партизан?»
ОглавлениеАлександр Анатольевич Григорович, подполковник запаса, служил в Анголе в 1975-1976 годах в качестве военного переводчика[127]
– По отцовской линии я белорус. Правда, не совсем чистый – бабушка, мама отца, была чистокровная полька, с Пинщины. А дедушка – чистый белорус, и естественно, отец считается белорусом. Я себя считаю белорусом – с примесью польской крови. А мама моя – москвичка, с Сухаревки, там до сих пор еще дом стоит фамильный, чистая русская.
Когда я был мальчишкой, мы постоянно ездили на родину к бабушке с дедушкой. Дедушка с бабушкой жили в Мозыре, у них там был свой дом, рядом со станцией «Мозырь», своя корова, куры, хрюшки, сад шикарный. Я с удовольствием туда ездил. Они настолько были хлебосольные, всегда к завтраку, к обеду – молочко, яички свежие, сыр своего собственного изготовления. Они трудоголиками были настоящими. Поэтому Беларусь мне очень близка, это моя родная земля. Когда бабушка с дедушкой умерли, грустно было еще и из-за того, что я потерял то место, куда можно было приезжать свободно и чувствовать себя как дома.
– По службе, по работе позже случалось ли приезжать в Беларусь?
– Да, ездил достаточно много раз с делегациями в Минск. Там уже были приемы на высшем уровне, и в основном потом я Беларусь видел уже из окна лимузина. Впечатления были очень хорошие: удивительно чисто, не людно, спокойно, очень ухоженные города, особенно Минск ухоженный, чистенький, спокойный, нет этой толчеи и суеты, которая наблюдается у нас в Москве, нет этой грязи, дороги все хорошие, все отремонтировано.
– После смерти бабушки и дедушки остались еще какие-то родственники в Беларуси?
– Какие-то дальние остались. Но дело в том, что два брата моей бабушки едва не стали жертвами Катынской трагедии. Они были офицерами польской армии. Расстрела избежали чудом, успели уйти в Англию. То есть, их не постигла участь остальных офицеров, кого расстреляли в Катынском лесу. И все родственники, которые остались от бабушки, тоже переехали в Англию. Честно говоря, я их не искал. Долгая история, почему. А потом умер отец, бабушка умерла, все связи оборвались, хотя я знаю, что в Англии есть мои дальние родственники. Просто нужно искать.
– А по белорусской линии?
– По белорусской… Мой дед просидел 10 лет в сталинских лагерях, и был репрессирован не только он, но и все его родственники. А когда он вышел, он был в таком, я бы сказал, деморализованном состоянии, и когда я ему задавал вопрос – дед, а где твои братья? – он отказывался об этом говорить, потому что боялся повторения сталинской эпохи. Поэтому не было смысла в поисках родственников с этой стороны – мне о них просто не рассказывали.
По материнской линии у меня дед тоже сидел. Но здесь проще – дед по матери так в Котласе и умер.
– Вы родились в Москве?
– Нет, я родился в Германии. У меня и мама, и отец были активными участниками Великой Отечественной войны, оба закончили войну офицерами. Там их и оставили, в Германии, потому что отец работал сначала в штабе армии шифровальщиком, потом в КЭЧ (коммунально-эксплуатационная часть), а потом его переквалифицировали, и он дома строил. А мама работала в госпитале, была врачом высокой квалификации. В этом госпитале я и родился. В 1949 году.
– Как Вы оказались в Москве?
– В Москву я приехал только в 1965 году, когда отца туда перевели служить. До этого мы жили по гарнизонам. Сначала на полигоне в Пржевальском, в Киргизии, лет пять. Потом – в Венгрии, Чехословакии, Польше.
– Перед тем как поступить в ВИИЯ, Вы были призваны в армию на срочную службу?
– Да, в 1968 году.
– В каких войсках Вы служили?
– В войсках связи. Это было интересное стечение обстоятельств – моя служба. До армии у меня была своя группа, мы назвались «Веселые ребята». Но это не те «Веселые ребята», ВИА, который был потом на эстраде. Наши «Веселые ребята» были раньше, чем появились они. И мы давали концерты, в основном, в Подмосковье, в Москву мы не попадали. А по всему Подмосковью мы гремели. И когда командир элитного полка связи Генштаба МО СССР узнал, что рядом с его полком живет товарищ, который возглавляет группу музыкантов, которые гремят по всей Московской области – а мы выступали даже и в самой этой части – то он решил взять меня к себе. А плац, по которому я маршировал, располагался как раз напротив моего дома. И мама, когда я выходил на плац, видела меня в бинокль.
Поэтому мне с одной стороны повезло, а с другой – совсем не повезло. Когда какой-нибудь капитан заступал дежурным по полку, начальник штаба его инструктировал: там есть такой Григорович, который живет напротив, смотри, чтобы он в самоволку не ушел! И каждый раз проверяли меня, как по описи, в караульном помещении. Приходит дежурный в казарму: где Григорович, ноги его покажи! Ночью, в двенадцать часов. Но я потом стал хитрым, изображал свои ноги на постели, «мастерил» их из одеяла, а сам уходил в самоволку! Но это было очень редко, потому что я был примерный боец.
Я быстро стал сержантом, командиром отделения, замкомвзвода. Был очень примерным служакой. У меня даже были награды. Самое большое поощрение – фотография у развернутого знамени части. Но мне было очень тяжело в моральном плане. Я полгода служил в учебке, был еще секретарем комсомольской организации, должен был служить примером. На меня это налагало большую ответственность. В то же время мой дом был напротив, я с плаца смотрел на маму, она махала мне рукой из кухни, а я не мог ничего сделать, убежать, например!
Хотя один раз все-таки был момент: на Новый год. Я был начальником караула, тогда уже был старшим сержантом. Ребята сидели хмурые, пятнадцать минут до Нового года осталось, а праздника не чувствуется. Я сказал: ребята, прикройте меня! И я – начальник караула, с автоматом, с патронташем – прыгаю через забор, врываюсь домой, а там сидит компания друзей нашей семьи, испуганными глазами смотрит на меня! Я схватил со стола все, что было, и бегом обратно! За десять минут – туда и обратно, через забор! Вот и встретили Новый год, порадовал своих ребят.
А в увольнение ходил на общих основаниях, как и все.
– То есть, можно сказать, что Вы были самым взаправдашним связистом, а не таким, как наши некоторые знаменитые ныне музыканты, которые служили в различных военных ансамблях?
– Именно так. У меня была своя машина связи – командно-штабная машина ГАЗ-51 с радиостанцией 125-МТ, с аппаратурой «зас» («засекречено»). Внутри было шикарно, там был стол. В машине было два отделения: в одном я сидел, а еще у меня было два помощника-солдатика; и плюс кунг, где сидели офицеры. Я участвовал во всех учениях, был отличником по работе с азбукой Морзе – мы тогда ключом работали, и у меня лучшие показатели. Когда я участвовал в соревнованиях, выдавал такие показатели, что сейчас сам удивляюсь!
Получается, что я был передовым в плане службы. А еще, когда были какие-нибудь праздники или мероприятия торжественные, я выступал как руководитель ансамбля. Вместе со мной призвали не всех моих ребят из группы – потому что играли с нами и ребята постарше, которые свое уже отслужили – но во всех концертах мы принимали активное участие, я играл и просто соло на гитаре, и с оркестром полковым. Меня даже хотели потом перевести в музвзвод, но я отказался. Потому что у меня были планы поступить в ВИИЯ.
– В связи с этим вопрос: а как Вы узнали про ВИИЯ?
– У меня там брат учился, двоюродный. Он был старше меня, и уже учился там, когда я только пошел в армию. И он мне рассказал, что есть такой институт, в котором готовят разведчиков! Это меня заинтриговало. А еще он сказал, что после того как окончишь этот институт, то пойдешь работать в разведку и обязательно попадешь на войну.
А я бредил войной с детских лет. Попасть на войну – для меня это был предел мечтаний! Я все книжки о войне перечитал, причем читал их с самого малого возраста, лет с семи. Мама спрашивала: что ты этой войной все время бредишь? А мне сны снились, как я бегу с автоматом, под бомбежкой, под обстрелом! Самое интересное, что все это потом реализовалось.
– В каком году Вы поступили в ВИИЯ?
– Это был 1970 год. Как раз на втором году службы. Поступил из армии. И попал как раз в самое пекло. Я поступил на отделение арабского языка, а на Ближнем Востоке уже готовились военные действия. В 1972 году я поехал туда, а в 1973 году началась война.
– Вы сами выбирали арабский язык или Вас распределяли?
– Когда сказали, что идет большой набор именно на арабский язык, на восточный факультет, и что именно оттуда есть огромный шанс попасть в «мясорубку», я с удовольствием пошел туда! Потому что через год мы уже должны были ехать работать. Как правило, все выпускники – я не беру курсы португальского языка – ехали работать только лет через пять. А тут – гарантия: через год вы точно едете на серьезное дело!
Как я сейчас вспоминаю, это был самый напряженный период моей жизни, потому что мы с утра до ночи учили язык. По шесть-восемь часов в день у нас были занятия по языку, не считая самоподготовки. Причем арабский язык – это ведь не простой язык, написание справа налево, без гласных! И в то же время, это был очень романтический период жизни! С одной стороны, было трудно, с другой – очень интересно. Конечно, не все у нас мечтали попасть на войну, но я-то чувствовал, что уже скоро-скоро я попаду туда, о чем я грезил! Так и получилось. В 1972 году, когда я приехал в Сирию, арабы готовились к войне – не израильтяне, а арабы! Они хотели отомстить за «шестидневную войну», за 1967 год[128].
Так что, повторюсь, в 1973 году я попал в самое пекло. Могу честно сказать: так, как я начинал войну, никто из моих коллег не начинал! Потому что наша бронетанковая бригада, в которой я служил, когда наступала, все шли на танках, а я со своим советником – на машине ГАЗ-69, который был покрыт только брезентом. И вот мы зашли на израильскую территорию с арабскими частями, под бомбежками, под напалмом… Но это уже другая история. Как я это вспоминаю – сейчас уже, конечно, было бы страшно, жутко, и, наверное, я ни за что не поехал бы вот так! А тогда был какой-то романтизм. Я же все это даже снимал, у меня есть заснятые на пленку моменты, когда там идут бомбежки, самолеты летят…
– Про Вашу службу в Сирии уже опубликованы достаточно подробные Ваши воспоминания в сборнике «Куито-Куанавале. Неизвестная война». Как долго Вы там пробыли?
– Почти два с половиной года.
– Почему в качестве второго языка вам дали именно португальский?
– Потому что мы вернулись в очень интересное время. Это был 1975 год, когда я вернулся из Сирии. А в 1974-м случилась революция в Португалии, и португальские колонии были на пороге обретения независимости. Уже было понятно, что туда поедут советские военные специалисты, и соответственно, понадобятся переводчики. Поэтому приоритет при распределении на португальский язык отдавался тем, у кого уже был реальный боевой опыт[129], потому что именно там намечались новые «горячие точки». И мою фамилию подали на португальский даже без спроса, то есть без моего первоначального согласия. Но мне сказали главное, когда распределяли на португальский: молодой человек, скоро опять под знамена, и вперед и с песней! Мне этого было достаточно.
Итак, португальский язык. Естественно, мы понимали, что в Португалию мы точно не поедем. Но оставались португальские колонии. И мы поняли, что, скорее всего, нам светят Ангола, Мозамбик или еще что-то в этом роде. Во мне опять заиграл мой непреходящий романтизм. И когда мы уже проучились месяцев семь, к нам в класс заходит майор Борис Кононов[130] – а это был октябрь 1975 года – и говорит: ребята, мне даже не хочется об этом говорить, но мне нужно пять человек на серьезное дело (смеется)] Я сразу первым поднимаю руку, он – ага, один есть. А остальные молчат! А нас было восемь человек в группе. Он тогда: ну ладно, парни, раз, два, три, четыре. Выбрал сам, короче. И вот, мы впятером поехали в Анголу.
Причем мы сначала прилетели в Конго-Браззавиль. Там мы пробыли недолго, где-то с неделю – ждали провозглашения независимости Анголы, до 11 ноября. И как только это свершилось, нас сразу посадили в самолет Ан-12 и он пошел на Луанду. А когда прилетели – самолет стоит, никого нет, и что там за бортом – не известно[131].
– Назовите точные сроки Вашей командировки в Анголу.
– Прилетели мы в Луанду 11-12 ноября 1975 года, и весной, в марте-апреле 1976-го, не помню точно уже, мы улетели обратно. Пробыли там около полугода.
Как раз это был период создания ФАПЛА. Именно в нашу бытность там состоялся самый первый парад, который, собственно, снял на кинопленку по-настоящему только я. Во всех фильмах об Анголе показывали этот парад. Его снимали, только не понятно, кто и как снимал, потому что съемка сохранилась только у меня. Куда они свои экземпляры дели – не понятно. Что делать, это очень по-африкански – полный беспорядок во всем. Когда я уже приехал оттуда, мне в Москве телевидение за 20 тысяч рублей предлагало продать эту пленку с парадом. За эти деньги можно было купить две квартиры! Я не согласился: это касалось меня, это была моя память, я не хотел ее продавать. Это кино я потом на занятиях показывал своим курсантам – когда уже сам стал преподавать португальский язык в ВИИЯ. Многие из моих учеников позже тоже прошли Анголу.
– Был ли у Вас подготовлен боевой расчет на случай срочного бегства из Луанды?
– Сначала про фильм немного. У них была такая подготовка спецназа, что – в кадре это есть – когда солдат бежал, на параде, по нему стреляли из пулемета боевыми патронами. Конечно, ложилось все рядом с ногами, но вдруг у пулеметчика дрогнет рука, вдруг солдат дернется не в ту сторону? Но когда там были португальцы, подготовка спецназа проходила у них именно боевыми патронами, не холостыми, а реальными! У меня на пленке видно все это.
А что касается расчета нашего – да, такое было. Андрей Токарев должен был, отстреливаясь из пулемета, запрыгивать в самолет, который уже двигался по взлетно-посадочной полосе, Ан-12 или Ил-76. Но это, если честно, была такая глупость! Мы же не имели специальной подготовки. Хорошо еще, я имел армейскую подготовку, потому что я служил в армии, я умел обращаться с автоматом. А тот же Андрей Токарев – он ведь с гражданки поступал, и никакого понятия не имел о военной подготовке! Да, мы были в лагерях, на сборах, но в лагерях мы только учились ходить строевым шагом. Потому что в ВИИЯ, когда мы там учились, основной упор был на языковую подготовку. То есть, мы только носили погоны – а на самом деле были гуманитариями до мозга костей. Нас не загружали какими-то военными занятиями. Это сейчас в нашем институте военные занятия на первом месте.
– Применять этот расчет, как я понимаю, не пришлось?
– Нет, слава богу (улыбается).
– В чем состояли обязанности Ваши как переводчика в Анголе?
– Чем мы только не занимались! Положение в то время было угрожающим, и с юга, и с севера наступали наемники. Особенно с юга, там наступали юаровцы, плюс там был Савимби – так называемый ставленник Вашингтона, который организовал свои войска УНИТА. С севера шел Холден Роберто. Луанду просто сжимали в кольцо, ближайший фронт находился в 14 километрах от нее, с севера.
Наша задача была подготовить ангольские войска, помочь сформировать армию. Мы же сами, советские, не могли напрямую участвовать в боевых действиях! И кубинцы к тому моменту еще не подоспели, кубинцев тогда еще были единицы. И наше «мудрое» руководство – я имею в виду руководство СССР – разработало следующий план действий: доставлять на самолетах Ил-62 под видом туристов по двести кубинцев на каждом самолете. А самолеты прилетали через каждые два часа по ночам. Тоже мне, туристы – такие хлопцы бравые, с армейской выправкой! А мы должны были готовить ангольцев на зенитки, ЗУ-23, или на пушки ПТ-76, противотанковые. То есть, мы готовили расчеты разных калибров, а кубинцы поставляли живую силу.
Лично моя, например, задача была такова: подготовить ангольский боевой расчет ПТ-76. Причем у меня был соответствующий специалист, молодой парень, но так как времени нам отвели буквально неделю для подготовки этого расчета – представляете, неделю, и это на подготовку людей, которые были совершенно неграмотными – то работать с переводчиком означало тратить время два раза на одно и то же. А так как я служил в армии, с этой пушкой я был знаком, то мой специалист – не помню уже, как звали – сидел, курил, отдыхал, а я сам готовил ангольцев.
Расчет этот состоял из семи человек. И как можно было подготовить абсолютно неграмотных людей? Мы достаточно зло шутили, что это ребята, которые только слезли с пальмы и которым только что отрезали хвосты и пустили в бой. Когда мы поехали стрелять в первый раз, это была комедия! Потому что когда мы с ними готовились, то все было условно: условно заряжай, условно подноси, условно стреляй, «огонь» – но выстрела, как такового, нет. А когда поехали стрелять, они все испугались! А это уже был бой, колонна противника наступала – в то время они наступали только по дорогам, потому что влево-вправо от дороги увязала любая техника. Война шла по дорогам. Нужно было преградить колонне противника путь, подбить хоть какой-нибудь танк. Первый выстрел – и весь расчет разбежался! Когда стали искать, не нашли никого. Они настолько испугались выстрела этой пушки.
Основные тяготы отражения агрессора, как с севера, так и с юга, легли, конечно, на кубинцев. Когда уже стало понятно, что ангольцы в этой войне вообще никакие не помощники в отражении агрессии, кубинцы и технику стали привозить свою, танки Т-55 и прочее, поначалу и этого не было. То есть, кубинцы все взяли на себя. Приходило два корабля в неделю, доставляли по 50 танков на борту. Еще машины поставляли и так далее. Если б не кубинцы, Луанда была бы взята без вопросов, и пришлось бы нам срочно эвакуироваться оттуда, и Токареву – бежать с пулеметом.
– Для Вас чем отличалась служба в Анголе от службы в Сирии?
– Основное отличие заключалось в том, что в Сирии была конкретная линия фронта. Попадал в окружение, выходил из окружения, были бомбежки, танковые атаки. То есть, все было по-настоящему, война как война. В Анголе война была на тот момент фрагментарная, и скорее партизанская, все было непонятно. Едешь, например, по Луанде… Я часто ездил по Луанде, потому что я был переводчик, знал язык, у меня была машина, которую я умел водить, и мне давали карт-бланш. Наша группа сидела на базе аэродрома Луанды, и никто никуда ни в коем случае не имел права выходить за пределы базы. А мне разрешали выезжать на машине куда угодно. Я и к кубинцам ездил, и еще куда, у меня не было ограничений. Более того – периодически меня отправляли «на промысел», раздобыть еду или спиртное[132].
И вот, едешь по Луанде – а город вымирал абсолютно, и иногда раздавались выстрелы, то там, то сям. Кто стрелял, в кого стрелял – непонятно. Ангольцы – они ведь безбашенные товарищи, они могли пульнуть в кого угодно, когда угодно и откуда угодно. Едешь – и не знаешь, вернешься назад или нет. У меня всегда с собой были пистолет, автомат, ящик гранат в машине. Была такая неопределенность, откуда ждать опасности.
И в то же время – авантюризм некий. Вот едешь и думаешь: а вот туда я смогу проехать, или подстрелят? А что вот там находится?
– А как ангольцы относились к нашим советникам, переводчикам?
– Вообще, у нас с ангольцами достаточно странные отношения, и тогда были, и сейчас. Волею судеб, сейчас приходится часто общаться с ангольцами, и с посольством, и не с посольством. Как будто судьба сводит. Отношения специфические, которые поначалу складываются хорошо, а потом возникают какие-то недопонимания, и отношения ухудшаются. Начинается взаимное непонимание сути происходящего, как в Анголе, так и в России, и понять никто даже не пытается всерьез, попытаться сблизить точки зрения. Наверное, скоро Ангола отойдет от России, как все остальные страны, и будет вести какую-то свою политику.
Хотя свою политику Анголе вести трудно, потому что они этому так и не научились. Чем и хороши были для них португальцы! Настолько правильно и умно они вели свою политику в колониях, что когда они ушли из Анголы – я это воочию видел – ангольцы как будто лишились своих матерей. Потому что португальцы были для них мамами. Ангольцы работали все в сфере обслуживания, а сфера управления полностью принадлежала португальцам. И после получения независимости своей ангольцы не знали, что делать. Они до сих пор не знают, как управлять страной. Это не их прерогатива, потому что они живут еще в каком-то там пятнадцатом-шестнадцатом веке, и понять, как управлять страной, они не могут. Поэтому после того как режим более-менее устоялся, хотя война еще продолжалась – где-то уже в восьмидесятые, девяностые годы – они снова стали приглашать португальцев на управленческие должности. Потому что сами – не справляются. Однако португальцы приезжали неохотно, потому что там еще шли боевые действия.
А ведь все, что было создано в Анголе – города, инфраструктура – все это было сделано португальцами, ангольцы практически ничего не добавили. Потому они должны быть благодарны своим колонизаторам. Ангольцы сами не знали, зачем они воевали с португальцами. Просто поддались этому всеобщему настроению – «национальным революциям», «завоеванию независимости», движению «За свободную Африку». Что называется, «тлетворное влияние» всех остальных колоний – английских, французских, прочих. Потому что более умело, чем португальцы, колониями никто не управлял.
Например, на Кабо-Верде, где я потом служил, там ведь тоже была бывшая португальская колония. И политика там была совсем другая. Никакой революции, никакого массового исхода португальцев, они там как работали, так и продолжали и продолжают работать, успешно живут и процветают. И Кабо-Верде процветает так, как ни одна другая страна. Правда, хитрые кабовердианцы кричат на весь мир, что у них дети умирают от голода на дорогах, им присылают по шесть тысяч тонн зерна, они его подержат у себя, а потом раз – и продадут другим африканским странам. Так зарабатывают деньги государственной казне.
А ангольцы допустили ошибку, изгнав португальцев. И между нами – наши тоже допустили огромную ошибку, даже не попытавшись понять, как португальцы управляли своими колониями. Хотя сделать это можно было без всяких проблем. Не попытались вникнуть в суть – как работать с населением Анголы. В Генштабе у нас рассуждали как: Ангола, полезные ископаемые есть – хорошо, населения шесть миллионов – мало, что с ними делать, с этими шестью миллионами? Что скажем, то они и будут делать! Шапкозакидательское такое было отношение.
А ангольцы не такие простые, у них – характер. Они сначала улыбаются, и создается обманчивое впечатление, что ими можно руководить, как заблагорассудится. А ничего подобного! У них есть при всем при этом гордость, самолюбие, какие-то свои взгляды. И еще они чувствуют, что они богаты – а они действительно богаты, у них есть и кофе, и золото, и железо, и алмазы, и все, что хочешь. И они считают, что раз они богаты, то кто богат – тот и заказывает музыку. В чем они, собственно, порой и правы.
Поэтому отношения у нас стали достаточно натянутыми. Я работал с ангольским послом в 2008 году, с генералом Нгонго. Мы и тогда, во время моей командировки в 1975-м, были знакомы. Он и тогда был такой: вроде хи-хи, ха-ха, улыбался, только в душу к себе не пускал и позиции свои отстаивал до последнего! К ангольцам нужно найти особый подход. С ними по-простому, как наши пытались, нельзя, нужно осторожно, и кнутом и пряником – именно так и делали португальцы. Даже португальцы действовали еще тоньше.
Ко всему прочему, португальцы совсем не были расистами. У многих были жены-анголанки, они не гнушались этим совершенно, не пытались сепарироваться от местных на 100 %, как это было в других колониях. Отсюда и проявилась – если вспомнить снова Кабо-Верде – такая нация, как кабовердианцы, которые почти все поголовно мулаты, причем в них больше даже европейской крови. А отсюда – и ум, и отношение к жизни, и обучение в Португалии, и так далее. Если бы португальцы остались в Анголе, то там постепенно сложилось бы то же самое, лет через сто было бы уже не понятно, кто португалец, а кто анголец или мозамбиканец.
127
Запись сделана 23 июля 2010 года А. В. Кузнецовой-Тимоновой в Москве. Текст подготовлен к печати А. В. Кузнецовой-Тимоновой.
Впервые воспоминания А. А. Григоровича об участии в арабо-израильской войне 1972 года и в гражданской войне в Анголе, записанные Г. В. Шубиным, опубликованы в сборнике воспоминаний Куито-Куанавале. Неизвестная война. Мемуары ветеранов войны в Анголе / под ред. А. А. Токарева, Г. В. Шубина. – М.: Memories, 2008. – С. 7–28.
128
«Шестидневная война» – одна из самых коротких войн в истории, продолжалась с 5 по 10 июня 1967 года. Противниками были, с одной стороны – Израиль, с другой – Египет, Сирия, Иордания, Ирак, Алжир. Она стала результатом многолетнего политического противостояния на Ближнем Востоке. Такая невероятно скорая победа вооруженных сил Израиля над объединенной армией арабской коалиции оказалась возможна за счет быстрого уничтожения арабской авиации прямо на аэродромах Египта массированными бомбардировками израильских ВВС: в результате с оставшейся без поддержки с воздуха арабской армией израильтянам удалось справиться за 6 дней. Эта победа впоследствии была описана во многих книгах и учебниках по военному искусству. Однако повторить подобный успех армии Израиля больше ни разу не удалось. – Прим. А. К.-Т.
129
За службу в Сирии А. Григорович был награжден двумя сирийскими орденами: орденом Отечественной войны 1973 года и орденом «За Мужество». Подробнее об этом можно прочитать в сборнике «Куито-Куанавале. Неизвестная война»… – Прим. А. К.-Т.
130
Преподаватель португальского языка ВИИЯ Б. А. Кононов упоминается в воспоминаниях многих военных переводчиков – выпускников ВИИЯ. В 1983 году он служил в Анголе в качестве переводчика-референта ГВС. Б. А. Кононов является также автором учебника военного перевода португальского языка, по которому учились как курсанты ВИИЯ, так и студенты гражданских вузов. – Прим. А. К.-Т.
131
Подробнее см. в сборнике «Куито-Куанавале. Неизвестная война»… – Прим. А. К.-Т.
132
Подробнее см. в сборнике «Куито-Куанавале. Неизвестная война»… – Прим. А. К.-Т.