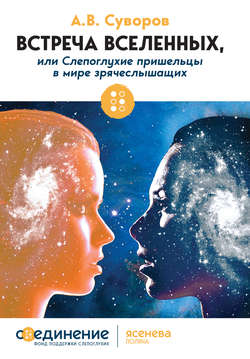Читать книгу Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих - А. В. Суворов - Страница 14
Часть вторая
Истоки человеческого
2.1. Объект одиночества – «полуживотное-полурастение»
ОглавлениеА. И. Мещеряков подчеркивал, что первейшее и страшнейшее по своей катастрофичности для развития психики социальное следствие слепоглухоты – одиночество, ведь этот ребенок лишен обычных способов общения с окружающими его людьми. При врожденной и ранней слепоглухоте немота – в смысле, отсутствие устной речи, а не речи вообще, – именно его, одиночества, следствие. Поэтому таких детей и называют слепоглухонемыми. Позднооглохших слепых, то есть тех, у кого глухота наступила после устойчивого формирования словесной речи в устной форме, называть с разбега слепоглухонемыми никак нельзя. Они – в том числе я – слепоглухие, но уж никак не слепоглухонемые. Устная речь у них более-менее сохранная.
Все наши беды – следствие объективного и субъективного одиночества. Первое, которое А. И. Мещеряков характеризует как абсолютное, не осознается, и потому не переживается. Слепоглухонемой ребенок – объект, но не субъект своего одиночества. Именно в качестве такого объекта он представляет собой то самое существо, которое в многочисленной литературе описывается как «полуживотное-полурастение». В связи с этим А. И. Мещеряков обсуждает, чем отличается человеческое одиночество от зоологического. Пытливые умы издавна задавались загадкой: развились бы у человека речь, ум, способности, если бы он со дня рождения рос в полной изоляции от других людей? А если нормально развитого человека поселить в изоляции от людей, например, на необитаемом острове, утратит ли он, сохранит или даже, может быть, разовьет свои человеческие качества?
Для большей наглядности дадим слово Б. Ф. Поршневу:
«В XVIII в. великий естествоиспытатель Карл Линней, впервые отважившийся включить вид „человек разумный” (Homo sapiens) в систематику животных, выделил в качестве вариации (или разновидности) этого вида „человека одичавшего” (Homo ferus), иными словами, те несколько известных к его времени случаев, когда дети человека были вскормлены вне человеческой среды дикими животными… Обобщение Линнея гласило, что в этих случаях одичавший человек не обладает речью и человеческим сознанием, даже ходит на четвереньках… Во всех достоверных случаях похитителями и „воспитателями” были дикие хищные животные, чаще всего волки, но в некоторых случаях медведи и даже леопард… Высокая приспособляемость человеческого мозга сказывалась в том, что ребенок, усвоив крики и повадки, вызывавшие у животного соответствующий рефлекс, принуждал его кормить себя таким образом на протяжении двух, трех и более лет… Почему они ходили на четвереньках? Главной причиной, очевидно, было то, что „пробы и ошибки” показывали бо́льшую приемлемость такой позы для хищников-кормильцев. Выпрямленное положение могло вызывать в них оборонительный рефлекс, ослаблять рефлекс кормления. Впрочем, не забудем и о том, что наших детей мы в определенном возрасте учим ходить: их анатомия и физиология приспособлены к двуногому передвижению при условии подключения на нужном этапе такого фактора, как показ и научение…».[13]
Наиболее известна находка двух девочек в 1920 году. в Индии в волчьей берлоге вместе с выводком позже родившихся волчат. Одной было лет семь-восемь, другой – около двух. Будучи доставленными в воспитательный дом, они сначала ходили и бегали только на четвереньках, причем только в ночное время, а в течение дня спали, забившись в угол и прижавшись друг к другу, как щенята. Да со щенятами они и чувствовали себя лучше, чем с детьми. По ночам выли по-волчьи, призывая свою приемную мать и всячески стараясь убежать обратно в джунгли. Воспитатели настойчиво работали над их «очеловечением». Но младшая, названная Амалой, умерла через год. Старшая, Камала, прожила еще девять лет. Добрых пять лет ушло, пока она научилась ходить прямо. Говорить же и понимать человеческую речь она училась очень медленно. Поистине силы ее ума были истрачены на приспособление к среде совсем иного рода. Достигнув примерно семнадцатилетнего возраста, она по уровню умственного развития напоминала четырехлетнего ребенка.
В известной мне литературе состояние «полуживотного-полурастения», или, по Соколянскому, «двигательной смерти», ярче всего описывает Э. В. Ильенков.
«Непосредственная причина этого явления – слепоглухота… Получена ли она от рождения или обретена в раннем детстве в результате болезни или несчастного случая – это дела не меняет, ибо при рано наступившей слепоглухоте очень быстро деградируют и атрофируются все те намеки на человеческую психику, которые едва успели возникнуть до этой беды, и ребенок становится подобным некоему человекообразному растению, чем-то вроде фикуса, который живет лишь до тех пор, пока его не забыли полить. И это при вполне нормальном (с биологической, с медицинской точки зрения) мозге. Мозг продолжает развиваться по программам, закодированным в генах, в молекулах дезоксирибонуклеиновых кислот. Однако в нем не возникает ни одной нейродинамической связи, обеспечивающей психическую деятельность. Он так и остается лишь органом управления процессами, протекающими внутри тела ребенка, – процессами кровообращения, пищеварения и выделения, газообмена, терморегуляции, работой эндокринной системы и т. д., а они протекают без участия психики и в ней не нуждаются. Нет в ней необходимости – и она не возникает, хотя все морфофизиологические предпосылки для этого налицо».[14]
Исходя из этого, ученые приходят к выводу, что мозг человека изначально, от рождения, не является органом речи и мышления, а становится им прижизненно. Органом мышления и речи, вообще психики, мозг делают специфически человеческие отношения и взаимосвязи.
А. И. Мещеряков по этому поводу указывал:
«У предоставленного самому себе человека не развивается человеческая психика. Вспомним хотя бы Каспара Гаузера, которого в раннем детстве заключили в тюрьму, где он не видел, не слышал, не осязал людей. Развитие психики мальчика было приостановлено, и, когда в семнадцатилетнем возрасте его освободили, психика этого теперь уже юноши оказалась на уровне ребенка того возраста, в котором его оставили в одиночестве, если не ниже». (Наверняка ниже, потому что человек не чемодан, ждущий востребования из камеры хранения. Невостребованный общением человек деградирует. – А. С.)[15]
Формулируя самые фундаментальные аксиомы педагогической антропологии – теоретического фундамента педагогики, – академик Б. М. Бим-Бад пишет:
«У предоставленного самому себе человека не развивается человеческая психика, так как собственно человеческих наследственных форм поведения у детей нет. Среди волков, например, человеческий ребенок становится по своей психике и поведению волком… Человека делает человеком присвоение системы важнейших основных элементов исторически накопленной культуры… Но это должно быть не пассивное присвоение, а активное действование… Развитие человека происходит в процессе овладения им как орудиями, так и знаками путем обучения. Именно поэтому обучение занимает центральное место во всей системе организации жизни ребенка, определяя его развитие… Воспитывающее обучение ведет человека от „просто знания” к познанию (применению знаний на практике)».[16]
Слово «орудие» в данном случае употребляется в расширительном смысле. Им обозначается все, что опосредствует удовлетворение потребностей человека общественно выработанным способом. Это и сделанные человеком для человека предметы (ложка, одежда, жилище и т. д.), и нормы поведения (режим, правила, обычаи и т. д.). Очевидно, к «орудиям в расширительном смысле» относятся и всевозможные знаковые системы.
Когда я был одним из четырех слепоглухих студентов факультета психологии МГУ, к нам пришел студент-кибернетик и сказал, что хотел бы побеседовать с Ильенковым, дабы убедить его в возможности конструирования машины умнее человека. Студент в такой возможности сам ничуть не сомневался. Он подкараулил Ильенкова, когда тот зашел к нам в гости.
– Так ты уверен, что можно сделать машину умнее человека? И берешься за это? – спросил его Ильенков.
– Да! – храбро ответствовал студент.
– Делай! – отрезал Ильенков. И больше не обращал на него внимания. Продолжил какой-то разговор со мной…
Психика – не жидкость или газ, выделяемый организмом. Психика – это жизнедеятельность, а именно деятельность, обеспечивающая жизнь. И в чисто зоологическом, и в человеческом смысле слова «жизнь». В наброске «К разговору о Мещерякове» Ильенков формулирует предельно ясно:
«…Психика от начала до конца есть функция и производное от внешнего действия организма, то есть от его передвижения во внешнем пространстве, заполненном предметами, то есть передвижения, схемы и траектории [которого] не записаны в структурах мозга и не могут быть записаны по той простой причине, что они каждый раз индивидуальны, неповторимы и потому неожиданны… Значит, первая задача – сформировать психику вообще, то есть психику в ее элементарной – животной – форме. Превратить растение в животное».[17]
О том, как именно «растение превращается в животное», подробно и очень ярко рассказывает Мещеряков на примере слепоглухонемой девочки Нины Х. Когда ее обследовали в одном из детских домов, обычное ее положение и времяпрепровождение были таковы: она сидела в кроватке, раскачивая туловище вперед и назад, иногда останавливалась, как бы прислушиваясь; покачивала головой два-три раза из стороны в сторону и вновь начинала раскачиваться; при наклоне вперед громко выпускала воздух сквозь стиснутые зубы. Из положения лежа могла самостоятельно сесть. Самостоятельно обычно не ложилась: даже если засыпала, то дремала сидя. Умела стоять, держась за опору, но самостоятельно никогда не вставала. Если ее поставить и оставить без поддержки, сразу же садилась.
При прикосновении к ней с целью одеть, раздеть или задержать ее раскачивание девочка на какое-то мгновение замирала, как бы чего-то ожидая, а потом начинала хныкать или ныть. Если ее оставляли в покое, нытье прекращалось. Вставать, ходить, самостоятельно есть, пользоваться горшком, одеваться, раздеваться она не могла. Она не брала и не ощупывала ни одного предмета.
Любой предмет, вкладываемый ей в руку (кроме соски), она вяло выпускала из рук, а при повторном вкладывании отталкивала, у нее не было никаких попыток ощупать игрушку или любую другую вещь, даже если эту вещь вкладывали ей в руку.
«Специальными приемами мы пытались развить активность ребенка при еде. Кормление производилось маленькой ложкой. Лишь первая ложка опрокидывалась в рот при полной пассивности ребенка. Вторая ложка вводилась в рот и не сразу опрокидывалась, а тогда, когда девочка верхними зубами и верхней губой захватывала пищу, после чего ложка выводилась изо рта, а пища, захваченная верхней губой, оставалась во рту. Это было уже проявление первой пищевой активности ребенка, и эту активность ни в коем случае нельзя было пропустить и угасить. (Вот, уже при формировании психики вообще, зоопсихики, звучит это настойчивое предостережение – не пропустить, не угасить ее самые первые проявления. – А. С.) Следующая ложка уже никак не должна быть просто опрокинута в рот: с этой ложки ребенок должен взять пищу активными движениями губ. Так, постепенно и дозированно, задерживая момент опрокидывания ложки в рот, формировалось активное движение верхней губы, а впоследствии и такое сложное движение, как отхлебывание, то есть. введение пищи в рот с ложки активными движениями верхней и нижней губы вместе со струей воздуха».[18]
Постепенно и медленно увеличивалось активное движение рта и головы ребенка при приеме пищи. Ложка уже не вносилась в рот ребенка, а лишь подносилась ко рту и чуть касалась его губ в разных местах. В ответ на это ребенок осуществлял реакцию захвата пищи. Таким образом формировалась, а в дальнейшем и расширялась зона сигналов, вызывающих реакцию захвата пищи.
Дальше начал меняться сам способ сигнализации. Были сделаны попытки научить ребенка реагировать на запах пищи, подносимой ко рту, на ощущение тепла от пищи. К движениям головы и губ ребенок с помощью взрослого добавил движение своей руки, которая следовала за кормящей рукой взрослого, а потом постепенно должна была и заменить ее. Принципиальный момент: ложка еще в руке взрослого, а не самого ребенка, но рука ребенка уже следит за траекторией движения кормящей руки взрослого. Так ребенок постепенно должен научиться подносить ложку ко рту, и открывание рта согласовывать с положением руки в пространстве. В этом случае создается сложный комплекс согласованных движений руки, головы и рта, нужный для правильного осуществления процесса еды.
Аналогичная история случилась и с Ритой Л. Она поступила в детский дом из семьи в возрасте 2 года 8 месяцев с диагнозом «врожденная глухонемота и врожденная катаракта обоих глаз». При обучении ее владению ложкой во время еды можно было видеть, насколько ложка является искусственным и, в общем-то, довольно неудобным орудием приема пищи. Девочка никак не могла понять, зачем нужна эта неудобная штука, которую надо как-то по-особому держать – что необыкновенно трудно, – из которой всегда все вываливается и проливается и которой так трудно попасть в рот. (От себя отмечу, что с вилкой дело обстоит еще хуже. Я лично так и не смог подружиться с вилкой. Даже курицу и сосиску предпочитаю поддевать ложкой. – А. С.)
Первое время Рита активно отталкивала ложку и брала пищу из тарелки только руками. Но педагог вновь и вновь вкладывал ложку в руку девочки и своими пальцами удерживал ложку в руке ребенка. Держа в своей руке руку Риты, в которой находилась ложка, педагог зачерпывал пищу и подносил ее ко рту девочки. При таком совместном действии, при котором пока еще ребенок не был активным, пища попадала в рот в большем количестве, чем при еде рукой, и Рита уже не сопротивлялась. Приучив девочку брать ртом пищу с поднесенной к ее рту ложки, воспитательница начала уменьшать свою активность. Зачерпнув ложку и поднеся ее ко рту ребенка, она попробовала разжать свою руку, предоставляя девочке самой удерживать ложку у рта. Девочка вслед за этим сразу же опускала свою руку с ложкой, не успев схлебнуть пищу. Пища проливалась. Тогда воспитательница только ослабляла свой захват, потом только поддерживала, потом только прикасалась к руке, как бы поддерживая, а потом и совсем отпускала. Постепенно девочка научилась удерживать ложку у рта до тех пор, пока еда не попадала ей в рот.
Зачерпывание пищи оказалось наиболее трудной операцией в овладении ложкой. Во-первых, само движение зачерпывания довольно сложное (вращение кисти); во-вторых, между этим движением и попаданием пищи в рот нет прямой связи (психологически эта связь более отдалена, чем, например, между движением руки ко рту и попаданием пищи в рот).
При каждом «удобном» случае ребенок стремился заменить это движение другим, более для него простым и понятным. Как только обнаруживалось, что консистенция пищи позволяла брать ее рукой, девочка сразу же захватывала еду левой и тащила ее в рот. При этом правая рука с ложкой или совершенно бездействовала, или совершала какие-то движения, которые не достигали цели, то есть. деловым образом девочка действовала левой рукой, но при этом производила какие-то непонятные манипуляции правой рукой, держащей ложку, подчиняясь требованию воспитательницы.
В дальнейшей операции по овладению ложкой девочка сделала еще одну уступку, лишь бы избежать трудного движения зачерпывания: держа ложку правой рукой, она левой рукой накладывала из тарелки пищу в ложку и потом несла ложку ко рту, придерживая ее левой рукой. (Мне, например, подсказали с той же целью – для накладывания второго блюда в ложку левой рукой – использовать кусок хлеба. – А. С.)
Рита сначала, опрокинув содержимое ложки в рот, отпускала ложку. Уж теперь-то, когда в ней пищи не было, эта вещь явно была не нужна, и ложка падала. То же самое было и с чашкой: отхлебнув немного киселя или молока из чашки, девочка выпускала ее из рук. А прожевав и проглотив пищу, искала новую ее порцию. Потом Рита научилась отставлять чашку и класть рядом с тарелкой ложку. И лишь специально придерживая руку ребенка и постепенно ослабляя это придерживание, ее приучили держать в руке ложку, не бросая, пока не прожуется первая порция пищи, чтобы потом зачерпнуть и поднести ко рту следующую порцию.
Крайне важно во всей этой ситуации направлять активность ребенка по естественному руслу. Например, Нине Х. первоначально не повезло: ее не учили стоять, ходить, одеваться, раздеваться, садиться на горшок. Все это осуществлялось в быстром темпе, без учета нужд ребенка. (Та же проблема стоит и у части взрослых слепоглухих: зрячеслышащие навязывают им свои темпы движения и стереотипы восприятия, что может привести к травмам и, в конце концов, гасит собственную активность у даже взрослых слепоглухих. Я испытал такое отношение даже на себе – в больнице, например, где мне меняли постель, не давая встать с кровати, хотя мое состояние позволяло встать, пусть и медленно. Неопытный зрячеслышащий сопровождающий не тормозил при спуске с тротуара, и я с разбегу падал, разбивал колени и рвал одежду. – А. С.)
В итоге для девочки это был сплошной хаотический и непонятный поток прикосновений, в результате которых она то замирала от страха, очутившись в воздухе без твердой опоры, когда ее переносили, то попадала в воду при купании, то ее одевали, то раздевали. Естественная первоначальная активность ее, если она в какой-то степени и существовала, была стойко угашена. Необходимо было определить возможность и пути развития двигательной активности ребенка. Обследование показало, что двигательную активность сформировать и развить вполне возможно.
Обычно, когда Нину надо было переместить с места на место, ее быстро брали руками под мышки, поднимали, переносили и сажали. При этом Нина сохраняла в воздухе то же положение ног, которое у нее было, когда она сидела в кроватке. Для того чтобы преодолеть поджимание ножек, к их подошвам приставлялась опора (хотя бы рука воспитателя), и подъем туловища осуществлялся в замедленном темпе. Ребенок, чувствуя под ногами постоянную опору, начинал разгибать ноги, туловище уходило от опоры, а ноги оставались на ней. В дальнейшем воспитатель постепенно начинал поддерживать туловище ребенка все слабее и слабее.
Со временем доля активности ребенка постепенно увеличивалась. Воспитатель помещал свои руки под мышки ребенка и начинал его поднимать, однако подъем намеренно осуществлялся медленно и слабо, при этом ребенок сам, силой своих мышц начинал помогать подъему.
Таким образом, во всех этих историях зарождалось совместное действие взрослого и ребенка: взрослый его начинал, ребенок продолжал. И это важнейший этап первоначального обучения слепоглухонемого ребенка.
13
Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1966. Цит. по: Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология: Учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. С. 58–59.
14
Ильенков Э. В. Становление личности: к итогам научного эксперимента // Коммунист. 1977. № 2. С. 68–69.
15
Мещеряков А. И. Слепоглухонемые дети… С. 310–311.
16
Бим-Бад Б. М. Педагогическая антропология… М.: Юрайт, 2015. С. 38.
17
Ильенков Э. В. Школа должна учить мыслить! М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК». 2002. С. 98.
18
Мещеряков А. И. Указ. соч. С. 85–89.