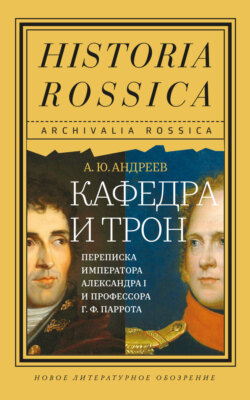Читать книгу Кафедра и трон. Переписка императора Александра I и профессора Г. Ф. Паррота - А. Ю. Андреев - Страница 5
Исследование
Профессор и император в 1802–1812 гг.: десять лет личных встреч и общения
ОглавлениеПереходя непосредственно к рассказу о дружбе Паррота и Александра I, хотелось бы прежде всего привести некоторые общие сведения, описывающие характер их отношений. С мая 1802 г., когда состоялось их знакомство, и до марта 1812 г., когда они виделись в последний раз, профессор регулярно встречался с российским императором. Специально ради этого Паррот восемь раз приезжал в Петербург – и в учебное время (официально оформляя свое отсутствие в университете, с октября по декабрь 1802 г., с июля по сентябрь 1803 г., в первой половине октября 1810 г.), но наиболее часто – во время зимних каникул, прибывая под Новый год и стараясь уехать в течение месяца, чтобы успеть к началу весеннего семестра, хотя иногда приходилось вынужденно задерживаться (это были визиты с января по май 1805 г., в январе 1806 г., с января по март 1807 г., в январе 1809 г. и с января по март 1812 г.). Его личные встречи с Александром I происходили или сразу по прибытии, или спустя долгий период ожидания, и в любом случае не так часто, как хотелось бы самому Парроту (и как просил он в своих письмах). Только за долгое пребывание в 1805 г. Александр принял его пять (или, возможно, даже шесть) раз, в 1807 и в 1812 гг. – по четыре раза, но во все остальные петербургские визиты профессор имел не более двух встреч с императором, поэтому цитированное выше высказывание М. А. Корфа, будто бы Паррот в любой момент мог идти «прямо в государев кабинет», явно преувеличено.
Что же происходило на этих встречах? Какое влияние они имели на самих участников? Каково было значение переписки, которая поддерживала связь между обоими друзьями тогда, когда они находились вдали друг от друга? Наконец, имели ли эти отношения какое-либо воздействие на решения государственного масштаба? Чтобы проанализировать это, необходимо сперва подробнее остановиться на некоторых важных особенностях характера, которыми обладал венценосный друг профессора.
Личность и царствование императора Александра I многократно привлекали внимание историков благодаря политическим реформам и проектам, ставившим целью, базируясь на общих либеральных принципах, модернизировать Российскую империю. В своих стремлениях Александр I был не одинок, у него имелась возможность опереться на определенный слой просвещенной элиты, способной помочь ему в разработке и проведении реформ. Конкретные отношения с отдельными представителями этой элиты у Александра I складывались по-разному, тем не менее традиционно выделяется круг людей, в которых видят «друзей императора» (а применительно к началу царствования даже специально используется термин «молодые друзья», под которыми обычно понимают членов так называемого Негласного комитета[17]).
Участие личных друзей Александра I в государственных реформах можно назвать одной из особенностей его царствования. Назовем здесь имена князя А. Чарторыйского, П. А. Строганова, Н. Н. Новосильцева, В. П. Кочубея, Ф.-С. Лагарпа, В. Н. Каразина, а для более позднего периода – князя А. Н. Голицына. Императора несомненно объединяли с этими людьми общее мировоззрение и политические принципы. В беседах с ними в юношеские годы Александр находил поддержку своим либеральным идеям. Достаточно вспомнить его памятную встречу с Чарторыйским в мае 1796 г. в саду Таврического дворца[18]. Другим значимым примером служат отношения харьковского помещика В. Н. Каразина с российским императором, которые начались в первые же недели царствования Александра I с того, что он обнаружил на своем столе письмо Каразина, где пылко высказывались доводы в пользу необходимости скорейшего освобождения крестьян. Каразин затем был приближен Александром I к себе и мог навещать его кабинет для бесед, получив фактически роль «доверенного лица» императора в различных вопросах. Особенно весомым оказался вклад Каразина в дело народного образования при основании нового университета в Харькове[19]. Наконец, огромное значение имеет многолетнее общение Александра I и швейцарца Ф.-С. Лагарпа, который не только был наставником царя с самых ранних лет его жизни, но и потом сохранил с ним тесные дружеские связи, а после восшествия того на престол посылал ему письма и мемории с советами, касавшимися различных сторон политической жизни России и Европы в целом. В совокупности эта переписка представляет собой свыше трехсот писем и ста сопровождавших их документов, являющихся весьма информативным источником, который прекрасно показывает и с какой степенью полноты и искренности можно было обсуждать с Александром I проблемы российских реформ, и каким образом царь выстраивал личные отношения со своими собеседниками[20].
Но важно подчеркнуть и иной аспект: Александр I и сближавшийся с ним друг представляли свои отношения не только как общность мыслей и идей, но и как совместные переживания, взаимные чувства – уникальные для двоих, которыми именно поэтому можно со всей полнотой души делиться друг с другом. Об этом, например, ясно свидетельствует Чарторыйский, вспоминая слова Александра, что «свои чувства он не может доверить никому без исключения, так как в России никто еще не был способен их разделить или даже понять их», и князь «должен был чувствовать, как ему будет теперь приятно иметь кого-нибудь, с кем он получит возможность говорить откровенно, с полным доверием»[21]. В том же ключе более поздняя переписка Александра I с Голицыным наполнена не просто изложением идей Священного союза, но живыми религиозными переживаниями, которые император стремился поверять своему другу[22].
Примеры сочетания в отношениях с Александром I, с одной стороны, идейной близости, а с другой – чувствительности хорошо демонстрирует его переписка с Ф.-С. Лагарпом в 1795–1797 гг. О том, что мировоззрение молодого великого князя в этот период полностью находилось под влиянием идей, переданных швейцарским просветителем, говорит сам Александр, когда в письме, отправленном в момент расставания с наставником, признается, что обязан ему «всем, кроме рождения своего на свет» (эту формулу в отношении Лагарпа Александр будет еще неоднократно повторять в разных обстоятельствах); венцом же их идейной близости послужит знаменитое письмо Александра от 27 сентября / 8 октября 1797 г. с обсуждением замысла и просьбой о советах Лагарпа относительно будущей российской конституции[23]. Лагарп с торжеством признавал эту идейную общность, говоря, что страницы таких писем Александра «достойно отлить в золоте». Одновременно во многих своих письмах он показывал и душевную близость к ученику: «Ваши речи, Ваши чувства, все, что до Вас касается, навеки в сердце моем запечатлены. <…> О дорогой мой Александр, позвольте назвать Вас так, дорогой мой Александр, сохраните дружеское Ваше расположение, кое Вы мне столько раз доказывали, а я Вам до последнего вздоха верен буду»[24]. И Александр платил ему той же монетой – особенно показательно в этом смысле письмо к Лагарпу от 13 октября 1796 г., в котором великий князь в тяжелой для него ситуации последних месяцев царствования Екатерины II сдерживает себя от изложения каких-либо суждений, но дает волю излияниям своих чувств: «Учусь в тишине, наблюдаю, сравниваю, делаю выводы не всегда приятные, однако надеждой смягчаемые. Надежда, по мнению моему, есть душа жизни; вовсе несчастливы были бы мы без нее. Она-то мне и служит поддержкой и позволяет думать, что даровано мне будет счастье с Вами еще раз свидеться, любезный друг мой. Ах! сколько бы я таким свиданием был утешен. Одна мысль об этом меня чарует, и нередко ей предаюсь. Рассказал бы Вам о многом. Ах! почему Вы так далеко!.. Право, мог бы я сочинить целый трактат о терпении; ибо мне его очень много требуется. Будем надеяться, вот мой вечный припев. Спросите сердце Ваше и чувства, они Вам доскажут то, о чем я молчать должен»[25].
Добавим к этому, что именно Лагарп сознательно развивал у юного Александра культ дружбы, учил, что она есть «драгоценное достояние человека» и отвечает естественному побуждению человека «раскрыть душу», но в то же время предупреждал его, что друзья будут склонны злоупотреблять доверием императора, а потому сближаться с ними нужно «с великой осмотрительностью», выбирая «по преимуществу людей скромных»[26]. Можно подчеркнуть, что наставления Лагарпа не только наполняли мировоззрение Александра идеями эпохи Просвещения, но также и воспитывали его характер в духе сентиментализма.
Все это надо учитывать, чтобы верно оценить умонастроения и эмоциональные порывы души Александра I в тот момент, когда зарождалась его дружба с Парротом. Императору тогда было 24 года (т. е. на десять с половиной лет меньше, чем профессору), и в мае 1802 г. он отправился из Петербурга в свое первое заграничное путешествие – в прусский Мемель, чтобы встретиться там с королем Фридрихом Вильгельмом III и заручиться союзом с ним. Но дружеские отношения, к которым открыто было сердце молодого императора, подстерегали его на этом пути еще раньше, внутри границ Российской империи.
22 мая 1802 г. Александр I прибыл в Дерпт. Поскольку это одновременно была и первая его поездка по стране после восшествия на престол, то неудивительно, что царь не ограничился проездом через город, а решил в нем остановиться и посетить только что возникший университет. Профессора и университетское начальство (кураторы) узнали об этом накануне и пребывали в волнении. Решено было, что кураторы встретят Александра I на площади перед ратушей, чтобы от лица дворянства остзейских провинций выразить благодарность за открытие университета, а затем проведут в аудиторию, где собраны профессора и студенты. Именно от их имени должна прозвучать кульминация праздника – торжественная речь, обращенная к Александру I. Произнести ее поручили Парроту.
Надо сказать, что выбор этот напрашивался сам собой. Паррот к тому моменту стал деканом философского факультета, т. е. получил все права говорить от лица корпорации, а также прекрасно владел требуемым для этой речи французским языком и не только: зная о симпатиях Александра I к идеям Просвещения, именно он мог подобрать достойные того выражения (правда, кураторы до последней минуты пытались проконтролировать конкретное содержание речи[27]). И его слова действительно произвели на императора сильное впечатление. Начав с обычных похвал монарху-благодетелю, Паррот затем торжественно выразил надежду на то, что наступившее царствование облегчит участь крепостных крестьян, которых «феодальная система обрекла на жизнь весьма скудную», а также произнес клятву университета, что тот положит все силы ради блага «человечества во всех его классах и формах» и будет «бедного отличать от богатого, а слабого от могущественного для того лишь, чтобы бедному и слабому участие выказывать более деятельное и заботливое»[28].
Несомненно, что Александра I привлекли энергия и либеральный запал профессора – они не только соответствовали его собственным надеждам на реформирование России, но и доказывали, что при проведении политики реформ царь обретет себе деятельных помощников. Иными словами, он нашел в Парроте те же черты, какие видел у своих друзей по Негласному комитету или у Каразина. Речь Паррота так понравилась Александру I, что он попросил для себя ее письменный текст, не подозревая, что тот существует лишь в виде небольшого чернового листка, сложенного со всех сторон так, чтобы поместиться в шляпу (Паррот потом бережно хранил его). Но как только коляска с императором скрылась из виду под прощальные возгласы профессоров и студентов, Паррот тут же побежал к себе и снял со своего листка беловую копию (также сохранившуюся среди бумаг Паррота), а уже с нее сделали список для императора, успев вручить ему на следующей почтовой станции.
Успех Паррота означал для него и нечто большее: как он неоднократно потом подчеркивал, в самом взгляде императора чувствительное сердце профессора прочитало признание правоты собственных слов и любовь к общему благу. Это внутреннее переживание заставляло Паррота стремиться продолжить общением с царем – на письме, но втайне мечтая о личном разговоре. Многое способствовало тогда воплощению этой мечты, а в иных случаях Паррот готов был обращать в свою пользу любые поводы. Уже 28 июня университет избрал его (вот еще одно следствие успеха!) проректором, т. е. главой всей профессорской корпорации, которая в это самое время начала противостояние с кураторами по вопросам университетских прав и привилегий (о чем подробнее – в следующем параграфе). Решение этого вопроса с 8 сентября 1802 г. оказалось в руках созданного по указу Александра I Министерства народного просвещения. Так служебные устремления Паррота совпали с его личными, поскольку вели проректора в Петербург.
Но и до этого Паррот уже нашел два способа, чтобы напрямую обратиться к Александру I. Еще весной от императора в Дерпт официальным путем поступило сочинение брауншвейгского ученого Э. А. Циммермана (написанное, очевидно, по российскому заказу), в котором обсуждалась организация в Лифляндии университета. Паррот воспользовался этим и составил огромный отзыв (на 27 листах), где, далеко выходя за рамки университетских вопросов, значительную часть посвятил описанию бедственного положения прибалтийских крестьян и доказательству необходимости отмены крепостного права, которое должно происходить через постепенное предоставление латышам и эстонцам свободы и земли в собственность, дарование защищающих их законов и судов, а также развитие народного образования, поскольку только это позволит им стать настоящими гражданами своей страны. 11 августа труд Паррота (от имени всего философского факультета) был послан Александру I, благодаря чему тот впервые мог познакомиться с развернутым изложением проблем крепостного права в Прибалтике и способов их решения. Это безусловно возвысило оценку Паррота в глазах императора, а особенно значимым для автора стало то, что Александр собственноручно написал ему письмо, где выразил свое согласие с содержанием отзыва, «наполненного идеями столь же просвещенными, сколь и благотворными». Поэтому 30 августа, в день тезоименитства императора, Паррот решился обратиться к нему с новым посланием, основной сюжет которого затрагивал личное здоровье государя – это была та самая записка о вреде шерстяных фуфаек, в которой профессор трогательно беспокоился, чтобы фуфайки эти не превратились для Александра в «медленный яд», объяснял, как правильно от них отказываться, а для того даже пересылал изготовленное его женой трико специальной вязки. При этом в заключительном абзаце письма затрагивалась и наиболее волновавшая всех профессоров тема – «несовершенство устройства» университета в Дерпте, исправить которое может только император, для чего необходимы его личные консультации с одним из университетских ученых.
Именно с этой целью 5 октября 1802 г. Паррот выехал в Петербург. Отметим, что в его поступке содержался немалый риск: никто не мог гарантировать, что он добьется для университета искомых решений, выступая с инициативой против воли своих начальников. Вероятно, поэтому, официально извещая корпорацию о своем отъезде, Паррот назвал его причиной «личные обстоятельства», т. е. по сути обманывал не только кураторов, но и своих товарищей. Но профессор готов был пойти на этот риск ради главного – надежды на личную встречу с императором. Козырем, который он вез с собой, был его давний друг Георг фон Сиверс, окончивший в 1799 г. Пажеский корпус и сохранивший связи при дворе. В первые же свои дни в Петербурге они нанесли визиты знакомым, постоянные контакты с которыми профессор будет поддерживать и в дальнейшем (среди них – видный чиновник Коллегии иностранных дел Христиан Бек, польский аристократ граф Людовик Платер, придворный художник Герхард фон Кюгельген). Благодаря им Паррот с каждым днем приближался к своей цели: Бек представил его В. П. Кочубею и М. Н. Муравьеву (товарищу министра народного просвещения), а Платер – Чарторыйскому и Новосильцеву. 13 октября через Кочубея Паррот передал письмо для Александра I – еще один блестящий образец красноречия с целью убедить царя в том, что Дерптскому университету необходим Акт постановления, высочайше утвержденная грамота с перечислением всех университетских привилегий, которые бы позволили уберечь ученых от «коварных заговоров» врагов Просвещения. Александр I явно счел доводы убедительными: 18 октября он передал через Новосильцева, что готов принять Паррота лично, Чарторыйский же обещал перед этой встречей обсудить предварительный текст Акта с императором и даже успел сообщить его поправки Парроту[29].
Но Парроту и этого оказалось мало для первой личной встречи с Александром I. По собственному почину он вмешался в обсуждение острого вопроса, касавшегося Лифляндии. Речь шла о причинах и следствиях так называемого Каугернского восстания (9–10 октября 1802 г.) – возмущения крестьян-латышей в Вольмарском уезде, вину за которое Паррот целиком возлагал на местных помещиков и судей. Он почувствовал, что должен стать «защитником страдающей нации»[30]. Профессор умолял Чарторыйского и Новосильцева сообщить это его мнение государю, а потом, выяснив максимум подробностей через Бека, составил записку, обличавшую истинных виновников.
Таким образом, держа в руках сразу два документа, направленных на защиту прав «угнетаемых» и демонстрировавших либеральные взгляды автора, Паррот впервые пересек порог императорского кабинета. Это произошло 26 октября 1802 г. Неудивительно, что Александр I, извещенный об обсуждаемых темах, встретил Паррота словами: «Вас ненавидят, потому что Вы служите человечеству. Ваши враги без устали работают против Вас. Но рассчитывайте на меня – у нас одни и те же принципы, мы идем по одной дороге»[31].
Действительно, Паррот получил от императора полное одобрение тем идеям, с которыми явился. Но не менее важной оказалась и эмоциональная сторона разговора, изображение которой, правда, дает только сам Паррот, в своих мемуарах описывая ключевые штрихи возникавших личных отношений. Поприветствовав профессора, Александр протянул ему руку. «Я схватил ее, чтобы прижать к сердцу, – пишет Паррот. – Я уже принадлежал ему. Он однако же подумал, что я хочу ее верноподданно поцеловать, и отдернул ее. В одно мгновение укоризненный взгляд с моей стороны известил его об ошибке. Он протянул мне ее снова. Я прижал ее к сердцу с неизъяснимым чувством. Он взял меня за плечи, обнял с нежностью обеими руками и повел на несколько шагов прочь от места этой сцены. – О, Природа! Не существует препятствий, коих не могли бы преодолеть сердца, которые Тебе принадлежат. Как чудесно поняли мы друг друга!» При расставании же Паррот сказал императору, что готов ради него пожертвовать жизнью, и наблюдал ответную реакцию Александра: «Он закрылся рукой, затем схватил мою руку обеими своими и долго удерживал с неописуемым выражением лица», так что Паррот вынужден был освободиться из этого «сладкого плена». «Прощайте, – сказал император с нежностью, бросился мне на шею, прижал меня к сердцу и поспешил вон из комнаты с глазами, мокрыми от слез. Еще пару слов, сказанных им на удалении, я не смог разобрать»[32].
В мемуарах Паррот предельно ярко выразил дискурс взаимных чувств между ним и императором: «Каждый человек, – рассуждал профессор, – переживает очень счастливый период в своей жизни, период первой любви, в котором есть мгновение наивысшего восторга, когда его девушка говорит ему: „Я люблю тебя“. Нечто подобное было в моем тогдашнем положении, хотя и совсем по-другому. Любящие уединяются друг с другом, погруженные в их любовь, их счастье только для них. У меня же все было наоборот: я принадлежал всему человечеству, братался с тысячами, которым я теперь мог плодотворно служить. К этому возвышенному чувству примешивалась и самая нежная и твердая привязанность к человеку, которому я теперь особенно принадлежал и который так же точно мне принадлежал, и тем самым в моей груди соединялось все, что может сделать человека счастливым»[33].
Подчеркнем, что аналогия, которую Паррот приводит для характеристики своих чувств («любовь к девушке»), четко использована им не в сопоставительном, а в противительном смысле. Речь тем самым идет не об обычной любви, а о ее высшем, целомудренном содержании, когда через любовь к конкретной личности человек постигает любовь к ближнему вообще – к тем миллионам людей, которых Паррот теперь ощущает как братьев и служению которым он намерен посвятить жизнь. Стоит ли напоминать, насколько эти слова близки программным изречениям эпохи романтизма («Seid umschlugen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt!»[34]).
Новый дискурс отношений будет четко проявляться теперь и в личной переписке (разрешение на которую дал император). Если первые обращения Паррота к царю в августе 1802 г. и ответное письмо Александра еще содержали формальные черты и по сути являлись общением между российским императором и проректором Дерптского университета, то затем всякая формальность исчезает из переписки, а ее стиль и обороты речи становятся предельно возвышенными и трогательными. Слова «любовь», «возлюбленный»[35] будут дальше постоянно употребляться Парротом при обращении к Александру I, но при этом зачастую через запятую с упоминанием любви к людям как к братьям, любви царя к народу, любви к истине и справедливости, указывая именно на платонический контекст употребления этого понятия. Характерно, что профессор подписывает письма не иначе как «Ваш Паррот», опуская при этом все требовавшиеся эпистолярным этикетом формулы («Ваш покорнейший слуга» и проч.) и тем самым подчеркивая принципиальное равенство двух корреспондентов перед лицом их дружбы и взаимных чувств. И надо сказать, что и Александр I мог отвечать ему с не меньшей эмоциональностью и симпатией – особенно часто это происходило в 1805 г. (см. ниже). Правда, несколько раз Александр все же пенял Парроту за избыток нежных выражений в письмах и даже при новой личной встрече в Дерпте в 1804 г. попросил не быть к нему столь «пристрастным» и не любить так сильно[36].
Эмоциональная привязанность Паррота к Александру I создавала моральную дилемму, которую тот осознал далеко не сразу. Паррот спешил «служить человечеству», т. е. реализовывать свои либеральные идеи, опираясь на поддержку императора. Но возникающая при этом необходимость преодолевать служебные механизмы часто ставила Александра I в затруднительное положение по отношению к его подчиненным. Так, например, добиваясь подписания Акта постановления для Дерптского университета, Паррот фактически дезавуировал мнение министра народного просвещения, графа П. В. Завадовского, делавшего ряд возражений, и заставил Александра I признать, что тот «не будет снисходить к министру до такой степени, чтобы идти наперекор тому, о чем они [Александр I и Паррот] уже договорились»[37]. Таким образом, перед Парротом постоянно стоял выбор – добиваться ли своих целей, как он их понимал, ради всеобщего блага, или отступить, но зато избежать огорчений и трудностей для императора. Анализируя это противоречие, Паррот со временем пришел к мысли о необходимости «владеть Александром», руководить его деятельностью, постоянно убеждая его и «направляя к добру» – именно такой вывод сделали ранее и «молодые друзья» императора, члены Негласного комитета[38].
Корреспонденция Паррота за 1803–1804 гг. прекрасно показывает, как постепенно развивалось в нем желание доминировать над личностью Александра I, причем абсолютно в параллель с повышением градуса эмоциональности писем. Так, 16 апреля 1803 г. Паррот написал императору обширное письмо[39], обличая местных «утеснителей» университета, и Александр I захотел подробно ему ответить, взяв с профессора обещание сжечь это письмо. Паррот исполнил его волю, но сохранил пепел в отдельном конверте[40], в память об особой искренности императора, которая чрезвычайно тронула его друга. Ясно, что в тот момент она была нужна и самому Александру I. Сожженное письмо могло положить начало доверительной переписке, в которой, однако, едва ли затрагивались бы сущностные вопросы, волновавшие тогда Паррота (о защите университета от нападок дворянства и проч.), – для императора было важнее самому эмоционально выговориться, поделиться общими размышлениями о противостоянии «врагам добра», о том, что человек познается в посылаемых ему испытаниях (намекая, несомненно, на свою судьбу), и тем самым утешить друга[41]. Иными словами, Александр I вновь проявлял себя как герой эпохи сентиментализма, погруженный во внутренние ощущения, из которых не следовала какая-либо ясная программа действий.
Бурная же натура Паррота в своих проявлениях оказалась более под стать наступающему веку романтизма. Увидев душевное движение Александра к нему навстречу, он поспешил сам сделать несколько шагов вперед. Уже 5 июля 1803 г. происходит их следующее свидание (профессор прибыл в Петербург для подписания Устава Дерптского университета), после которого Паррот почувствовал необходимость прояснить для обоих характер их дружбы: он просил Александра (в черновом отрывке, который потом будет исключен из письма) «окинуть взором ход их отношений», говорил, что готов ответить на ряд «невысказанных вопросов» со стороны императора, и, в частности, отвергал возможность остаться в Петербурге при его особе, не желая изменять своему профессорскому призванию за исключением одного-единственного случая, о котором императору «известно» (профессор был готов сопровождать царя на войне, где будет возможность умереть подле него)[42].
Следующая важная веха падает на 12 декабря 1803 г., день рождения Александра I и одновременно годовщину принятия Акта постановления Дерптского университета (уступая настойчивой просьбе Паррота, император намеренно подписал Акт так, чтобы оба торжества соединились). В этот день профессор составил письмо чрезвычайного эмоционального накала, с выражением возвышенной любви к императору и резким, спонтанным переходом на «ты» в финале, где писал: «Слезы навернулись на глаза. О мой Герой! Друг человечества! Смертный, всем людям столь драгоценный. Если желанию моему не суждено сбыться, если предпочтешь ты моему сердцу чье-то другое – не думай, что сделаешь меня несчастным. <…> Останется мне любовь к добродетелям твоим, любовь, коей в высшей степени ты достоин, и обрету я в ней счастье своей жизни. Да, останется она мне, потому что ты пребудешь всегда прежним, потому что продолжишь всегда братьев моих любить с прежней нежностью»[43].
Правда, вслед за этим и следующим письмом (отправленным вскоре, в качестве своеобразного отголоска) последовал почти полугодовой перерыв в переписке, но его с лихвой компенсировало новое свидание с Александром I, состоявшееся 16 мая 1804 г. Император тогда нанес короткий визит в Лифляндию, переночевав в Дерпте. Он осмотрел местный полк и университетские постройки, лаборатории и библиотеку, а в десять вечера дал часовую аудиенцию Парроту (с которым, впрочем, разговаривал и днем, во время прогулок по городу). Итоги этой встречи привели профессора в восторг. Паррот писал потом о своем счастье: «Последнее Ваше в Дерпте пребывание, сей час навеки памятный никаких мне желаний не оставляет, кроме одного: сердце еще более чувствительное завести, чтобы Вас любить еще сильнее»[44]. Излияния чувств к Александру появляются теперь практически в каждом письме, а сами письма отправляются в Петербург гораздо чаще, чем раньше, почти ежемесячно. Новым шагом становится то, что Паррот в июне 1804 г., ввиду разгорающегося противостояния между Россией и Францией, впервые осмеливается давать Александру I советы по вопросам внешней политики (хотя и скромно замечает, что его это не касается) – очевидно, ощущая соответствующую степень доверия и возможность влиять на императора.
Однако длительное пребывание Паррота в Петербурге в январе – мае 1805 г. стало подлинным «испытанием чувств», поскольку явило множество препятствий для развития личных отношений и реализации либеральных проектов. Главным из последних был план организации приходских училищ для народа (о нем подробнее – в следующем параграфе). Попытка реализовать этот проект поставила Паррота в острый конфликт не только с руководством Министерства народного просвещения, но даже с одним из его, казалось бы, единомышленников – Новосильцевым, который резко возражал против отягощения казны дополнительными расходами накануне грядущей войны[45]. В этой ситуации Паррот всячески пытался использовать свое влияние на Александра I. Тот же, хотя и принял профессора сразу после приезда и получил из его рук текст проекта, не захотел вмешиваться в рассмотрение этих документов в министерстве и тем самым не мог избавить Паррота от всяческих внутриведомственных возражений и проволочек. В ожидании желаемого решения, растянувшемся на многие недели, Паррот со всем пылом своего темперамента изливал досаду в письмах к императору, непрерывно увеличивая давление на него, особенно в споре с Новосильцевым.
Александр же в своих коротких ответных записках несколько раз проявлял сочувствие к Парроту, утешая его заверениями в неизменности их отношений: «…огорчен, что Вы на мой счет можете сомнения питать; остаюсь и буду всегда тот же» (29 марта), и в еще более эмоциональной форме: «Отчего Вы всегда так страстны, отчего отчаиваетесь так скоро? Решимость должна рука об руку идти со спокойствием, неужели Вы без него обойтись хотите? Есть случаи, когда сомневаться значит обижать; чем же дал я повод сомневаться в моих чувствах к Вам? Разве уважение Ваше ко мне доверия не предполагает?» (8 мая). Но одновременно император явно дистанцировался от проектов Паррота, а встреча, на которой тот хотел получить окончательное согласие Александра I на учреждение приходских училищ, все время откладывалась.
Наконец, 11 мая Паррот добился своего, получив, как ему тогда представлялось, полное одобрение императора (и в последующем несколько раз он подчеркнуто приписывал этот проект не себе, а самому Александру I). Но для романтической дружбы этого оказалось недостаточно – в письме по итогам встречи профессор явственно упрекал императора, что тот, одобряя реформу, «не был счастлив», т. е. требовал не только внешнего, но и внутреннего признания своей правоты. В такого рода замечаниях можно увидеть ключевые особенности характера Паррота и его отношения к дружбе: ему мало было, что его друг делал то, что хотел Паррот, соглашался с мыслями Паррота, – ему требовалось еще, чтобы друг чувствовал так же, как и он сам. Именно в этом и заключался смысл «владения Александром» (к которому, как отмечалось, в той или иной степени стремились все его друзья), и это отношение существует и трактуется именно внутри эмоциональной культуры романтизма.
Неудивительно поэтому, что вместо того, чтобы щадить друга и ослабить свой нажим на него, Паррот лишь его усиливал. В цитированном выше письме он советовал царю открыто подвергнуться всем неудовольствиям, сопряженным с этим решением, – и вообще быть деспотом, чтобы спасти свою нацию[46]. Следующее же письмо, зачитанное Парротом Александру I при их расставании 27 мая 1805 г., вообще выглядит как весьма дерзновенное по своему масштабу вмешательство частного человека в компетенции императора, с критикой и советами, как тому лучше управлять страной. Раз вступив на этот путь, Паррот не будет упускать данную линию из виду в дальнейшей переписке, продолжая давать царю как общие, так и частные советы в различных государственных областях.
Как представляется, весна 1805 г. знаменовала первый серьезный кризис в отношениях Александра I и Паррота. Заметно было, что Александр I дорожил связью со своим другом на эмоциональном уровне, ценил его и свои переживания, но вовсе не спешил реализовывать идеи Паррота – последний же, напротив, убедился в необходимости доминировать над императором для воплощения в жизнь проектов, нацеленных на «всеобщее благо», и теперь готов был вмешиваться в любые стороны управления государством. Это противоречие уже не исчезнет из их отношений и будет дальше только усугубляться.
Впрочем, неизвестно, как бы эти отношения развивались в ближайшей перспективе, если бы не начавшаяся в том же 1805 г. война с Наполеоном. Поэтому новые встречи Паррота и Александра I в январе 1806 г. состоялись на совершенно ином фоне: царь только что потерпел жестокое поражение, но на поле Аустерлица «думал» о Парроте[47]. Едва он вернулся в Петербург, как профессор уже спешил туда. После Аустерлица его дружба, теплые слова действительно нужны Александру, поэтому тот встречает Паррота запиской: «Я также с нетерпением нашей встречи жду и очень ей рад», говоря затем, что сам пригласил бы профессора в Петербург, если бы тот уже не приехал[48]. Дальше происходит немыслимое в отношениях императора с обычным подданным: Александр I больше часа ждет Паррота, который по какой-то неизвестной причине опоздал и затем написал записку с извинениями, – и император легко его прощает, назначая новую встречу. После нее Паррот напишет, что нашел Александра именно таковым, каким желал видеть[49]. Само собой, что ощущение этой близости сохраняется в последующих письмах Паррота за 1806 г.: например, в мае, узнав о беременности императрицы, он дает Александру советы о воспитании ребенка[50].
Зато следующий визит Паррота в Петербург в январе – марте 1807 г., по сути, был неудачным. Деловым поводом для визита стало желание профессора завершить учреждение приходских училищ, которое находилось в подвешенном состоянии, встретив сопротивление со стороны не только Министерства народного просвещения, но и местного дворянства. Но Паррот, как всегда, был полон и других идей – так, к полному удивлению Александра I, он хотел обсудить с ним состояние собранного для войны с Наполеоном народного ополчения в остзейских губерниях. И хотя император немедленно среагировал на тему, касавшуюся его армии, но попросил изложить ее письменно, а личную встречу отложил почти на месяц. За это время жаловавшийся на свое нездоровье Паррот буквально изнывал от нетерпения, что непосредственно отражалось в его письмах – Александр же в течение трех недель не отвечал ему ни слова, усугубляя болезненность ситуации.
Когда же император наконец принял своего друга, то выяснилось, что вопрос о приходских училищах требует повторного рассмотрения в министерстве. Откладывавшееся из-за этого подписание соответствующего указа доводит Паррота до отчаяния, причем не только от неудачи в делах – ему кажется, что он теряет «своего Александра», что тот от него отдаляется. В письме от 10 марта 1807 г. эмоции Паррота особенно заметны, не только по содержанию, но и по тому, как изменяется почерк в черновике (от твердого в начале до почти не читаемого в конце): «Александр! Возлюбленный мой! <…> Излейте же Ваши печали единственному другу. Не бойтесь меня огорчить, страдать вместе с моим Александром, ради него есть наслаждение для моего сердца. Но знать, что Вы тревожитесь, быть может, страдаете, и не разделять с Вами эти чувства – для меня самое жгучее мучение. Доверьтесь же Вашему прежнему Парроту. Обязаны Вы это сделать ради самого себя, ради священной дружбы, нас связующей, даже в том случае, если причина Вашего огорчения не кто иной, как я сам. – Взволнован я сверх меры. Отчего не могу Вам это чувство сообщить, руки Вам в этот миг протянуть, к сердцу Вас прижать, своей нежностью Вас принудить душу облегчить!»[51]
В середине марта 1807 г. Александр I собирается уезжать из Петербурга в Восточную Пруссию, а указ об учреждении приходских училищ так и не подписан. Паррот всеми силами пытается этого добиться, но тщетно – после внесения поправок устное согласие императора получено, однако его подпись должна появиться только тогда, когда документ пройдет еще один круг оформления в министерстве, император же к тому моменту уже покинет столицу. Действительно ли Александр I подвел «своего Паррота»? Или он просто пытался следовать бюрократической процедуре, а с отъездом на театр военных действий новые заботы полностью заслонили этот вопрос? Как бы то ни было, результат не был достигнут, и на профессора это произвело очень тяжелое впечатление.
Вскоре последовали и новые удары. В июле 1807 г. Паррот направился в командировку от университета для осмотра школ в городах Лифляндии; подлинный же его мотив заключался в том, чтобы не упустить возможность вновь увидеть Александра I, когда тот будет проезжать из Тильзита в Петербург. Профессору это удалось 3 июля в Вольмаре; император повторил обещание относительно скорого появления указа и разрешил, не дожидаясь его, готовиться к открытию приходских училищ уже в наступающем учебном году (как выяснится, свое слово император не сдержал). Но самое главное случилось две недели спустя: в письме от 15 июля 1807 г. из Риги Паррот решился на чрезвычайное предложение, которое долгое время гнал от себя. Считая, что наступил критический момент царствования своего друга, которому предстоит огромная работа по урегулированию политических дел как внутри империи, так и за ее пределами, Паррот просил назначить себя личным секретарем императора.
Стоит подчеркнуть, что профессор не только точно обозначил масштабы нового этапа государственных преобразований, перед которым находился Александр I в 1807 г., но и сам хотел занять центральное место в реформаторской деятельности – ровно то место, которое в результате получил М. М. Сперанский (именно он с октября 1807 г. стал личным секретарем императора). Ради этой деятельности Паррот готов пожертвовать своей ученой карьерой, налаженным семейным бытом в Дерпте и т. д. Конечно, такой шаг для него был обусловлен не только рациональными побуждениями (неизменным, многократно отмеченным выше стремлением «помочь Александру» управлять страной), но и эмоциональным порывом: «Заканчиваю письмо с волнением; ощущаю огромность ноши, какую на себя взвалить готов. Приблизиться к Вам есть для меня вещь самая священная. Боже всемогущий! Боже милостивый! Сделай так, чтобы я в своей решимости не раскаялся!»[52]
Письмо из Риги, особенный вес которого подчеркнут еще и тем, что профессор (возможно, намеренно ошибаясь на пару недель) датировал его днем своего 40-летия, выглядит одной из наивысших точек во всем ходе отношений. Оно подчеркивает жертвенную любовь Паррота к императору – и одновременно масштаб его притязаний. Но Александр I никак не отреагировал на этот порыв, что не могло не причинить профессору глубокое огорчение. После нескольких писем, в которых Паррот снова и снова пытался достучаться до императора, с ноября 1807 г. переписка замирает. А в двух новых письмах, которые были отправлены в апреле и июне 1808 г., выражена неприкрытая обида: оба они написаны в подчеркнуто официальном стиле, профессор представлял государю счет расходов за так и не открытые приходские училища, выверенный до копейки, и впервые в их переписке подписался в строгом соответствии со служебным этикетом: «Вашего Императорского Величества смиреннейший и покорнейший слуга и подданный Паррот».
И вдруг неожиданно 3 сентября 1808 г. он получил от Александра I письмо, причем довольно необычным образом: император должен был проезжать через Дерпт, направляясь на конгресс в Эрфурт, а городские чиновники ждали его на почтовой станции, чтобы приветствовать, как того требовал этикет – и тут, в присутствии, как пишет Паррот, «всего университета» царский камергер передал ему это письмо (тогда как сам император даже не выходил из экипажа). Содержание письма удивляет, ведь Александр I извинялся (!) перед профессором: «Когда неправ, предпочитаю это признавать. Перед Вами кругом виноват и все доказательства тому имею, а потому спешу несправедливость исправить и в том Вам честно признаюсь». Император передавал профессору требуемую денежную компенсацию и заключал, что его уважение к Парроту после случившегося лишь возросло[53].
Итак, у Александра I хватило мужества извиниться за свои ложные обещания и последующее молчание. Для профессора же это письмо было не только поводом к огромной радости, едва-едва сдерживаемой (судя по почерку ответного черновика), но и сигналом к продолжению переписки. Тем не менее оставалось сомнение, сохранят ли их отношения свой прежний теплый характер. Действительно, следующий визит Паррота к Александру I в Петербург в январе 1809 г. протекал не совсем так, как в начале их дружбы. Император отреагировал на его прибытие лишь спустя 20 дней. Внешне встреча прошла хорошо, во многом еще и потому, что профессор не затрагивал столь тяжелую в прошлом тему приходских училищ, стараясь, напротив, заинтересовать Александра новыми проектами, в частности своими изобретениями, полезными на войне. Решение же конкретных деловых вопросов, с которыми приехал Паррот, было передано Сперанскому.
После этой встречи Паррот продолжал посылать Александру I письма из Дерпта, но с куда меньшей интенсивностью, так что перерывы между ними достигали трех-четырех месяцев, а то и полугода. Как показывает письмо от 18 августа 1809 г., Паррот счел, что император по какой-то причине сердится на него, и целый год потом писал ему, только имея формальные поводы (покупка физического кабинета, вручение первого тома своего учебника) или желая прокомментировать важнейшие государственные реформы (введение экзаменов на чин и меры в области финансов). Каких-либо личных излияний при этом он избегал, но черновики сохранили жалобы Паррота (убранные потом из текста) на то, что он чувствует себя оставленным.
На его счастье, этот второй «период обиды» прекратился в начале сентября 1810 г. с приходом нового письма от Александра I, свидетельствовавшего, что тот ценит их дружбу. Император всячески опровергал, что испытывал какое-либо неудовольствие в отношении Паррота, приглашал того к продолжению переписки по актуальным вопросам («…не спрашивайте у меня больше позволения присылать мне полезные сочинения, ибо я им всегда рад») и даже просил копировать свои записки неизвестным почерком, чтобы Александр мог их свободно показывать в Петербурге, где руку Паррота «слишком многие знают»[54]. Все это были очередные знаки особой доверительности и приязни, которые император выказывал своему другу.
В ответ в октябре 1810 г. Паррот бросает лекции в Дерпте ради того, чтобы поехать в Петербург и донести до императора свои идеи по спасению российских финансов и стратегию борьбы с Наполеоном. Среди прочего совершенно неожиданным явилось предложение Паррота на время будущей войны и отсутствия Александра I в столице передать регентские полномочия императрице Елизавете Алексеевне, за которой профессор признавал «ум глубокий» и «суждения справедливые», чтобы быстро ориентироваться в политике и принимать правильные решения. При этом немалая похвала императрице сопровождалась упреками в адрес самого Александра, который пренебрегает обязанностями главы семьи. Паррот с горечью констатировал, что Александр уже не находится на той «нравственной высоте», на которой профессор знал его раньше, и его враги пользуются этим, чтобы лишить императора уважения его подданных[55]. Некоторые историки видят в этих словах, которые Паррот доверил бумаге (в своей «весьма секретной записке» от 15 октября 1810 г.), вопиющую бестактность по отношению к Александру I, которая не могла не повлиять на характер их отношений в дальнейшем[56]. Думается, однако, что с точки зрения Паррота это вовсе не была бестактность и он отнюдь не занимался морализаторством в отношении Александра: просто он не отделял личные качества императора от судьбы страны в целом, а первые должны были соответствовать идеалу, сформировавшемуся в душе Паррота. Иными словами, по мысли Паррота, чтобы победить Наполеона, император должен был вновь стать тем Александром, который некогда смог всецело завоевать сердце профессора.
Возможно, Александр I понял благородство логики Паррота – по крайней мере никаких указаний на немедленное охлаждение отношений не видно: напротив, весь следующий год профессор довольно активно писал императору, затрагивая не только обычные дела, касавшиеся Дерптского университета, но и вопросы подготовки к войне. Столь же часто в своих письмах Паррот подчеркивал важность для императора ощущать себя прежним, «его Александром» – т. е. верным своим принципам начала царствования. «Ощутите Вы глубокую истину этого чувства, когда на прошлое оглянетесь, на девять лет тех задушевных отношений, в какие Вы меня к себе поставили. В течение долгих этих лет все переменилось вокруг нас. Только мы друг другу верны остались, несмотря на множество бурь, которые между нами вспыхивали. Постоянство это есть Ваша добродетель, добродетель столь редкостная в монархе, если так называемый его друг не льстец! Чувство это должно Вам удовольствие доставлять, а для меня великое наслаждение Вам о том напомнить»[57].
Беспокойство за судьбу своих новых идей (главной из которых был оптический телеграф, т. е. средство быстрой связи на дальние расстояния, необходимое на войне) вновь привело Паррота в Петербург в канун 1812 года. На этот раз, правда, его там никто не ждал, и Паррот сам себя поставил в неловкое положение, упорно добиваясь встречи и не получая ответа от императора в течение почти месяца. Это опять заставило профессора думать, что он впал в немилость, а 28 января его пылкий характер не выдержал – он впервые по собственной инициативе объявил Александру I, что считает их частные отношения разорванными[58]. В этом письме он вновь менял свой стиль (отказываясь от обращения «Возлюбленный» и заменяя его на «Государь»), выяснял с Александром I финансовые отношения (причем не только требовал оплатить стоимость изготовления телеграфов, но и указывал, что хорошо бы покрыть ему все расходы на поездки в Петербург) – словом, давал понять, что с его стороны речь идет о полном и окончательном разрыве. Финальный же абзац письма поднимал до предела градус эмоций, открываясь восклицанием: «О! если когда-нибудь захочется Вам опять приблизить к себе душу чувствительную и порядочную, – вспомните о Парроте и оставьте эту злосчастную мысль».
Такая атака на чувства императора достигла цели: тот просто не смог промолчать. В своем ответе, довольно пространном по сравнению с другими его письмами, Александр I даже пытался имитировать стиль Паррота («Вот письмо в духе Ваших посланий»). Император оправдывал свое молчание тем, что из-за государственных дел никак не мог найти свободный вечер, чтобы встретиться с профессором, жаловался ему на огромную загруженность работой и днем, и значительную часть ночи, сетовал на «экзальтацию» своего друга и решительно отказывался принять их разрыв, ибо назначал ему долгожданное свидание; впрочем, желая, видимо, отчасти извиниться, высылал также и требуемые деньги и соглашался покрыть расходы на его поездки[59]. Отдадим должное Александру: уже в третий раз он доказывал, что хочет продолжать дружбу. И хотя его письмо не выглядело особо теплым, по сути оно все же было таковым, поскольку позволяло преодолеть конфликт, к которому профессор сам подвел их отношения из-за своего нетерпения и горячности. Об этом свидетельствуют и последующие события: в феврале 1812 г., повидавшись, наконец, с Парротом и одобрив некоторые его начинания, в частности работы над оптическим телеграфом, Александр потом неизменно проявлял внимание к другу в течение его дальнейшего пребывания в Петербурге и старался хотя бы кратко отвечать на его письма.
А 16 марта наступил финал, доказывавший, что их дружеские отношения сохранили тот же высокий эмоциональный накал, что демонстрировали раньше. Александр I находился в особом настроении. Во-первых, он должен был проститься с другом перед отъездом в армию, на новую войну с Наполеоном, которая по своему масштабу страшила его гораздо больше, чем предыдущие: он был готов погибнуть «в этой страшной борьбе», но в таком случае просил Паррота рассказать о нем потомкам[60]. Во-вторых, в этот день фактически решалась судьба М. М. Сперанского, обвиненного противниками в государственной измене. Паррот застал царя удрученным и разгневанным на своего бывшего помощника настолько, что Александр в лицо высказал своему другу, что хотел бы «расстрелять» изменника. И в личном разговоре, и в пространном письме, которое профессор написал сутки спустя, он постарался смягчить ожесточение императора против Сперанского, а также советовал отложить разбирательство этого дела на ту пору, когда война будет окончена, покамест удалив того из столицы. Нет никаких причин думать, что Александр I перед Парротом был неискренним (хотя детальный анализ и показывает, что решение о ссылке Сперанского было принято им независимо от советов Паррота)[61]. Напротив, получив упомянутое письмо, император ответил профессору, что прочел его «с чувствительностью и сопереживанием», тем более что заключительная часть письма Паррота была посвящена действительно эмоциональным напутствиям на войну и молитве за Александра перед Богом. Стоит отметить, что Александр I также передал Парроту искомую компенсацию путевых расходов и пообещал особую награду в знак признательности за работы над телеграфом[62] – профессор же, который прежде из принципа отвергал все вещественные знаки монаршего благоволения, на сей раз согласился принять награду (естественно, после завершения войны) и даже описал желаемое (речь шла об оплате годового заграничного путешествия с научными целями).
В последних строках прощального письма от 21 марта 1812 г. Александр I писал Парроту: «Верьте мне, что остаюсь всегда весь Ваш». Действительно, все указывало на то, что их расставание произошло с прежней теплотой, и, конечно, вряд ли кто-то из них тогда думал, что видятся они в последний раз в жизни. Но прежде чем перейти к описанию драматической финальной фазы их отношений, обратимся к анализу собственно основного содержания переписки в тот период, когда она показывала, какие политические идеи, концепции, проекты служили предметом постоянных дискуссий профессора и императора.
17
Определение Негласного комитета как кружка друзей молодого российского императора восходит еще к классической биографии Шильдера: Шильдер Н. К. Император Александр Первый: его жизнь и царствование. СПб., 1897 (далее – Шильдер). Т. 2. С. 24.
18
Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. М., 1912. Т. 1. С. 83–86.
19
Болебрух А. Г., Куделко С. М., Хрiдочкiн А. В. В. Н. Каразiн (1773–1842). Харькiв, 2005; Грачева Ю. Е. «Позвольте мне быть полезным!» Василий Назарович Каразин на государственной службе и в общественной жизни России первой трети XIX в. М., 2012.
20
Андреев А. Ю., Тозато-Риго Д. Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп. Письма. Документы. Т. 1 (1782–1802). М., 2014; Т. 2 (1802–1815). М., 2017; Т. 3 (1815–1832). М., 2017.
21
Мемуары князя Адама Чарторижского… Т. 1. С. 86.
22
См. переписку Александра I и кн. А. Н. Голицына за 1812–1822 гг.: Николай Михайлович, великий князь. Император Александр I. Опыт исторического исследования. Т. 1. СПб., 1912. С. 527–561.
23
Андреев А. Ю., Тозато-Риго Д. Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп… Т. 1. С. 163; 335–340.
24
Там же. С. 165.
25
Там же. С. 311.
26
Там же. С. 133.
27
Паррот вспоминал об этом в 1803 г., см. письмо 16 в наст. изд.
28
Речь была впервые опубликована на французском языке в книге Бинемана (С. 115–116); см. письмо 1 в наст. изд.
29
Подробности пребывания в Петербурге изложены самим Парротом в его мемуарах, опубликованных Бинеманом, здесь цит. по: Бинеман. С. 145–146.
30
Бинеман. С. 148.
31
Слова Александра I приведены в мемуарах Паррота, цит. по: Бинеман. С. 150.
32
Бинеман. С. 153.
33
Бинеман. С. 153–154.
34
(нем.) «Обнимитесь, миллионы! В поцелуе слейся, свет!» (Ф. Шиллер, «Ода к радости», 1785).
35
Собственно говоря, французское слово «bien-aimé» (букв. «возлюбленный»), которое очень часто встречается в переписке в качестве обращения Паррота к Александру I, требует языковой контекстуализации – в частности, именно при обращении к монарху оно закрепилось во французском этикете второй половины XVIII в., поскольку таково было обычное наименование Людовика XV (Louis XV le Bien-Aimé).
36
См. письма 28 и 90.
37
Бинеман. С. 165.
38
Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988. С. 47.
39
Это и другие письма Паррота для императора отправлялись к Фридриху Максимилиану Клингеру – еще одному новому другу Паррота в Петербурге, назначенному (по его рекомендации) попечителем Дерптского учебного округа. Клингер же дальше передавал эти письма Новосильцеву, который вручал их Александру I. В последующие годы, в связи с отъездом Новосильцева, его сперва заменил Чарторыйский, а затем Парроту удалось договориться о том, чтобы во дворец его письма доставлялись через И. Ф. Гесслера, обер-гардеробмейстера императора.
40
См. письмо 17 и комментарии к нему.
41
Содержание сожженного письма отчасти восстанавливается по ответу Паррота на него – см. письмо 18.
42
См. письмо 20.
43
Письмо 26.
44
Письмо 29.
45
Грачева Ю. Е. Профессор Г. Ф. Паррот в борьбе за развитие начального образования в остзейских губерниях // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2021. Вып. 101. С. 69.
46
Письмо 65.
47
Паррот упомянул об этом несколько раз позднее, наиболее развернуто – в 1825 г., письмо 214.
48
Письмо 79.
49
Письмо 84.
50
Письмо 92.
51
Письмо 120.
52
Письмо 127.
53
Письмо 137.
54
Письмо 152.
55
См. письмо 157. Речь идет, естественно, о длительном романе Александра I с М. А. Нарышкиной.
56
Николай Михайлович, великий князь. Императрица Елисавета Алексеевна, супруга императора Александра I. Т. 2. СПб., 1909. С. 231–232; Hempel P. Deutschsprachige Physiker im alten Sankt-Petersburg: Georg Parrot, Emil Lenz und Moritz Jacobi im Kontext von Wissenschaft und Politik. München, 1999. S. 126.
57
Письмо 165.
58
Письмо 178.
59
Письмо 179.
60
Этот разговор с императором Паррот вспоминал в 1825 г.: см. письмо 215.
61
Подробный разбор см.: Андреев А. Ю. Александр Первый и отставка М. М. Сперанского // Quaestio Rossica. 2022. Т. 10. № 3. С. 831–847.
62
Письмо 191.