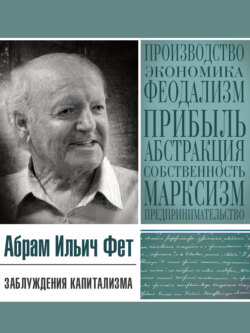Читать книгу Заблуждения капитализма или Пагубная самонадеянность профессора Хайека - Абрам Ильич Фет - Страница 6
Часть I
4. Упадок западной культуры
ОглавлениеМы видим, что свободный рынок не сможет разрешить важнейшие проблемы капитализма, в том числе подготовку рабочей силы. Ещё недавно Соединённые Штаты имели несомненное первенство на рынке технических изделий, а теперь они в значительной степени утратили это положение и страдают от конкуренции, особенно японской. Засилье японских товаров стало общим местом в разговорах американцев. Конечно, американцы жалуются на нечестную торговую практику японских предпринимателей и торговцев, но в действительности эта практика не лучше и не хуже обычной. Американцы требуют от федерального правительства запретительных тарифов против японских товаров, да и вообще товаров иностранного производства. Им сильно докучают “четыре дракона”, молодые промышленные державы Юго-Восточной Азии – Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур; да и старая Европа, объединяясь и модернизируя производство, успешно внедряется на американский рынок. По ряду причин федеральное правительство не может обуздать этих конкурентов таможенными тарифами, и вовсе не потому, что оно соблюдает правила свободного рынка, а из опасения ответных мер против американских изделий. Моральное негодование американцев нельзя принимать слишком всерьёз: может быть, половина их уже разъезжает на японских автомобилях и покупает японские телевизоры, а фотоаппараты и другую оптику почти полностью монополизировали японцы. Более того, даже американские ракеты, символизирующие военную мощь Соединённых Штатов, не могут уже летать без японской электроники – во всяком случае, её трудно заменить.
Прошу прощения у читателя за этот перечень общеизвестных фактов, но, может быть, объяснение их не столь известно. Между тем, все компетентные исследователи объясняют их плохой организацией производства в Соединённых Штатах и низким уровнем рабочей силы. Так как производство тоже организуется людьми, то, стало быть, американские инженеры, менеджеры и экономисты становятся хуже японских; а это опять сводится к качеству рабочей силы. В прежние времена на этот фактор никогда не жаловались: предполагалось, что рабочую силу требуемого качества можно купить, предложив нужную цену. Теперь, как видите, это уже не так.
После сказанного выше об американской системе воспитания и образования нетрудно понять, что выходящим на рынок рабочей силы молодым людям недостаёт надлежащих мотивов – побуждений к добросовестному труду. С точки зрения профессора Хайека это, может быть, казалось не особенно странным: ведь “расширенный порядок” в действительности охватывает теперь весь мир, и если японские товары вытесняют американские – даже в самой Америке – это всего лишь нормальная конкуренция. Конечно, Хайек не националист, тем более не американский националист. Перспектива превращения Соединённых Штатов во второстепенную державу, даже в аграрный придаток Японии его бы не испугала: значит, таков закон рынка. Но давайте разберёмся, в чём же преимущество японского рабочего перед американским.
По общему признанию социологов и психологов, изучавших этот вопрос, японский рабочий не столь “избалован” удобствами жизни, привык к более скромным условиям – более простой еде и одежде, более примитивному жилью. Но главное, он связан со своей фирмой прочной эмоциональной связью, перенося на своих хозяев вассальную лояльность, выработанную историей японской деревни. Много говорили, что японский рабочий по своей природе коллективист, что у японцев вообще не завершился ещё процесс выделения личности из феодальной (и даже племенной) общины. В общем, преимущество японского рабочего состоит в том, что в Японии ещё в значительной мере сохранился феодализм: именно отсталость японского психического склада доставляет японцам преимущества в конкурентной борьбе, столь раздражающие передовых, современных американцев. То же относится к инженерам и менеджерам. В Японии это преданные слуги своей фирмы, относящиеся к её хозяевам, как их предки, приказчики и надсмотрщики, относились к даймио – своим феодальным князьям. Впрочем, в условиях современной жизни эти феодальные добродетели постепенно исчезают; средний уровень жизни в Японии уже сравним с европейским (если не американским) стандартом. Когда я услышал, что в Японии 20 % семей имеют уже два автомобиля, мне и без статистики стало ясно, что это уже не бедная страна. Пройдёт ещё некоторое время, и рыночные преимущества японцев, как и других индустриальных “драконов” Азии, будут утрачены. Опять-таки, с точки зрения профессора Хайека всё это – нормальный процесс: рынок всё взвесит, уравняет и разрешит все проблемы. Пусть белый рынок при этом немного пожелтеет, это тоже не беда.
Беда в том, что весь XX век продолжался упадок западной культуры; а поскольку эта культура господствует в современном мире, в этот упадок втягивается весь человеческий род. Об этом упадке мне придётся рассказать подробно; но прежде я хочу привести замечательный случай, когда американские дельцы прямо им занялись. Вообще делец не склонен к историческим сравнениям, и если его дела идут, как ему кажется, хорошо, то он полагает, что живёт в лучшей из всех возможных эпох. Но бывают случаи, когда наука, по-видимому, не умеет справиться с задачами, какие ставит ей “технический прогресс”. Я уже говорил о термоядерной энергии, которую физики обещают уже сорок лет, но не умеют приблизиться к практическим результатам. Другой пример – передача энергии на дальние расстояния. Передача тока по проводам связана с неприемлемыми тепловыми потерями; как показывает теоретический анализ, их можно избежать, только сделав сверхпроводящие пути для тока, но физики умеют создавать такие пути лишь при очень низких температурах, практически недоступных для дальних передач. Поскольку источники энергии находятся обычно далеко от её потребителей, приходится, по примеру прошлого века, гнать на тысячи километров бесконечные поезда с углем и нефтью. Третий пример – аккумуляция энергии. До сих пор не удалось изобрести ёмких и компактных аккумуляторов, которые можно было бы перевозить на расстояние, или ставить на автомобили. Конечно, идеальным двигателем был электрический мотор – просто устроенный, бесшумный и не вредящий окружающей среде. Но для этого надо подводить ток по проводам, как это делается в трамваях и на электрических железных дорогах. Свободное передвижение, какое требуется от автомобиля, нуждается в аккумуляторах электрической энергии; но устройства, известные под этим именем, имеют небольшую ёмкость, громоздки и тяжелы. Можно было бы расширить список не решённых наукой проблем: инженеры здесь ничего не могут, так как нужны новые принципы, а не новые применения уже известных. Автомобили с бензиновыми двигателями, заполняющие улицы и дороги всех “цивилизованных” стран, представляют собой типичный технический тупик; чем больше совершенствуются их детали, тем яснее становится их принципиальная архаичность. Наши потомки, без сомнения, скажут, что мы устроили музей по истории техники и самодовольно в нем застряли, полагая, что переживаем прогресс.
Дельцы, опыт которых научил их, что за деньги можно купить всё, давно уже удивляются, что нельзя купить нужные им научные открытия. Около двадцати лет назад они решили выяснить, почему американские университеты, поглощая огромные ассигнования, не решают проблем, от которых зависит “технический прогресс”. Группе статистиков было поручено выяснить, в каких условиях появляются наилучшие научные достижения. Обследовав все известные случаи, статистики пришли к следующим выводам. Наилучшие научные результаты, – как обнаружилось, – получались в небольших университетах европейского типа, вроде Оксфордского, Кембриджского, Гёттингенского, при малочисленных кафедрах и скромных денежных средствах. Такие университеты, находящиеся в маленьких городках, не были связаны с бизнесом и не вели прикладных разработок: по-видимому, нарочитая направленность на полезные приложения вовсе не способствует ценности результатов. Их учёные советы избирали профессоров без давления извне, руководствуясь печатными работами и личным знакомством. В таких университетах было мало студентов, и диплом выдавался нелегко; трудные конкурентные экзамены и редкость вакансий делали научную карьеру непривлекательной для людей, ориентированных на успех. В картине, изображённой этими статистиками, была некоторая доля идеализации, но была и важная правда. Конечно, эта правда не оказала никакого влияния на дипломную промышленность. Как и все виды бизнеса, она управляется “близкодействием”, то есть совокупностью наличных в данный момент и в данном месте интересов и обстоятельств; принципиальные изменения, напротив, требуют “дальнодействия” основных ценностей культуры и более глубокого мышления, что необычно и рискованно, потому что в ближайшей перспективе такие изменения означают убытки и неприятности. Мы будем ещё иметь случай вернуться к роли “близкодействия” и “дальнодействия” в общественной жизни.
Упадок культуры в XX столетии был предметом многих размышлений – и предсказывался ещё до того, как это столетие наступило. Можно поручиться, что в нашем веке не было ни одного сколько-нибудь значительного мыслителя, который не разделял бы эту точку зрения. Но оказывается, что западный “средний класс” и соответствующее ему наше российское мещанство далеки от пессимизма этих мыслителей. Если вы спросите типичного американца – не “фундаменталиста” и не университетского радикала – то он скажет вам, что мы переживаем очевидный “прогресс”, что люди уже побывали на Луне, научились использовать атомную энергию и придумали компьютеры, которые скоро будут думать не хуже нас. Техническая оснащённость повседневного быта и постоянное совершенствование этой бытовой техники сравниваются с очевидной отсталостью наших предков. Признаются, конечно, некоторые трудности, но, в общем, принято думать, что дела идут неплохо. Недавно обрушился Советский Союз, и русская угроза превратилась в русское нищенство и унижение, что также немало способствует высокой самооценке “западной культуры”. Что касается нашего мещанина, то он признáет, конечно, нынешнее неблагополучие России, найдёт виновных в этом, но положение Запада изобразит в самом благоприятном свете. Если он “патриот” или “коммунист”, то он думает точно так же, хотя иначе говорит; и внутренне мещанин всегда ориентирован на западное понимание “хорошей жизни”. Итак, мещанин – всегда оптимист и видит вокруг себя прогресс. Исключения редки, и носители таких исключительных взглядов, при ближайшем исследовании, оказываются не мещанами, а чем-то другим. Я не назову мещанином искренне верующего человека; такой человек видит в современности Апокалипсис и живёт в ожидании Страшного Суда.
Мы ещё вернёмся к этой позиции верующего, отражающей в фантастическом виде вполне реальные явления. А теперь перейдём от представлений “обывателя” к тому, что думали о XX веке величайшие мыслители. Оказывается, все они, при очень различном мировоззрении, видели в XX веке быстрый, непрерывный упадок культуры – или предвидели его ещё в XIX веке. Нельзя найти ни одного сколько-нибудь серьёзного мыслителя, смотревшего на этот век с некоторым оптимизмом. И, конечно, профессор Хайек не составляет исключения из правила, поскольку читатель уже убедился, или ещё убедится, что он вовсе не серьёзный мыслитель.
Если верить историкам культуры, каждая высокая культура переживает сначала период медленного развития, затем это развитие ускоряется и достигается высший расцвет культуры, а после этого она разрушается и гибнет. Эпохи высшего расцвета культуры называют иногда словом “акме”, означавшим у греков возраст наивысшего процветания человека – примерно сорок лет. Считается, что “акме” греческой культуры приходилось на время Перикла, когда афинская демократия создала образцы искусства, науки и общественного строя для будущей Европы и всего мира. Не столь однозначно определяют “акме” римской цивилизации, поскольку она вряд ли составляла отдельную культуру, а была, по существу, зависима от греческой, но всё же высшей эпохой Римского государства считается правление Антонинов во втором веке. Средневековая культура Европы достигла наибольшего процветания в эпоху строительства соборов, поэзии менестрелей и возникновения университетов – “акме” приходится на тринадцатый век. Если и наша культура клонится к упадку, – в чём уже невозможно сомневаться, – то её “акме”, безусловно, уже находится в прошлом; историки и философы полагают, что это был XIX век.
Европейская культура Нового времени началась в конце XVII века. Она была подготовлена научными открытиями Галилея, Декарта и Ньютона и нашла своё политическое выражение в так называемой Славной революции 1688 года, когда после гражданской войны и неудачной реставрации господствующие классы Англии выработали политический компромисс, давший начало буржуазной Европе. Можно указать день, когда оптимизм Новой истории был провозглашён с наибольшей убеждённостью и энергией: 11 декабря 1750 года Антуан Тюрго, двадцати трёх лет, прочёл в Сорбонне свою знаменитую лекцию о прогрессе. Совсем недавно, – говорил Тюрго, – Ньютон объяснил устройство всего мироздания, описав своей небесной механикой движение светил. Теперь настало время применить те же научные методы к объяснению человеческого общества. Когда оно будет понято, за этим неизбежно последует рациональное предвидение и планирование общественных явлений, и тогда в человеческом мире установится такая же гармония, какую мы видим в небесах. Конечно, эта наивная утопия бессознательно строилась на средневековом представлении о связи “микрокосма” с “макрокосмом”: предполагалось, что мироздание в целом таинственным образом определяет судьбу человека, так что человеческие дела в принципе управляются теми же причинами, что и движение небесных тел. Тюрго, конечно, не верил в астрологию и был бы удивлён, если бы ему сказали всё это; но его оптимистическая аналогия очень скоро столкнулась с действительностью, когда он попытался, в качестве министра, реформировать французские финансы. Тюрго ничего не знал о “сложных системах”, сложнейшей из которых является человеческое общество, и вряд ли понимал, что небесная механика Ньютона относится к одной из самых простых систем, допускающих точное математическое описание. Профессор Хайек усмотрел бы в этом оптимизме чистейшую утопию; себя он, конечно, считал “реалистом”, но мы уже видели, что в основе его рассуждений лежит средневековое рассуждение о “злой” природе человека и гораздо более древнее магическое мышление. “Рационалисты” чаще всего не замечают, на какой почве они возводят свои сооружения. Но уже теперь ясно, что “утопист” Тюрго был ближе к истине, чем “реалист” Хайек. Человеческая культура доступна для научного изучения, хотя и не теми средствами, к которым нас приучила методология “точных наук”.
Если считать началом “эпохи прогресса” 1750 год, то не так легко определить, где был её конец. Можно не принимать во внимание критиков Нового времени, с самого начала осуждавших его с позиций средневековья. Но примечательно, что вскоре после триумфального провозглашения эры прогресса, в 1764 году, английский историк Эдуард Гиббон, будучи в Риме, был охвачен идеей об упадке каждой цивилизации, неизбежно следующем за её ростом и процветанием. Гиббону казалось, что христианская цивилизация Европы как раз находилась в то время в своей наивысшей точке, и что за этим “акме” должен последовать период деградации культуры, аналогичный истории Римской империи после эпохи Антонинов (Гиббон опасался варваров!). Пытаясь понять закономерности упадка культуры, Гиббон задумал и впоследствии осуществил свой знаменитый труд “Упадок и гибель Римской империи”.
Можно, конечно, смотреть на предчувствия Гиббона с таким же скептицизмом, как на энтузиазм молодого Тюрго. Но уже в первой половине прошлого века ход развития так называемого “демократического общества” вызвал беспокойство самых глубоких его исследователей, критиковавших возникавший в то время общественный строй с разных исходных позиций. Я оставлю пока в стороне реформаторов и проповедников, таких, как Оуэн, Сен-Симон и Фурье, о которых будет речь дальше, при обсуждении социалистических доктрин. Можно оспаривать объективность и научную подготовку этих авторов. Но несколько позже, в тридцатых годах, проблемой демократии занялся Алексис де Токвиль – великий историк, может быть, величайший из всех историков. В 1832 году, ещё совсем молодым человеком, граф де Токвиль, вместе со своим коллегой де Бомоном, был командирован правительством Июльской монархии в Соединенные Штаты для изучения американской пенитенциарной системы; имелась в виду задуманная в то время реформа французских тюрем. Токвиль не ограничился поставленной ему задачей, а изучил всю общественную систему Соединённых Штатов, представляющую в то время первый и единственный пример последовательной, бессословной демократии. Он изложил результаты своего исследования в знаменитой книге “О демократии в Америке”, послужившей впоследствии главным источником идей о природе и возможной судьбе демократического общества.
Токвиль, происходивший из знатной аристократической семьи, с самого начала своих размышлений об истории был страстно увлечён проблемой равенства. Недавно отгремевшая Французская революция выдвинула тройной лозунг: “Равенство, Братство и Свобода”, сокрушительный для феодального порядка в Европе. Токвиль был объективный исследователь, вряд ли вдохновлявшийся идеей общечеловеческого братства: он никоим образом не был социалист. Но его очень интересовали концепции равенства и свободы, которым можно было придать отчётливый смысл. Равенство означало для Токвиля юридическое равенство, то есть устранение сословных привилегий и равноправие всех граждан перед законом; свободу же он понимал как реальную возможность и способность гражданина самостоятельно действовать в рамках закона. Главным наблюдением Токвиля было непрерывное, неуклонное стремление европейского общества к равенству в течение ряда столетий. Единственной страной, где это стремление получило почти полное осуществление, была недавно образованная европейскими колонистами молодая американская республика. В самом деле, в Соединённых Штатах все граждане (кроме невольников-негров и индейцев, не считавшихся гражданами) были юридически равноправны и даже пользовались (не считая женщин) равным избирательным правом. Ни в одной стране Европы не было в то время столь демократической системы правления, и Токвиль имел все основания изучать демократию в той стране, где она впервые сложилась в законченный механизм.
Токвиль обнаружил у американцев решительное неприятие всех привилегий, связанных с происхождением, и обострённое чувство личной независимости. Таким образом, Соединённые Штаты предстали перед ним как завершение того процесса выравнивания прав, в котором он видел главный двигатель европейской истории. Но глубокий анализ американского общества, произведённый Токвилем, привёл его также к другому, нерадостному заключению: он пришёл к выводу, что тенденции развития американского общества в конечном счёте могут противоречить идее свободы. Как объясняет Токвиль, представление о личной свободе возникло из особых привилегий потомственной аристократии. Вначале аристократы и были – в феодальной Европе – единственными свободными людьми: вспомним, что титул барона происходит от германского слова “баро”, означавшего просто “свободный человек”, и что даже в современном немецком языке “барон” обозначается словом Freiherr, буквально – “свободный господин”. Свобода вначале была привилегией – бережно охраняемой привилегией единственной общественной группы, обладавшей сознанием своего врождённого права на свободу и готовой её защищать с оружием в руках. Но это значит, что изначально было уже противоречие между равенством и свободой. Полное равенство означает исчезновение всех привилегированных групп; свобода гражданина теряет свой первоначальный характер особого, исключительного права, требующего активной защиты, и начинает восприниматься как нечто самоочевидное, не представляющее особого блага и не требующее особых усилий. Но тогда общественная жизнь не способствует выдвижению сильных личностей, способных добиваться идеальных целей, и сосредоточивается вокруг чисто материальных интересов. “Всеобщее равенство” приводит к общественному давлению, вынуждающему человека следовать усреднённым, заимствованным у окружающей среды мотивам. Возникает царство самодовольной, но робкой перед соседями посредственности, в точности описанной Фроммом в книге “Бегство от свободы” через сто лет. Предсказания Токвиля на этот счёт вполне оправдались: возникло “общество массового потребления”, где человек пользуется свободой от внешнего принуждения, но не способен уже пользоваться своей свободой для каких-нибудь осознанных целей. Гениальное предсказание Токвиля (а это лишь одно из его оправдавшихся предсказаний!) вторично подводит нас к “обществу массового потребления”, управляемому механизмом рыночных цен.
Несколько позже, в середине XIX века, аналогичные наблюдения были сделаны в Европе. Джон Стюарт Милль в книгах “О свободе” и “О представительном правлении” обнаружил в Англии ту же тенденцию к материальному благополучию, то же отсутствие интереса к духовной жизни и неумение пользоваться свободой. Это уже сложившееся “буржуазное” общество Милль сравнивал с китайским, в котором находил те же черты, и предсказывал “китаизацию” современной ему Англии. Конечно, это сравнение было весьма неблагоприятно для свободы, потому что Китай, впавший в безвыходный застой, свободы никогда не знал.
Примерно в то же время А.И. Герцен, эмигрировавший из России в 1847 году, был глубоко разочарован направлением развития Западной Европы, где устанавливалось господство “мещанства” – то есть буржуазии. Термин “мещанство” первоначально означал городское сословие в России, состоявшее из ремесленников, купцов, предпринимателей и чиновников, и применялся как официальное юридическое обозначение городского населения, не входившего в два привилегированных сословия – дворянство и духовенство[12]
12
Здесь автор допускает неточность. Мещане составляли низшее городское сословие, куда входили, независимо от рода занятий, все вообще свободные (не являвшиеся крепостными) городские жители, кроме дворян, духовенства, чиновников и купцов (купцы составляли отдельное сословие). Для мещан, многие из которых промышляли мелочной торговлей, была характерна узость интересов, из-за чего слово “мещанин” уже во времена Герцена приобрело презрительный оттенок.