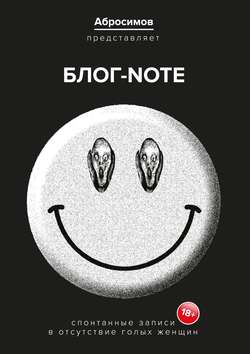Читать книгу Блог-Note. Спонтанные записи в отсутствие голых женщин - Абросимов - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Раздел I:
«на правах интима»
ОглавлениеФразу «пельмени без водки едят только свиньи» я почерпнул давно. И с тех пор пользуюсь ею как обухом. Особенно, в разговорах с рафинированной, но безвольной, испытывающей большие проблемы с алкоголем (т.е. непьющей) интеллигенцией. Всегда успешно. А тут неожиданно, перечитывая Горчева, узнал, что, оказывается, пельмени не ЕДЯТ ПОД водку. Пельмени водкой ЗАПИВАЮТ!
Таким образом. Сегодня. Впервые в жизни. Эксперимент.
Родные и близкие, приятели и знакомые, друзья и недруги, коллеги и случайные попутчики, учителя и… ученицы! Да-да. Все разноускоренно вымечены за пределы круга. В эпицентре я один. Только я и водка.
Мы с водкой ужинаем.
Впрочем, тут ещё, извольте: дворная собака Рада. Она ведь – не только гироскоп, предсказывающий наступление бури, но и существо, всячески чувствительное к любым явлениям паранормальности в окружающей среде.
Нет… не то…
Можно, я заново начну?
Итак.
Пить водку в одиночестве, когда рядом есть иные человеки, творцу категорически противопоказано. Другое дело, если рядом нет вообще никого. В такой ситуации можно вдруг громко рассмеяться, неожиданно вынести приговор, пуститься в оголтелую присядку или просто многократно, на все возможные лады, с чекистским прищуром повторять: «А я ведь зна-ал…».
Совсем другая ситуация, ежели вокруг да около спят взрослые со детями, а вам остался банальный приём пищи, напоминающий тризну с выключенным изображением и звуком.
Так ведь русские, как повелось, не сдаются!
Короче, ровным образом ничто не предвещало. Просто я вспомнил ключевую сцену из фильмы «Свой среди чужих». Когда белый выкрест, ротмистр Лемке пытается на свой лад образумить красного комиссара Шилова. А промеж них болтался саквояжик. А в нём – 600 тысяч золотом!
И Лемке надрывается:
– Да я из-за него сто раз под пули ходил! Я его во сне видел! Понял?! Это зо-ло-та-а!! Панимаишь?!!
Я именно так и произнёс. Только, приличествуя случаю, бесшумно. Подключив лишь мимику и жестикуляцию.
Дворная собака подошла ближе и воззрилась.
– Вот же!! Мммм…
Забыв, что рука пробита пулей, Лемке сделал взмах, скорчился от боли и повторил движение, но теперь уж другой рукой.
– Вот же! Граница!! Прошу тебя… у-хо-ди! Не будь же ты кретином! Это… (он постучал по саквояжу с золотом) это! Нужно! Только!.. Одному… Понимаешь ты?! Не всем! Только… одному!..
Он задохнулся, не в силах продолжать.
Сотрудник чрезвычайки Шилов внимал безмолвно. Грязная щетина на его лице хранила всю усталость мироздания. Козырёк фуражки с красной звездой прикрывал глаза.
Где-то тоненько завыла собака…
– Господи! – возовопил Лемке от отчаяния. – Господи, ну почему ж ты помогаешь этому кретину, а не мне?!..
И он звучно хлопнул безвольной рукой себя по лбу.
Неожиданно раздался второй хлопок. Я очевидным образом его расслышал.
В абсолютном изумлении собака Рада гвазднулась корпусом об дверь, ведущую наружу – прочь от спектакля, который её разум не мог постичь.
– Радуница! – опомнился я и тут же принялся утешать. – Ты чего? Это ж фильм! Под настроение пришлось. Ну? Всё нормально. Всё хорошо. Правда!..
Я говорил честно. Говорил как есть. Но я не был встроен в объективную систему реальности сейчас. Между мной и остальным миром явственно обозначился зазор.
Животное молчало. Потом низко опустило голову и, кажется, начало плакать.
Дьявол иногда отвечает. На сей раз он писал чёрным фломастером с изнанки зеркала. Достаточно было сморгнуть или на секунду опустить глаза, как появлялся размашистый автограф. Содержание надписей не застряли в памяти, настолько ошеломлял сам факт их появления. Не все буквы проявлялись, словно бы фломастер заканчивался. Но я понял, что это – от скорости письма. Оппонент был разгневан, чем интриговал отдельно. В какой-то момент я даже переборщил и высказал нечто особо едкое, почти уткнувшись носом в собственное отражение. За что оказался немедленно наказан, провалился лицом по ту сторону.
О, нет…
Та картина до сих пор стоит перед глазами. Но её бесполезно описывать. (Неужели же остались ещё люди, которые находят смысл в ограничении мира его видимой частью?!).
Помните «Волшебную гору»? Молодой человек по имени Ганс Касторп, имеющем несколько балаганное для русского уха звучание, приезжает в расположенный неподалёку от Давоса высокогорный санаторий для больных туберкулёзом, чтобы навестить своего двоюродного брата. Воссоединившись, они предпринимают прогулку по окрестностям, где неожиданно сталкиваются с неким господином Сеттембрини, итальянцем и литератором в третьем поколении. Возраст незнакомца было трудно определить, замечает автор, но впечатление он производил человека ещё молодого, хоть и с посеребрёнными сединой висками. Одежда его видом своим как бы проваливалась между известными канонами моды, а кое-где имела вид откровенно неопрятный. Смесь потёртости и изящества, вкупе с интеллигентным лицом, явно намекали на иностранное происхождение господина. Он пространно заговорил с братьями, сидевшими на лавочке, однако ж сам на протяжении всего разговора продолжал стоять в грациозной позе. Было нечто своеобразное в его облике и поведении, словно бы призывающее сохранять бдительность и ясность духа. Немецкая речь его была лишена всякого акцента; вместе с тем, говорил он очень тщательно, с явным удовольствием произнося слова, – и очень обрадовался, когда собеседники обратили на это внимание, дважды обозначив свой выговор как «пластичный». Иногда он шутливо кланялся, в другой раз упомянул каких-то Миноса и Радаманта, счёл высокогорье бездной, а больницу царством теней. Назвал злость самым блестящим оружием разума против сил мрака и безобразия. «Мы все ведь – низко павшие создания», – подчеркнул, не удержавшись.
Чем дальше, тем больше я чувствовал, что он кого-то мне напоминает. Но кого, определить не мог. По смутному наитию, я отлистал несколько страниц назад, чтобы посмотреть название главы. И с удовлетворением прочитал: «Сатана».
Заклинаю вас: будете общаться – избегайте дразнить, не ставьте никаких условий. Ощущение зависимости он ненавидит даже больше, чем род человеческий.
Для профилактики же аппарата мистической интуиции любому культурному человеку я бы рекомендовал к перечитыванию разговор с сатаной Леверкюна. Тот, в котором композитор демонстрирует завидное познание мифологии ада. В частности, называет «эффектами» именно ту атрибутику преисподней, которая эмоционально дисциплинирует верующего, бегущего сути, но падкого на внешнюю сторону дела. Подобные разночтения смысла удаётся наблюдать почти во всех наиважнейших сферах человеческого бытия. Например, я не люблю ходить в церковь по той же причине, по которой мне претит театр. И там, и там «главные действующие лица» выдают себя не за тех, кем являются.
Тут поинтересовались:
«Что хорошего сделала церковь в нашей стране? Наша дорогая официальная православная церковь, имеется в виду. Каких детей вылечила? Какую гуманитарную идею пропагандировала? Начала ли собирать носибельные вещи в специальных контейнерах в людных местах? Помогла ли сиротам? Хоть одно доброе дело, кроме крещения и отпевания за деньги, сделала церковь? Какое?».
Люди воцерковлённые, конечно же, воспрянут. Им главное – успеть сказать «да».
Но вот смотрите.
Я ощутимо среднего возраста. Коренной москвич. Работаю информационным журналистом в нескольких совершенно разных по формату СМИ. Безвылазно сижу в блогах. Езжу в машине и на метро. Пешком хожу всюду. Только – не в церковь. И я про церковь «нашу дорогую» ничего не знаю. Ни на каком уровне. Мне что она, нынешняя, что какая-нибудь катакомбно-старообрядческая – всё одно.
Это нормально? Может, у них такой стиль воздухновенный?
Допустим.
Но нам-то здесь, за оградой, что тогда делать? И как вообще относиться?
«Затащить в церковь и привести к Богу – не только разные, но и прямо противоположные вещи». Очень практично для ума сформулировано.
Пока один пастырь буквально ужинает бомжей и на свой день рождения отправляется в ночь помогать нищете материально, другой прилетает на открытие коррупционно созданного храма на голубом вертолёте (я не шучу), а двести человек, готовящих ему трапезу, не могут даже подступиться к владыке. Один обращает в веру своим собственным бытованием, а другой аналогичным образом побуждает взять автомат и обратить его против себя самого.
Выбор за нами. Как и всегда.
Сам-то Бог, конечно, существует – это очевидно для любого человека, кто обладает хотя бы начатками надмирной интуиции, и чьё внимание устремлено верно. Однако ж религии явно ниспосланы пасущимся в порядке утешения, имеющего вполне психотропную выделку. Любая кажущаяся мистичность религий легко поверяется исторической необходимостью, нуждами актуальной антропологии, экономической реальностью и прочим соцкультбытом. Отсюда их разнообразие, диктуемое в свою очередь спецификой этносов и требованиями культуры.
Разумеется, утешающий потенциал религий абсурдно умалять. Их действие сравнимо с треском погремушек, используемых перед лицом малыша, чтобы малыш не плакал. Оттого-то религиозные люди, нарекающие Истиной культовый регламент и замещающие личные комплексы абстрактной сутью, напоминают детей, которым не суждено вырасти. Вслед за современником, хочется повторить: «Я боюсь не смерти, а загробной жизни». Но смерти тоже имеет смысл бояться. У большинства из нас она вряд ли окажется примиряющей. Возможно, спасён будет именно тот, кто поймёт трудности Бога. Хоть что-то предъявит. И попытается сделать это так, чтобы попытку засчитали. Тогда появится шанс. Отношения Господа со своими созданиями – это ведь человеческие отношения. Иначе, какой смысл? Ему-то!
С другой стороны, один из лучших способов замаскировать и легитимизировать узколобие – посвятить себя служению Богу. Из этого, кстати, мастерится неплохой культ. Человек думает, что стремится к Истине, а в действительности пестует собственную ограниченность, прекрасно сознавая, что некоторые болезни таблетками не вылечишь. Взяться же за скальпель не позволяет «объём двигателя» у души. Поэтому многие ищут себя в покорности.
Именно так религия переходит в условную медицину. Если на одной стороне медали «смирение», на другой почти гарантированно обозначится «фрустрация». Такие медали, подобны золоту. Со временем становятся только тяжелее. И ни одна сторона не может стагнировать, относительно другой. Хотя по здравому размышлению (и после долгих мытарств), приходится осознавать, что учиться любить Бога – единственная дисциплина, человеку годная и уместная.
Там, где у обычных людей – сердце, застыло на пару мгновений. Потом тупо провернулось. Холодным отчуждённым лезвием. И начало давить, раздвигая рёбра. Глубже, всё глубже.
Реакция надвинулась сразу отовсюду. Лоб повлажнел от пота. Ноги стали, будто у оброненной куклы. Трассирующими пулями мелькали судороги осознания: сука, предупреждать же надо, сука, я на работе сейчас, бля, увидят, девки визжать начнут, положат на диванчик, да? или оставят лежать на полу, если скопычусь? хорошо хоть помочился недавно, но челюсть, сука, отвалится, точно, как пить дать… и глаза… глаза успею скрыть, а?.. а?! или кому-то придётся вмешаться?.. никто ведь не притронется, так и буду лежать, закатив стеклянные шары к потолку, пока не приедут Специально Обученные люди… а там – известно что… за руки, за ноги, в мешок сложат и унесут наполовину пополам, подарив окружающим выхлоп из лёгких усопшего, таким и запомнят: откинутая голова с непривычной маской, вместо знакомого лица, болтающиеся ноги (один ботинок слетит точно) и этот хриплый выдох-свист, тонизирующий любого из присутствующих к немедленному оповещению фейсбука именно в том смысле, что это пиздец, ребята, реальный пиздец, в сороковник с небольшим отпрыгался, предупреждали же сто раз – только что сидел, был рядом, тут вот с нами, из эфира вышел, мы ещё говорили… о чём, кстати? не помните, а? никто не помнит? не помнят, конечно… я и сам уже не помню ничего и никого – ни мать, ни дочь, ни… вообще никого… и чувствую только одно – смертный ужас… неподдельный, классический… сдаю кандидатский минимум, да… и безуспешно пытаюсь молиться… а что делать?.. генеральная репетиция, она такая.
Щас пройдёт. Щас (редактор, не исправляй, ладно?). В раю ещё ни разу не оказывался, а вот в ад попадаю регулярно.
Намедни преисподняя выглядела как глубокий анус, выдающий себя за Тверскую улицу. Свет наличествовал только в двух недосягаемых местах. Времени не было, конечно; все стрелки безвольно опустились на полшестого. Там и сям опарышами в лакомых фрагментах плоти кучковался народ. Не опасный, нет. Однако пользы от него, как я понял, ещё меньше, чем от врага. Главной по ощущениям выступала темь. Мрак лютый. Такой подразумевается между штрихами в ветхозаветных гравюрах Доре. Его можно осязать на ощупь. Лепить, словно пластилин, хотя по органике своей он летучее эфира. Всё пространство ощущалось схлопнутой вселенной. Pocket universe. Зато дышится там легко, будто есть чем. И нервам щекотно. Милым фейковым нервам.
Это случилось намедни…
А нынче вдруг обнаружилось, что три передних зуба наросли друг на друга. Потянув верхний, я безболезненно вынул их все, вместе с куском челюсти. Глянул на себя в зеркало и тут же начал отекать плавимой свечкой.
В общем, готовят меня потихоньку, не иначе.
А вам совет, пока жив: не спите на стульях и без подушки.
Люблю иной раз в полу-шутку заметить, что подписать книгу труднее, чем написать. В известном смысле, памятные отметки дарителя свидетельствуют о его калибре.
«25-е мая 1988 г. Нью-Йорк. Дорогому Альфреду Шнитке – вместо снотворного от автора. Иосиф Бродский».
Хороший пример.
Подвергаю домашнюю библиотеку самой жёсткой чистке за всё время.
Рихард фон Крафт-Эбинг, «Половая психопатия». Макс Нордау, «Вырождение». Чезаре Ломброзо, «Гениальность и помешательство». Освальд Шпенглер, «Закат Европы».
Поверхность богов в сумерках. А ведь я всё это читал. Ребёнком читал! Взахлёб… И вот теперь думаю горестно: зачем это мне? Какой в том смысл? Что, когда-нибудь был рассвет у целой Европы? Или, может, человеку в кои-то веки не сопутствовало вырождение?
Стопки вынесенного за скобки неумолимо растут, но радость от очищения не наступает. Вслед за учётом вещного мира, по логике, должна последовать ревизия мыслей. Но пока самую мысль об том я успешно гоню.
Взял вот одну из отложенных стопочек, чтобы занести в книжную лавку при нашей церкви.
Занёс.
Лавка благообразная, при не менее опрятном культовом заведении. Во всём чувствуются щедрые пожертвования, каковые регулярно вносят жители ближайшего коттеджного посёлка, лихоимцы всех мастей, прошедшие тернистый путь от подворотных кидал до сенаторов и министров.
– Кураев? – утомлённо спросила служительница культа, быстро просмотрев доставленные мною брошюрки.
– Ну да, – говорю. – Они у меня дублируются многие, по текстам.
Она неприязненно повела носом:
– Кураев у нас не приветствуется. Хотя… Ладно, сойдёт для библиотеки. Оставляйте.
«Вот ведь…», – подумал я, выходя наружу и силясь подобрать цензурное слово для описания происходящего. Слово упорно не подбиралось. Ладно, после найду. А ещё лучше – завести посох как у Гэндальфа. Чтобы при случае треснуть было чем. Вспомнил смску от одного из стариннейших друзей: «У меня богатый словарный запас. В нём присутствуют слова «оксюморон», «клепсидра», «перст указующий» и даже «ибо». Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами. Хочется просто взять черенок от лопаты и отпиздить».
Вот и я вроде стал в тупик, не понимая – зачем мне всё это… А потом подумал: «Общайся Достоевский только с единомышленниками, разве смог бы он написать «Бесов»?
А тут ещё научился получать удовольствие от людей, не приемлющих мата. В соответствующий момент, дождавшись, когда собеседник многозначительно закатит глазки, оттопырит пальчик, а всем остальным телом примет позу, словно бы в жажде исцеляющего пинка (от чего я, разумеется, воздерживаюсь, поскольку собеседником может быть – и чаще всего бывает – дама), спешу участливо заметить:
– Очень хорошо вас понимаю. Вы же – не Пушкин, не Бродский. Конечно, вы не можете себе позволить таких слов!
И с удовольствием, с каким, обычно, вгоняют осиновый кол, добавляю:
– Я вот – могу.
Тему разговора, как правило, сразу меняют.
На одном из поворотов судьба обошла меня, приняв образ депутата, имя которого должно быть предано забвению. Я готовил к печати свой первый роман. Выпускающий редактор, ткнув пальцем в текст, сказала:
– Вот это мы не сможем пропустить. Законодательная инициатива вышла. Слышали?
Про инициативу я слышал. Её, кстати, к тому моменту успели принять. Она стала законом.
Чувствуя, как жмётся сердце, я глянул, какой эпизод вменяется мне в крамолу.
А вот какой:
«В одном из плюгавеньких магазинчиков, у игрального автомата стояли две агрессивные, полуизжёванные матроны. Видимо, ещё задолго до моего прихода они что-то не поделили, поскольку хоть и бранились друг на друга, но уже чисто рефлекторно. Вид игруньи имели страшный, наркотически обусловленный. Особенно когда какая-нибудь, приостановив вращение выпученных глаз, в перерыве между закидыванием жетонов в щель тихим голосом процеживала такую, например, фразу:
– И даже не стой со мной рядом, курва, я тебе сказала, блядь, играй в другом месте, стерва такая…
Секунд через пять звучал ответ:
– Ты мне, пизда, мозги не еби. Играешь себе и играй, пока, нахуй, жива ещё. Вот я кончу сейчас и тебя, суку, выебу, пидорку ебаную, за язык твой вонючий. Пизда косая. Хуй ты выиграешь у меня…
Первая игрунья вздрагивала:
– А ты хуями меня не тычь, пизда-блядь. Я хуи твои на своём хую вертела, пиздарванка.
Та от неожиданности роняла жетон.
– Во! Во! – механически радовалась первая. – И руки под хуй заточены. Не можешь нихуя.
Тут у обеих разом закончились жетоны. Игруньи моментально договорились между собой о продолжении, наменяли у продавщицы магазина новых медяков, и прерванный процесс возобновился, как ни в чём не бывало».
Мда…
В квази-документальном повествовании пытаться переделать сцену, основанную на реальности, полностью отменив живую речь – тот приём, на котором тут, собственно, всё и строится – практически безнадёжное дело. Но потом я подумал: а как бы на моём месте поступил, допустим, Тарковский? Или, ещё лучше – Довлатов? И другие мастера, которых цензура не просто пинала, а буквально-таки, со всей дури праведного смысла и нравственного указания, мочила?
Я воспринял происходящее не как удар судьбы, но как вызов на поединок. Инициирование проверки языка, его возможностей – крепости, гибкости и силы.
В конечном итоге, роман был выпущен, мой редактор, по версии одного из профильных сообществ, стал «Редактором года», а указанный эпизод вышел из печати таким:
«Вид игруньи имели страшный, наркотически обусловленный. Особенно когда какая-нибудь, приостановив вращение выпученных глаз, в перерыве между закидыванием монеток тихим голосом процеживала фразу, двухэтажно обустроенную, тщательно выверенную, с бортиком окрест флигеля. Секунд через пять звучал ответ – трёхэтажный уже, ответственно-монолитный, в сиянии побелки и лепнины, с вензелями. Первая игрунья, вздрогнув, шустро сооружала вконец монументальное здание фразеологии, со скоростным лифтом и подполом, с намёком на бассейн и вертолётную площадку. Оппонентка от неожиданности роняла жетон. И получала повтор, набранный жирно, курсивом и вразбивку. С подчёркиванием. В лучах прожекторов. Осенённый пламенным салютом. Сопровождаемый аплодисментами спешно доставленных кариатид. Фонтан выигрышных лотерейных билетов расстреливал небо…».
Самое ужасное – что меня устраивали оба варианта. Но какой из них лучше, не могу понять до сих пор.
Конечно, хорошо иметь право выражаться.
Свой кандидатский минимум ваш покорный слуга выдержал ровно десять лет назад, когда готовил рассказ для «Огонька». Журнала, имевшего о ту пору ярко выраженный право-либеральный уклон. Без особой надежды на успех, я допустил у одного из героев фразу «йоп твою мать». И фраза прошла! Сами понимаете: сделать в слове из двух букв три ошибки – ну какой редактор устоит!
Всю жизнь удивлялся тому, как из произведений изымают громадные куски – цельные, колоритные, жизнетворные. А ведь и сам грешен! В роман мой не вошёл довольно солидный фрагмент о путешествии с однополым другом в Прагу.
Автоcrash с цыганами, комар-птеродактиль, плантация виниловых хуёв – много чего было. Но тут вспомнилось, как вечером первого дня мы получали от принимающей стороны инструкции по выживанию.
Оказалось, что на диком еврозападе не принято, или лучше сказать – категорически нельзя, проявлять какую-либо жизнедеятельность после девяти часов вечера.
– Будете готовить, – сказал нам хозяин квартиры, в которой мы остановились, – соседи учуют запах, вызовут полицию.
Мы сели на жопы.
– Как?!?
– Беспокоит. Запах если, шум, просто им что-то не то покажется, сразу начинают звонить. Власти за стукачество награду дают, разрешают месяц-два коммунальные услуги не оплачивать. Так что увидите: в окне кто-нибудь стоит – всё нормально, человек при деле.
У них там, оказывается, даже собачек держат, в основном, маленьких и плюгавеньких. Налог меньше. Собачки уступают размером говну, которое высирают. Приличная цивилизация! Ещё бы подобрать к ней слова…
Не к месту вспомнилась одна «полиграфическая» история.
Примерно, через 3330 дней после того, как был написан первый текст великой эпопеи о городе Пиздецке («Горизонтальное положение Тургаюкова»), текст другой эпопеи («Три песни о Савве») обрёл книжно-форматный статус за личный счёт автора. По этому поводу произошёл сход на уровне достаточно великом, чтобы расставание ознаменовалось репликой: «Руки жать не будем. Организм ослаблен…». Но такие случаи, стоит отметить, фиксировались и ранее.
В этот раз соображали классически, на троих. Начинали со Святославом, у того дома, но попутно выписали ещё Дмитрия, которому пришлось разрываться между компанией и беременной женой. Излишне уточнять, в каком направлении произошёл окончательный разрыв.
Пока Дмитрий воссоединялся с друзьями, отважно «уговорили» литр.
Книга была торжественно вручена. Абросимову, с учётом его стеклянного состояния и тяги к родным пенатам, поймали машину. После того, как автор уехал, началось самое интересное.
Купили ещё водки – что само по себе ничего, кроме уважения, внушать не может. Однако Святослава на волне невиданного энтузиазма крепко «штормило». В итоге его уложили, а на кухне остался Дмитрий и жена пригласившей стороны. Посреди ночи гость отправился на лестницу курить, где встретил Человека В Трусах.
– Дык ты от Славки, что ль?! – возовопил Человек, разогнав дым сигареты и тоску одиночества.
– М… – утвердительно кивнул Дмитрий.
– Который из «Газпрома», что ль?! – возовопил Человек.
– М… – кивнул Дмитрий.
– Дык!! – возрадовался В Трусах.
Суть его предложения к Дмитрию заключалась в том, что надо немедленно поднять Святослава. И продолжить.
На препирательства ушло, примерно, полчаса. Никого поднимать не стали. Просто выволокли стол прямо на лестничную площадку и продолжили. Декалитраж и смысл происходящего далее утерян…
Ранним утром Дмитрий вышел в чёрную морозную мглу. Он находился в Братеево – по одну сторону Москва-реки. Его дом с беременной женой и сыном возвышался в Марьино, в пределах прямой видимости – по другую сторону. Согласно расчётам Дмитрия, дойти домой он должен был быстрее, чем замёрзнуть. Но прямо на середине моста бедолага упал, расчёты спутались.
«Я сломал ногу…» – подумал Дмитрий на манер мультипликационной классики («я ёжик… я упал в реку»), но река была далеко внизу и, примерно, на таком же расстоянии находилось родное жилище, которое он видел сейчас в непривычном ракурсе. Дом рос из земли куда-то вбок. Но внутри него по-прежнему спала жена, ребёнок спал. Они ничего ещё не знали…
Внезапный прилив сентиментальности омыл разум поверженного, и Дмитрий стал мыслить более конструктивно.
«А ведь я, наверно, не сломал ногу, – подумалось ему, – я, наверно, её только вывихнул…».
Он стал бороться за жизнь. Жизнь над ним издевалась. В летнюю пору можно было бы закусывать зубами стебли травы и подтягивать землю к себе. Но, повторяем, стояла страшная русская зима, и несчастный лишь безуспешно елозил, практически на одном месте.
Спустя некоторое время, его подобрал сердобольный шофёр. Новоявленный седок говорил буквами. Причём, далеко не всеми. Хорошо хоть шофёр попался сметливый, повёз его через реку. Когда оказались между домов, спросил:
– Так тебе, парень, куда здесь, в Братеево?
– Вб… В Б… ратеево?! – изумился Дмитрий. – Я жживу… в М… арьино… наз… Заречной у-ли… це…
Машина резко затормозила.
Слова шофёра впечатались как гвозди в пенопласт.
– Парень! Так я тебя и подобрал в Марьино! На Заречной улице!!
«А главное, – рассказывал Дмитрий, спустя несколько дней, – я ведь потом выяснил, что пока полз, потерял ключи от машины, ключи от квартиры, бумажник со всеми деньгами. В общем, всё, всё потерял».
Когда утром его, наконец, доставили по месту назначения, жена смогла только руками развести. Заклеймила его «Маресьевым» и отправила спать.
Поутру, очнувшись, Дмитрий вышел на воздух, прогуляться в ближайшем парке. Он шёл мерно и спокойно, без средств и документов, тяжело вспоминая прошлое, навстречу таинственному будущему. С чистым сердцем шёл. С ранетой душою. И пока шёл, нашёл сначала ключи от машины. Потом ключи от квартиры. Бумажник со всеми деньгами. В общем, всё – всё нашёл!
На следующий после литературной попойки день Абросимов позвонил Святославу, свериться о самочувствии.
– Вкус, – пожаловался Святослав, – вкус такой во рту, будто глоток влил, а проглотить не могу.
– Так это ладно, – отреагировал писатель. – У меня-то знаешь, что ночью было?
Ночью, по привычке, жена Абросимова уткнулась ему носом в спину и в ужасе отпрянула. Муж её водкой… потел!!
Право же, не знаю. Нужны ли тут какие-то комментарии?..
В какой-то момент захотелось зевать, кашлять и чихать одновременно.
Никогда ещё не чувствовал себя глупее… Господи, неужели ж и я точно так же в старости, положив килотонну пуза набок и обернув к телеящику выцветшее лицо, буду внимать бесконечному сериальному говнищу по Пятому каналу?!..
Ведь изначально, в детстве, я был нежен, тонок и щупл. Соблюдал приличия. Требовал, чтобы на пляже голую попку мою прикрывали носовым платком. А сверху – камушек. Иначе, ветром сдует.
Но подлый мир нет-нет, да и коробил.
Однажды maman делала бутерброд с икрой.
– Можно мне без хлеба? – кротко поинтересовался я.
– А морда у тебя не треснет? – донеслось в ответ.
Прошли не просто годы – десятилетия. Я неожиданно купил кусок осетрины горячего копчения. Сижу и жру её. Даже не порезал. Без хлеба, разумеется.
В голове свербит мысль о страшной и столь же бесполезной мести. Но реальность, пропитанную гадостями, не обманешь.
– Павел Андреевич, вы шпион?
– Видишь ли, Юра…
И так всегда.
Жить, наверное, не стоит.
На днях потребовалось забрать вещи для передачи в Питер. Выхожу из метро «Кропоткинская».
– Алё… Лера? Я приехал.
– Как вы выглядите?
– Ничего не значащий человек. Стёртая внешность.
– О, я вас вижу!
Ровно с пятого класса я перестал что-либо понимать в математике. Запомнил только, что параллельные линии не пересекаются; прямой угол – 90 градусов, сумма углов в треугольнике – 180. И ещё про дискриминант запомнил, который «бэ квадрат минус 4 а цэ». У меня тройки по всем точным дисциплинам, включая географию и английский язык. У меня даже по русскому языку тройка! Я не знаю ни одного правила. «Жы-шы» регулярно ставят меня в тупик.
Когда читатели «Пожитков» узнают, что орфография и пунктуация в романе – авторские, они почтительно замирают. Автору становится приятно.
Второго дня провёл за письменным столом два часа, написал восемь строк. ВОСЕМЬ! За ДВА ЧАСА!!
Отчаявшись, собрался в лес. Уже полностью одетый, почувствовал, что пришла фраза. Сел записать её и… написал страницу. Не отрываясь. За три минуты.
Всегда подозревал, что пьянью быть выгоднее, чем писателем. Муки те же, а конструктива больше. За вычетом мастерства, само собой.
Как-то раз сидели с П.А. в его квартирке на Кутузовском, которая вмещала в себя книги весом, соразмерным числу килотонн нормальной атомной бомбы.
– А знаете, Юрий, – говорил мне писатель, подливая горячий чаёк и пододвигая ближе плошку с малиновым вареньем собственноручного изготовления, – знаете, у кого самые лучшие диалоги? Самая органичная живая речь в тексте? И это уже проверено веками!
Я зашуршал в мозгу фигурантами школьных учебников по литературе.
– Дюма, – оборвал мои поползновения хозяин дома. – Дюма-старший. «Три мушкетёра». Перечитайте хотя бы одиннадцатую главу. Ночная встреча д'Артаньяна и г-жи Бонасье. Автор даёт реплики десятками, не уточняя – кто к кому обращается. Но мы не только не теряем нить диалога – каждая фраза звучит в нашем сознании так, словно мы смотрим кино. С интонацией, паузами, градусом экспрессии. А ведь прямая речь – один из наиболее сложных параметров литературного текста… Его в этом до сих пор никто не может превзойти. Дюма. Перечитайте.
Я так и сделал. И до сих пор нахожусь под впечатлением. А тому разговору скоро уже двадцать лет.
Может, как-то так преподавать литературу?..
После всех телодвижений законотворческой шелупони я нахожу только три отличия наших дней от советского прошлого: ассортимент в магазинах, ночное порно по кабелю и возможность пересекать границу. Ложь, воровство и отрицательная селекция остаются неизменными.
Хотя то же товарное изобилие весьма относительно. Одно дело, черкизонная палитра и гирлянды колбас; другое – гуманитарная пища. Заметил, что вслед за музыкой и видео, намного меньше стали выпускать книг. Чисто физически меньше.
Гадал ли я дожить до такого момента, когда проблема будет не в отсутствии денег, а в том, что культурному человеку нечего на них купить! Идея-мечта стать главным редактором глянцевого журнала о том, что всё говно, кроме мочи, между прочим, остаётся актуальной. С годами потенциал идеи (прежде всего, коммерческий) только растёт. Только извне подобный заказ вряд ли поступит, а нутро чаще способно плодить «переменную облачность, местами осадки». Яйца у твари-лени всё же поболе будут, чем у суки-любви. Опять же инвестора нет, рычаг для переворачивания мира простаивает попусту. Сижу тут один. С пивом…
Лучший метод сотворения текста – оказаться в ситуации, когда (по ощущениям) ничего не происходит, ждать нечего. Не будет ничего. Никогда. И смерти не будет. А ты – есть. Никого и ничего, кроме тебя.
Вот тогда из этой пустоты, из этого ничто, начинает появляться нечто.
Бог так вселенную сотворил. Обычное дело.
В Городе Детства обитель для занедуживших строилась немного быстрее, чем Кёльнский собор. Но ремонт в ней шёл на протяжении всего времени строительства. Идёт он и сейчас. Капитальный ремонт, само собой. Лифт, впрочем, отказывался работать не по этой причине. Просто у лифта в воскресенье выходной день. Отдыхает лифт, понимаете? Поэтому на пятый этаж, в кардиологию, следовало идти пешком. Вполне торжественно, я считаю: кардиология на пятом этаже. Над ним – шестой этаж, последний, где реанимация. Выше неё, как легко догадаться, один лишь Господь. И ангелы Его.
В центральном холле кардиологии мне довелось провести не более десяти минут, каковое обстоятельство, безусловно, послужило моему спасению. На поставленных вразброс диванчиках здесь присутствовало несколько старушек и один напрасно молодящийся мужичок. Все они смотрели до странности цветной телевизор.
Я сел на свободное место.
Центральный канал транслировал очередное истерически-весёлое шоу, из новомодных. Максим Галкин, загримированный под жителя планеты Пандора, представлял членов жюри. Сначала переодетую актрису Чурикову, узнаваемую только по лошадиной улыбке. Потом артистку Шелест, не забыв обкаламбурить фамилию той. И, наконец, певца Баскова. В знак подтверждения своего таланта последний немедленно взял микрофон и исторг в него вопль дурным голосом:
– АААА-А-А-ААААА-А-А-А-ААААААА!!!..
Мне стало нехорошо аккурат в области сердца.
Заметив газеты, лежавшие рядом на журнальном столике, я схватил первую попавшуюся. Ею оказалась «Правда». Я начал по очереди перебирать остальные. Тщетно – не «Правды» не было.
Колыхался на окнах тюль. Под ним отопительные радиаторы щедро делились жаром. Колыхались искусственные лианы в кадках по углам. Телевизор взрёвывал искусственным смехом и бурлил аплодисментами…
Никогда ещё моральные страдания не ощущались столь физически. Наверное, теперь я смогу более квалифицированно консультировать по вопросам адовых мук.
Вообще сейчас, когда до отпуска остаётся четыре дня, мне кажется, он никогда не наступит. Но я точно знаю, что когда останется четыре дня до возвращения на работу, они потеряют всякий смысл – так, словно бы всё уже кончено.
Успешно с этим бороться выходит не каждый раз. Можно, например, структурировать жизненные приоритеты. Удивлять ребёнка, удивляться ребёнку, полюбовно трахаться с женой и с интересом тратить деньги. Вполне достаточно.
Настораживает другое: сны всё больше проникаются ролью шуруповёрта. Взвинчивают и подвинчивают. Инструмент никто не чистит, рука предумышленно вздрагивает.
Например, видел молодую женщину. Она сидела, опустив голову низко. Почти между колен. Как закумаренный бомж в последнем вагоне метро. Но при этом говорила по телефону.
«Она и сбила», – понял я.
Из четырёх машин две «вменились ни во что», остальные были в разной степени раздрызганны.
Позже прочитал отзыв знакомого о происходящем вокруг. Кругом аварии, сообщил он. Даже с трупами.
Так и есть.
Я сам видел.
Ему поддерживали голову зачем-то. Наверное, чтоб он мог наблюдать, как его ноги лежат рядом. Сорокалетние на вид ноги. Отчуждённая собственность.
Сегодня – то же самое. В таком покойном месте, что… происходящее напоминало техасскую резню бензопилой. Во время детского утренника, когда взрослые отвлеклись на другое.
Полагаю, от нехватки жизни всё приходит в равновесие. От удушья и скуки.
Властецентричное общество, чья голова – давно гнилушка. Спиртное помогать перестало. И адюльтер. И разговоры.
Душа у каждого второго, словно кальянный уголёк: жар опаляющий под толстым слоем пепла. Люди выходят из берегов.
Снова грибы сейчас белые – хоть вагонами вывози. Старики говорят, перед войной такое было…
Занесло с оказией на две тысячи километров юго-восточнее обычного места дислокации, но и там не помогло. Урал по осени не тот. Крупнозернистый, с проталинами теряющих легитимность островков. Воды свои струит подчёркнуто обтекаемо, по берегам нередко закамышован. Мостками его пересекают облупившиеся, в меру жёваные трамвайчики, кондуктор в которых успешно теряется промеж пассажиров, а вагоновожатое оптически сгинуло вовсе.
Цветом с высоты потерявшей разум чайки Оренбуржье напоминает марсианские хроники.
При посадке капитан корабля доложил по громкой связи:
– Сегодня тепло. Правда, немного ветрено.
Держась за поручни трапа обеими руками, мы сошли вниз. Потом, наклонившись супротив воздуха почти параллельно земле, двинулись по направлению к зданию аэропорта. От него нас отделяли около сотни шагов, проложенных сквозь белёсую взвесь степного урагана.
– Там вот…
Водитель такси ловко вернул машину из полёта в дорожную езду.
– Там вот, километрах в пяти – Казахстан. Граница. Мы оттуда сюда продукты часто возим.
Вдоль дороги струились кустистые сферы перекати-поля. Тушканчиков всех повымело.
Без малого триста лет прошло с тех пор, как в здешних местах, более пустынных, чем даже Луна, закладывая восточный форпост на окраине Отчизны, вбил первый колышек пионер из отряда первопроходцев.
Я внимал всему-всему, подозревая, что происходит довольно невообразимое.
Ещё только предстояло осваивать местность.
Связывать времена нарекаемые и неизречённые.
Просчитывать в уме диктант шагов от храма к минарету.
Знакомиться не только с продуктами, но и с носителями оных.