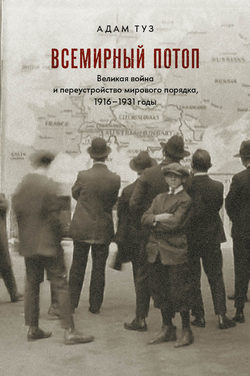Читать книгу Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы - Адам Туз - Страница 4
Часть I
Евразийский кризис
1
Война на чаше весов
ОглавлениеИз окопов Западного фронта Великая война могла показаться позиционной – бои развертывались на линии, протяженностью в несколько миль, а потери исчислялись сотнями тысяч жизней. Но эта перспектива была обманчивой[71]. На Восточном фронте и в войне против Османской империи линия фронта постоянно изменялась. На Западе линия фронта едва двигалась, но это затишье было результатом сосредоточения значительных сил, находящихся в опасном равновесии. Месяц за месяцем инициатива переходила от одной стороны к другой. В наступившем 1916 году страны Антанты планировали разгромить Центральные державы путем концентрических наступательных операций, выполнение которых возлагалось последовательно на французскую, британскую, итальянскую и русскую армии. 21 февраля, не дожидаясь наступления противника, германская армия перехватила инициативу и перешла в наступление под Верденом. Нанося удар по ключевой точке в цепи французских укреплений, немцы рассчитывали насмерть обескровить силы Антанты. К началу лета в битве не на жизнь, а на смерть было уничтожено более 70 % французской армии, что грозило превратить стратегию направленных концентрических наступательных операций Антанты в нечто немногим большее, чем серия экстренных спасательных акций. В мае 1916 года, для того чтобы вернуть инициативу, Британия согласилась провести свое первое крупное наземное наступление в этой войне в районе реки Сомы.
Пока военные, выбиваясь из последних сил, вели боевые действия, дипломаты срочно изыскивали способы втянуть в водоворот событий все новые страны. В 1914 году Австрия и Германия привлекли на свою сторону Болгарию и Османскую империю. В 1915 году Италия выступила на стороне сил Антанты.
Япония вступила в войну в 1914 году, захватив концессии Германии в китайском Шаньдуне. К концу 1916 года Британия и Франция привлекли японский флот, базировавшийся в Тихом океане, к участию в эскорте, защищавшим Восточное Средиземноморье от австрийских и германских подводных лодок. Огромные суммы наличными и все возможные способы дипломатического давления были использованы для того, чтобы воздействовать на последнюю европейскую страну, сохранявшую нейтралитет, – Румынию. Если бы она перешла в лагерь Антанты, то превратилась бы в смертельную угрозу мягкому подбрюшью австро-венгерской монархии. Но в 1916 году существовала одна-единственная сила, которая действительно могла изменить военный баланс, – Соединенные Штаты. Позиция США была решающей с экономической, военной и политической точек зрения. Лишь в 1893 году Британия сочла возможным поднять уровень своего представительства в столице Америки до статуса полноценного посольства. Теперь, менее чем одно поколение спустя, история Европы, похоже, зависела от того, какую позицию по отношению к войне займет Вашингтон.
I
Стратегический успех Антанты зависел от сочетания серии сокрушительных концентрических наступательных операций и медленного экономического удушения Центральных держав. Перед войной британское адмиралтейство разработало планы не только морской блокады, но и финансового бойкота, целью которого было разрушение всей торговли в Центральной Европе. Но в августе 1914 года, столкнувшись с резкими протестами Америки, оно отказалось от полного осуществления этих планов[72]. Ситуация зашла в тупик. Британия и Франция пошли на компромисс, сократив использование своего самого грозного оружия на море. Но блокада, даже частичная, была очень непопулярна в Соединенных Штатах. Американский флот считал начатую Британией блокаду «не отвечающей ни одному закону или обычаю морской войны, известным до сих пор…»[73] Реакция Германии несла в себе еще больший политический заряд. В феврале 1915 года, стремясь изменить обстановку в свою пользу, Кригсмарине (Kriegsmarine), Военно-морской флот Третьего рейха впервые направил свои подводные лодки для совершения массированных атак на маршрутах трансатлантических перевозок. Они топили почти два судна ежедневно и в среднем 100 тысяч тонн грузов в месяц. Но транспортный ресурс Великобритании был велик, а продолжение подобных атак могло привести к тому, что в войну была бы втянута Америка. К общеизвестным потерям можно отнести лишь «Лузитанию» и «Арабику», потопленные соответственно в мае и в августе 1915 года. Стремясь избежать дальнейшей эскалации, гражданское правительство кайзера в конце августа пошло на попятную. При поддержке Партии католического Центра, прогрессивных либералов и социал-демократов рейхсканцлер Бетман Гольвег отдал приказ, запрещавший проведение подводных атак. Антанта не могла должным образом обеспечить блокаду, опасаясь протестов со стороны Америки. По той же причине не состоялся встречный удар со стороны Германии. Вместо этого весной 1916 года германский флот попытался разрешить тупиковую ситуацию на море, заманив большой британский флот в ловушку в Северном море. 31 мая 1916 года в самом крупном морском сражении за всю историю войны, состоявшемся недалеко от берегов Ютландии, столкнулись 33 британских и 27 германских линейных кораблей. Окончательного результата добиться не удалось. Обе эскадры вернулись на свои базы, где и оставались, молча грозя своей мощью из-за кулис театра военных действий.
Летом 1916 года Антанта пыталась вернуть себе инициативу на Западном фронте, но политика блокады на Атлантическом океане оставалась нерешительной. Когда Франция и Британия решили усилить хватку, составив «черный список» американских фирм, которых они обвинили в «торговле с врагом», президент Вильсон с трудом сдержал свой гнев[74]. Это было «последней каплей», признавался Вильсон своему ближайшему советнику, учтивому техасцу полковнику Хаузу: «Должен признаться, что мое терпение с Великобританией и союзниками подходит к концу»[75]. И Вильсон не ограничивался увещеваниями. Американская армия, может, и была немногочисленной, но уже в 1914 году американский флот был силой, с которой приходилось считаться. Это был четвертый флот мира, который, в отличие от японского и германского флотов, мог действительно гордиться сражением с Королевским военно-морским флотом Великобритании в 1812 году. Последователям адмирала Мэхэна, великого американского теоретика военно-морских сил времен «позолоченного века», война дала бесценную возможность превзойти европейцев в строительстве флота и установить безоговорочный контроль на океанских просторах. В феврале 1916 года президент Вильсон согласился с их требованиями и начал кампанию за получение согласия Конгресса на создание, как он хвастливо заявлял, «величайшего флота во всем мире»[76]. Спустя шесть месяцев, 29 августа 1916 года Вильсон подписал самый масштабный план развития военно-морских сил в американской истории, утвердив ассигнования в размере почти 500 млн долларов в течение трех лет на строительство 157 новых судов, включая 16 линейных кораблей. Менее масштабным, но имевшим в конечном счете не менее важные последствия событием было учреждение в июне 1916 года Emergency Fleet Corporation, уполномоченной руководить строительством торгового флота, который не должен был уступать торговому флоту Британии[77].
В сентябре 1916 года при обсуждении с полковником Хаузом возможных последствий американской военно-морской экспансии для англо-американских отношений позиция Вильсона была определенной: «Мы построим флот больше, чем у них, и будем делать все, что пожелаем»[78]. Это угроза была столь зловещей для Британии потому, что, однажды поднявшись, США, в отличие от имперской Германии или Японии, определенно располагали средствами для того, чтобы воспользоваться этим. В течение пяти лет Америка будет признана как равная Британии морская держава. Таким образом, в 1916 году с точки зрения Британии война обрела новый существенный аспект. С начала XX века главной стратегической задачей империи было сдерживание Японии, России и Германии. Начиная с августа 1914 года единственное, что имело значение, был разгром Германии и ее союзников. В 1916 году очевидное желание Вильсона построить военно-морские силы, равные британским, было пугающим. Даже в лучшие времена вызов со стороны США вызывал чувство страха. А в условиях Великой войны он грозил ужасающими перспективами. Американские амбиции на море были не единственным серьезным вызовом, с которым европейцы столкнулись в 1916 году[79]. Рост экономической мощи Америки был очевиден начиная с 1890-х годов, но именно война Антанты с Центральными державами привела к тому что финансовый центр неожиданно переместился на другую сторону Атлантики[80]. Это привело не только к смене географического положения финансового лидера, но и к изменению самого значения лидерства.
Все основные воюющие европейские страны вступали в войну, обладая по современным стандартам необычайно прочным финансовым положением, значительными государственными средствами и крупными портфелями иностранных инвестиций. В 1914 году целую треть богатств Британии составляли частные инвестиции за рубежом. С началом войны мобилизация этих внутренних и находящихся в имперских владениях ресурсов была дополнена масштабными трансатлантическими финансовыми операциями. В этом участвовали все европейские правительства, но прежде всего именно Британия выступала на мировой арене в новом качестве. До 1914 года, в Эдвардианскую эпоху крупных финансовых операций, ведущая роль Лондона была общепризнанной. Но международные финансы были частным бизнесом. Дирижер, управлявший оркестром золотого стандарта, – Банк Англии представлял собой не государственное учреждение, а частную корпорацию. Если британское правительство и присутствовало в сфере международных финансов, то его влияние было незначительным и имело косвенный характер. Министерство финансов Соединенного Королевства оставалось на заднем плане. В чрезвычайных обстоятельствах войны эти невидимые и неформальные потоки денег и влияния довольно неожиданно потребовали значительно более конкретного и открытого политического руководства. С октября 1914 года правительства Британии и Франции положили на чашу весов сотни миллионов фунтов стерлингов в виде правительственных займов, предназначенных на поддержание «русского парового катка», которому предстояло разгромить Центральные державы на Востоке[81]. После Болонских соглашений августа 1915 года золотые резервы всех трех главных членов Антанты были объединены и использованы для поддержания курса фунта стерлингов и франка в Нью-Йорке[82]. Британия и Франция, в свою очередь, взяли на себя ответственность за проведение переговоров о получении займов от имени Антанты в целом. К августу 1916 года после ужасающих потерь в битве при Вердене кредит Франции упал до столь низкого уровня, что брать на себя ответственность за все операции в Нью-Йорке пришлось Лондону[83]. В Европе была создана новая сеть политического кредитования с центром в Лондоне. Но это была лишь часть операции.
С бухгалтерской точки зрения финансирование участия в войне стран Антанты требовало перегруппировки активов этих стран и их долговых обязательств[84]. Для обеспечения залоговых обязательств министерство финансов Соединенного Королевства организовало схему принудительного приобретения частными холдингами первоклассных ценных бумаг банков Северной и Латинской Америки, которые обменивались на выпущенные в Соединенном Королевстве правительственные облигации. Иностранные активы, попав в руки министерства финансов, использовались для обеспечения гарантий по многомиллиардным заимствованиям Антанты на Уолл-стрит. Обязательства перед Америкой, которые брало на себя министерство финансов Великобритании, уравновешивались в ее национальном балансе многочисленными новыми требованиями к правительствам России и Франции. Но нельзя недооценивать исторического значения этих перемен и крайнюю ненадежность возникшей финансовой архитектуры, представляя эту гигантскую мобилизацию как простую переориентацию действующей сети. После 1915 года военные заимствования Антанты привели к тому, что политическая геометрия системы финансов эдвардианского периода оказалась перевернутой с ног на голову.
До войны частные кредиторы в Лондоне и Париже, богатая верхушка имперской Европы, выдавали миллиардные кредиты частным и государственным заемщикам из стран, расположенных на периферии[85]. Начиная с 1915 года, когда источник кредитования переместился на Уолл-стрит, исчезли представители железных дорог России и разработчики алмазных месторождений в Южной Африке, ранее выстраивавшиеся в очередь за кредитами. Самые мощные европейские государства теперь занимали средства у частных граждан в США, да, впрочем, у любого другого, кто мог предоставить кредит. Выдача подобных займов частными инвесторами одной богатой страны правительствам других богатых развитых стран в валюте, которую правительство страны-заемщика не контролирует, не была похожа ни на что, происходившее в период расцвета поздней викторианской глобализации. Как показала гиперинфляция после Первой мировой войны, правительство, которое ранее брало займы в собственной валюте, попросту печатало деньги, необходимые для покрытия долга. Поток свежеотпечатанных банкнот размывал реальную стоимость военного долга. Для Британии и Франции, бравших займы на Уолл-стрит в долларах, дело обстояло иначе. Наиболее влиятельные государства Европы попали в зависимость от иностранных кредиторов. Эти кредиторы, в свою очередь, были уверены в Антанте. К концу 1916 года американские инвесторы поставили на победу Антанты 2 млрд долларов. В 1915 году, после того как Лондон взял на себя ответственность за займы, трансатлантические операции осуществлялись через единственный частный банк – влиятельный на Уолл-стрите Дом Дж. П. Моргана, имевший давние исторические связи в лондонском Сити[86]. Разумеется, это был бизнес. Но для Моргана эта операция была связана с откровенной антигерманской и проантантовской позицией и означала поддержку наиболее открытых критиков президента Вильсона в самих Соединенных Штатах и тех республиканцев, которые выступали за вступление Америки в войну. В результате на международном уровне возникло весьма редкое сочетание государственных и частных сил. Летом 1916 года, во время проведения крупномасштабной наступательной операции на Сомме, Дж. П. Морган, по поручению правительства Великобритании, израсходовал в Америке более миллиарда долларов, что составило не менее 45 % военных расходов Великобритании в те решающие месяцы[87]. В 1916 году отдел закупок банка занимался выполнением контрактов стран Антанты, стоимость которых превышала стоимость всего экспорта США за несколько предвоенных лет. Антанта, используя личные деловые контакты Дж. П. Моргана и при поддержке деловой и политической элиты северо-востока США, мобилизовала значительную часть американской экономики, совершенно не нуждаясь в согласии администрации президента Вильсона. Потенциально зависимость Антанты от американских займов давала американскому президенту мощные рычаги воздействия на ход военных действий. Но мог ли Вильсон действительно воспользоваться этой возможностью? Не была ли Уолл-стрит слишком независима? Могло ли федеральное правительство контролировать деятельность Дж. П. Моргана?
В 1916 году вопрос военных финансов и отношений между США и Антантой увяз в острых дебатах, продолжавшихся уже на протяжении жизни более чем одного поколения, об управлении капитализмом в Америке. В 1912 году, 40 лет спустя после возврата США к золотому стандарту, действие которого было прервано Гражданской войной, в стране все еще не существовало аналога Банка Англии, Банка Франции или Рейхсбанка[88]. Уолл-стрит уже продолжительное время лоббировала создание центрального банка, который выступал бы в качестве кредитора последней инстанции. Но интересы банкиров остались далеки от удовлетворения, когда в 1913 году Вильсон подписал законопроект о создании Федеральной резервной системы (ФРС) США. С точки зрения интересов Уолл-стрит, в частности Дж. П. Моргана, ФРС, созданная по инициативе Вильсона, была чрезмерно политизирована[89]. В сравнении с принадлежащим частным лицам Банком Англии ФРС не была действительно «независимым» институтом. В 1914 году, с началом войны в Европе, новая система прошла первую проверку. ФРС и министерство финансов провели интервенцию в целях предотвращения закрытия европейских финансовых рынков, которое привело бы к коллапсу на Уолл-стрит[90]. Между 1915 и 1916 годами американская экономика росла на волне вызванного экспортом промышленного бума. Для того чтобы удовлетворить европейский спрос на военные поставки, промышленные города Северо-Востока и района Великих озер без разбора нанимали рабочих и привлекали все виды инвестиций со всех концов страны. И это лишь усиливало давление на Вильсона. Бесконтрольное усиление такого бума вело к тому, что американские капиталовложения в Антанту вскоре стали бы слишком большими, чтобы позволить Антанте проиграть войну. А тогда американское правительство фактически теряло свободу маневра, которая сулила ему такую власть в 1916 году.
А могли ли страны Антанты, в свою очередь, избрать другой путь, чтобы в меньшей степени зависеть от ресурсов США? В конце концов, Германия вела войну, не получая столь щедрых даров[91]. Это сравнение наглядно демонстрирует, насколько важную роль играл американский импорт (табл. 1). Летом 1916 года, после изнурительных боев при Вердене и на Сомме, Германия продолжала оборонительную войну на западном фронте еще в течение почти двух лет. Центральные державы ограничивались менее затратными операциями на Восточном и итальянском фронтах. В то же время блокада тяжело сказывалась на положении гражданского населения Центральных держав. С зимы 1916/17 года жители городов Германии и Австрии начали понемногу голодать. Обеспечение поставок продовольствия и угля в тыл было не побочным моментом в Первой мировой войне, а важнейшим фактором, определявшим окончательный исход событий[92]. Для того чтобы экономическое давление оказало воздействие, требовалось время, но в конечном счете оно было решающим.
Таблица 1. Что покупали за доллары: доля закупок Соединенным Королевством материалов оборонного значения за рубежом, 1914–1918 гг., %
Когда весной 1918 года Германия начала свою последнюю крупную наступательную операцию, значительная часть армии кайзера была слишком ослаблена голодом, для того чтобы продолжать наступление в течение длительного времени. В противоположность этому неослабевающая наступательная энергия Антанты в 1917 году – французское наступление в Шампани в апреле, наступление армии Керенского на востоке в июле, наступление британской армии во Фландрии в июле и последнее стремительное наступление летом и осенью 1918 года – была бы невозможна ни с военной, ни с политической точки зрения без поддержки Северной Америки. В Лондоне по меньшей мере до конца 1916 года звучали голоса, призывающие избавить Британию от зависимости от американских займов. Но тем самым они призывали к переговорам о заключении мира. Эти голоса затихли с созданием в декабре 1916 года коалиционного правительства Ллойда Джорджа, которое хранило верность идее нанесения «нокаутирующего удара». Никто и не задумывался всерьез о возможности продолжения полномасштабной войны без поставок и кредитов из Соединенных Штатов. После 1916 года, когда союзники получили первый миллиард долларов в виде кредита на проведение первой операции, направленной на то, чтобы сокрушить Центральные державы в ходе концентрических наступлений, движение пошло по нарастающей. При планировании всех последующих наступательных действий подразумевалось, что они будут обеспечены значительными поставками из-за океана. И это лишь усиливало зависимость. По мере того как миллиарды накапливались, расходы по обслуживанию текущих долгов и стремление избежать унизительного дефолта становились главной заботой как во время самой войны, так и в еще большей степени после ее окончания.
II
В любом случае трансатлантическая борьба, определявшая дальнейший ход войны, никогда не носила только экономический или военный характер. Она всегда оставалась в высшей степени политической. Готовность продолжать войну зависела от политики, а это тоже было вопросом трансатлантического значения. Но тут аргументация была далеко не столь ясной, как в случае с экономической и военно-морской мощью. Имеющаяся у нас картина политических взаимоотношений между США и Европой в начале XX века строится главным образом на более позднем опыте Второй мировой войны. В 1945 году сытые, уверенные в себе «джи-ай» появились в Европе посреди военной разрухи и диктатуры как предвестники процветания и демократии. Но проецировать подобный образ Америки, представляющий собой заманчивый синтез капиталистического процветания и демократии, на начало XX века следует с осторожностью. Скорость, с которой Соединенные Штаты заявили о своем исключительном политическом господстве, была столь же неожиданной, как и возникновение их военно-морской и финансовой мощи. Она была обусловлена самой Великой войной.
Неудивительно, что на фоне ужасной Гражданской войны американский демократический эксперимент в течение полувека, отделявшего 1865 год от событий 1914 года, воспринимался со смешанными чувствами[93]. Разрабатывая конституцию, недавно воссоединившиеся Италия и Германия не черпали вдохновения в примере Америки. У обеих стран имелись собственные традиции конституционализма. Для итальянских либералов образцом была Британия. Моделью новой конституции Японии 1880-х годов была своеобразная смесь европейских влияний[94]. В период расцвета деятельности Гладстона и Дизраэли даже в Соединенных Штатах первое поколение политологов, среди которых был и юный Вудро Вильсон, обращались через Атлантику к вестминстерской модели[95]. Конечно, у юнионистов был свой героический эпос, где в качестве великого трибуна выступал Авраам Линкольн. Но лишь после того, как прошел шок Гражданской войны, новое поколение американских интеллектуалов смогло прийти к новому, примиряющему все стороны пониманию национальной истории. После определения западных границ континент объединился. Испано-американская война 1898 года и покорение Филиппин в 1902 году добавили Америке самодовольной уверенности. Промышленность США развивалась небывалыми темпами. Экспорт американской сельскохозяйственной продукции вел к ее изобилию в мире. Но в среде прогрессивных реформаторов «позолоченного века» собственный образ Америки был полон противоречий. Америка выступала символом коррупции, злоупотреблений и алчности политиков, равно как роста, производства и прибыли. Американские специалисты ехали в города имперской Германии в поисках моделей современного управления, а не наоборот[96]. В 1901 году, оглядываясь назад, Вильсон сам отмечал, что, хотя «девятнадцатый век» являлся «в отличие от всех других, веком демократии, мир…» был «убежден в преимуществах демократии как формы правления в конце этого века не больше, чем в его начале.» Стабильность демократических республик оставалась под вопросом. И хотя Содружество, «возникшее в Англии», считалось очень успешным, сам Вильсон соглашался с тем, что «история Соединенных Штатов… не подтверждает существования тенденции к созданию справедливого, либерального и безупречного правительства»[97]. Американцы могли доверять собственной системе, но им еще многое предстояло доказать остальному миру.
Не следует считать, что с началом войны стороны немедленно поменялись ролями. До тех пор пока число убитых не достигло неприемлемых величин, в европейских воюющих странах всеобщая мобилизация августа 1914 года воспринималась как чудесное подтверждение национальной сплоченности[98]. Ни одна из воюющих сторон не была развитой демократией в том смысле, как это понималось в конце XX века, но они не были старорежимными монархиями или тоталитарными диктатурами. Война была поддержана если и не патриотическим экстазом, то по меньшей мере необыкновенно широким консенсусом. В участвовавших в войне Британии, Франции, Италии, Японии, Германии и Болгарии действовали парламенты. В 1917 году в Вене вновь приступил к работе австрийский парламент. Даже в России ранний всплеск патриотического энтузиазма 1914 года привел к возрождению Думы. По обеим сторонам линии фронта главной мотивацией солдат была защита системы прав, собственности и национальной идентичности, с которой они себя в полной мере отождествляли. Французы воевали, защищая республику от исторического врага. Британцы записывались в добровольцы, чтобы внести свой вклад в защиту мировой цивилизации и устранить германскую угрозу. Немцы и австрийцы воевали, защищаясь от ненавидящих их французов, предавших их итальянцев, самонадеянных притязаний британского империализма и более всего от царской России. И хотя открытые призывы к мятежу подавлялись, а забастовщики оказывались в тюрьме или на опасных участках фронта, открытые разговоры о мирных переговорах становились обычным явлением, что было бы немыслимо по любую сторону фронта на поздних этапах Второй мировой войны.
Когда в декабре 1916 года премьер-министр Ллойд Джордж произвел перестановки в правительстве, это было сделано специально для того, чтобы подтвердить конечную цель – нанесение «нокаутирующего удара» по Германии, вопреки все более громким призывам к мирному соглашению. Тори претендовали на большинство важных мест в кабинете, но сам премьер-министр, будучи радикальным либералом, инстинктивно понимал массовые настроения. Еще в мае 1915 года его предшественник Асквит ввел тред-юнионистов в состав британского правительства. В начале XX века политическая палитра стран Европы была более разнообразной, чем ее обычно представляют. Во Франции социалисты были неотъемлемой частью Union Sacreé, широкого межпартийного альянса, существовавшего в Республике в течение первых двух лет войны. Даже в Германии, где правительство оставалось в руках назначенцев кайзера, социал-демократы представляли самую крупную партию в рейхстаге. После августа 1914 года рейхсканцлер Бетманн Гольвег регулярно проводил с ними консультации. Осенью 1916 года, полностью переводя экономику на военные рельсы, генералы Гинденбург и Людендорф заручились общей поддержкой профсоюзов.
Реакцией американцев из числа сторонников Тедди Рузвельта на столь впечатляющую мобилизацию в Европе стало не ощущение собственного превосходства, а чувство благоговейного восхищения[99]. Как говорил Рузвельт в январе 1915 года, война может быть «ужасной и губительной, но она также благородна и возвышена». Американцы не должны смотреть на нее с «позиции добродетельного превосходства». Им также не следует ожидать, что европейцы станут воспринимать американцев «как образец морали», если те будут «…сидеть, ничего не делая, произносить дешевые пошлости и развивать свою торговлю, в то время как они проливают свою кровь за идеалы, в которые они верят всем сердцем, всей душой»[100]. Рузвельт считал, что если Америке придется доказывать свою легитимность как великой державы, то она должна доказать ее в такой же борьбе, используя свой вес для поддержки Антанты. Но, к величайшему разочарованию Рузвельта, в Америке сторонники войны оставались в меньшинстве даже после того, как в мае 1915 года была потоплена «Лузитания». Миллионы американских немцев выбрали для себя нейтральную позицию, как и многие американские ирландцы. На американских евреев пришлось сильно надавить, чтобы убедить их воздержаться от празднования вступления германской имперской армии в российскую часть Польши в 1915 году, принесшего долгожданное освобождение от царского антисемитизма. Войну не поддерживали ни участники американского рабочего движения, ни остатки массового движения аграриев, выступавших за Вильсона в ходе президентских выборов 1912 года. Первым государственным секретарем при Вильсоне был никто иной, как Уильям Дженнингс Брайан, фундаменталист-евангелист, пацифист и радикал, протестовавший в 1890-х годах против золотого стандарта. Он с большим подозрением относился к Уолл-стрит и ее связям с европейским империализмом. С приближением июльского кризиса 1914 года Брайан отправился в поездку по Европе, где подписал ряд соглашений о посредничестве, которые позволяли Америке избежать вовлечения в войну. Когда война разразилась, он выступал за полнейший бойкот частных заимствований любой из сторон. Вильсон отменил это решение, и в июне 1915 года, после того как была потоплена «Лузитания», Брайан подал в отставку в знак протеста – когда Вильсон пригрозил Германии враждебными действиями, если та не прекратит атаки своих подводных лодок. Самого Вильсона при этом можно считать кем угодно, но только не сторонником вмешательства США в войну.
Вудро Вильсон, до того как стал знаменитым на весь мир либералом-интернационалистом, получил известность как один из видных бардов американской истории[101]. Профессор Принстонского университета и автор бестселлеров по популярной истории, он стремился к тому, чтобы американский народ, все еще не остывший от Гражданской войны, примирился со своим полным жестокости прошлым. Одним из самых ранних детских воспоминаний Вильсона были сообщение об избрании Линкольна и слухи о надвигающейся гражданской войне. Вильсон, росший в 1860-х годах в г. Огасте, расположенном в штате Джорджия, который во время своей встречи в Версале с Ллойдом Джорджем он описывал как «покоренную и опустошенную страну», ощутил на себе, оказавшись на стороне побежденных, горькие последствия справедливой войны, в которой борьба велась до конца[102]. С тех пор он с глубоким подозрением относился к любой воинственной риторике. Вильсона пугала не просто гражданская война. Мир, если его можно было так назвать, последовавший за ней, принес еще больше страданий. В течение всей своей жизни он осуждал последовавший период Реконструкции, попытки Севера установить на Юге новый порядок с предоставлением избирательных прав освобожденному чернокожему населению[103]. По мнению Вильсона, потребовалась жизнь более чем одного поколения, прежде чем Америка сумела восстановиться. Лишь в 1890-х годах было достигнуто нечто похожее на примирение.
Для Вильсона, как и для Рузвельта, война была проверкой новой уверенности Америки в себе и своих силах. Рузвельт хотел доказать зрелость Соединенных Штатов, в то время как Вильсон видел в войне, разгоревшейся в Европе, вызов моральному равновесию и самообладанию американского народа. То, что Америка не дает втянуть себя в войну, означало, что американская демократия подтверждает новую зрелость народа, его иммунитет к провокационной риторике военного времени, принесшей столько вреда 50 лет назад. Но этот упор на самообладание не должен восприниматься как скромность. Там, где принадлежавшие к лагерю Рузвельта сторонники вмешательства страны в войну стремились просто к равенству – к тому, чтобы Америку считали полноценной великой державой, – Вильсон ставил задачу достижения абсолютного превосходства. Такая концепция не означала отказа от «жесткой силы». В 1898 году Вильсон с волнением следил за ходом испано-американской войны. Его программа развития военно-морских сил и призывы к захвату Америкой Карибского бассейна носили более агрессивный характер, чем то, что предлагалось его предшественниками. Вильсон не остановился перед тем, чтобы в 1915 и 1916 годах в целях обеспечения безопасности Панамского канала отдать приказ об оккупации Доминиканской Республики и Гаити и о вторжении в Мексику[104]. Но благодаря тому, что Бог щедро наделил Америку, ей не требовалось завоевывать обширные территории. Потребности экономики страны были сформулированы при смене столетий в политике «открытых дверей». США не испытывали нужды в обладании новыми территориями, но американские товары и капиталы должны были свободно перемещаться по всему миру, пересекая границы любых империй. Тем временем, укрывшись несокрушимым военно-морским щитом, США будут распространять свое моральное и политическое влияние, которому никто не сможет противостоять.
Для Вильсона война была знаком «Божественного провидения», которое давало США «возможность, которая столь редко бывает ниспосланной какому-либо народу, возможность наставлять мир и добиваться мира во всем мире…» – на собственных условиях. Мир на условиях США означал установление вечного «величия» США как «настоящего лидера мира и согласия»[105]. Дважды, в 1915 и 1916 годах, полковник Хауз отправлялся в вояж по столицам Европы с предложением посредничества, но ни одна из сторон не высказала своей заинтересованности в нем. 27 мая 1916 года, всего лишь за несколько недель до того, как британцы начали финансируемую Уолл-стрит наступательную операцию на Сомме, Вильсон изложил свою концепцию нового порядка в речи перед участниками собрания «Лиги принуждения к миру», состоявшемся в вашингтонском отеле New Willard[106]. Соглашаясь с интернационалистами-республиканцами, организаторами этого собрания, Вильсон заявил о своем желании видеть Соединенные Штаты участниками любой «возможной ассоциации народов», которая была бы готова гарантировать мир в будущем. В качестве двуединой основы такого нового порядка он выдвинул свободу морей и ограничение вооружений. От большинства других соперников-республиканцев Вильсон отличался своей концепцией роли Америки в новом мировом порядке, сочетавшейся с ясным отказом от поддержки одной из сторон в текущей войне. Такая поддержка лишала бы Америку права претендовать на абсолютное превосходство. Америка, заявил Вильсон, непричастна к «причинам войны и ее целям»[107]. На публике он просто ограничивался замечаниями о более «глубоких» и «скрытых» причинах войны[108]. В частной беседе со своим послом в Британии, Уолтером Хайнсом Пэйджем, Вильсон был более открытым. Действия кайзеровских подводных лодок возмутительны. Но британская «абсолютизация роли военно-морских сил» представляется не меньшим злом и значительно более важным стратегическим вызовом Соединенным Штатам. Жестокая война, считал Вильсон, была не кампанией либералов против агрессии Германии, но «ссорой, направленной на решение экономического спора между Германией и Англией». Как пишет в своих дневниках Пэйдж, в августе 1916 года Вильсон «говорил о том, что Англия владеет землей, а Германия стремится заполучить ее»[109].
Даже если бы 1916 год не был годом выборов, а Морган не был наиболее видным сторонником республиканской партии, задействование значительной части американской экономики в интересах Антанты по требованию пробритански настроенных банкиров представляло собой дерзкий вызов администрации Вильсона. По мере того как избирательная кампания приближалась к завершению, напряженность внутри Соединенных Штатов, вызванная военным бумом, достигла опасного уровня. С августа 1914 года значительное увеличение экспорта за счет кредитов привело к росту стоимости жизни. Хваленая покупательная способность заработной платы американцев таяла на глазах[110]. Спекуляции бизнесменов на войне оплачивались американскими рабочими. Летом Вильсон утвердил меры по налогообложению экспорта в Европу, предложенные популистским крылом в Конгрессе. В последних числах августа 1916 года, в ответ на угрозу всеобщей забастовки на железных дорогах, он выступил в поддержку профсоюзов, вынудив Конгресс согласиться с восьмичасовым рабочим днем[111]. Крупный американский бизнес реагировал на это невиданной ранее поддержкой избирательной президентской кампании республиканцев. Демократы, в свою очередь, заклеймили позором республиканца Чарльза Хью как «кандидата партии войны», стоящего на службе спекулянтов с Уолл-стрит. После этой скандальной кампании, вызвавшей самую высокую явку избирателей за всю политическую историю Америки, то, как Вильсон победил на выборах, мало способствовало уменьшению явной ангажированности. Хотя Вильсон пользовался поддержкой значительного большинства населения, в коллегии выборщиков он выиграл лишь благодаря голосам, отданным за него в Калифорнии с преимуществом всего в 3755 голосов. Таким образом, Вильсон стал первым с 1830 года президентом-демократом, избранным на второй срок, после Эндрю Джексона. Что касается Антанты и ее сторонников в Америке, то на них этот результат произвел отрезвляющий эффект. Значительная часть американского общества заявила о своем желании оставаться вне конфликта.
III
Повторное избрание Вильсона делало рискованными расчеты Антанты на молчаливое согласие США поддерживать ее растущие экономические потребности, связанные с войной. Но у конфликта была своя динамика развития. После кошмарного завершения Верденского сражения Антанта 24 мая 1916 года, за три дня до того как Вильсон, выступая в отеле New Willard, впервые публично изложил свою концепцию нового мирового порядка, приняла решение о проведении британскими войсками первого масштабного наступления на Сомме[112]. И хотя британским войскам не удалось добиться прорыва, германская армия была вынуждена перейти к обороне. В то же время на Восточном фронте масштабная стратегия Антанты была близка к решающему успеху. Мощь армии Российской империи, поддержанная финансовыми и промышленными возможностями Антанты, могла быть использована против пошатнувшейся империи Габсбургов. 5 июня 1916 года энергичный кавалерист генерал Брусилов повел цвет русской армии на австро-венгерские позиции в Галиции. Длившаяся всего несколько дней замечательная наступательная операция, проведенная русскими войсками, основательно подорвала военную мощь империи Габсбургов. Если бы не срочное подкрепление в виде германских войск и командиров, то южная половина Восточного фронта перестала бы существовать. Шок, испытанный Центральными державами, был столь глубоким, что мог повлечь за собой цепную реакцию.
27 августа Румыния окончательно отказалась от своего нейтралитета и объявила о вступлении в войну на стороне Антанты. Вместо эшелонов с румынской нефтью и зерном, от которых теперь в значительной степени зависели Центральные державы, в Трансильванию двинулась свежая 800-тысячная армия противника. Каким бы невероятным это ни казалось, но в августе 1916 года все выглядело так, как будто судьбами мира распоряжается не президент Вильсон, а премьер-министр Брэтиану в Бухаресте. Как позже отмечал фельдмаршал Гинденбург: «На самом деле, никогда прежде столь маленькому государству, как Румыния, не выпадала роль такой значительной исторической важности в столь подходящий момент. Никогда прежде столь могущественные великие державы, как Германия и Австрия, не испытывали такой зависимости от государства, численность населения которого составляла, наверное, лишь одну двадцатую часть от численности населения этих стран»[113]. В генеральном штабе кайзера сообщение о вступлении Румынии в войну произвело эффект «разорвавшейся бомбы. Вильгельм II совершенно потерял голову, говоря, что война вконец проиграна, и считал, что мы должны просить о мире»[114]. Посол Габсбургов в Бухаресте, граф Оттокар Чернин, предсказывал с «математической точностью полный разгром Центральных держав и их союзников, если война будет продолжена»[115].
В данном случае Румыния бросила вызов своей удаче. Возглавляемое Германией контрнаступление превратило поражение в победу. К декабрю 1916 года силы германской и болгарской армий приближались к Бухаресту, а правительство Румынии и то, что оставалось от румынской армии, оказались на положении беженцев в российской Молдавии. Но эта полная драматизма цепочка событий создавала необходимый фон для противостояния Антанты, Германии и Вудро Вильсона зимой 1916/17 года. Курс Берлина на эскалацию был определен в конце августа 1916 года, когда кайзер сменил утратившего доверие вдохновителя битвы при Вердене Эрика фон Фалькенхайна на фельдмаршала Гинденбурга и начальника штаба Эрика Людендорфа в качестве главнокомандующего Третьей армией (3 Obersten Heeresleitung, OHL). Для Людендорфа и Гинденбурга, которые в течение предыдущих двух лет были заняты исключительно войной против России, близкое знакомство с ситуацией на Западном фронте оказалось настоящим шоком. Германия многое отдала в битве под Верденом. Но небывалый напор британского наступления на Сомме поднял планку на новую высоту. Первым шагом Гинденбурга и Людендорфа стало обустройство оборонительных позиций. Если они рассчитывали противостоять военным действиям Антанты, разросшимся до глобальных масштабов, то было необходимо провести еще одну мобилизацию в Германии. Получивший название «программы Гинденбурга», мобилизационный план предусматривал удвоение объемов производства боеприпасов в течение года. Поставленные задачи были выполнены, правда дорогой для тыла ценой. Между тем именно эти задачи обороны заставили главнокомандующего Третьей армии поддержать требование военно-морских сил о начале подводной войны. Для того чтобы Германия могла выжить, было необходимо нарушить поставки по трансатлантическим маршрутам. Гинденбург и Людендорф не сразу начали подводную войну. Они дали Бетманну Гольвегу выступить в роли посредника на мирных переговорах. Германские социалисты хотели быть уверенными в том, что поддерживают чисто оборонительную войну[116]. Риски, связанные с эскалацией подводной войны, были очевидны. Американцы будут возражать. Но ее дальнейшее откладывание было просто на руку Британии. К тому же с экономической точки зрения Северная Америка и так полностью была на стороне Антанты.
Неудивительно, что Антанта, перед которой стояла сложная задача получения в скором будущем очередного миллиардного займа в США, была не вполне уверена в том, что обязательно получит поддержку Америки. Тем не менее для Британии и Франции еще в большей степени, чем для Германии, переговоры о мире не представляли интереса. Спустя два года после начала войны Германия оккупировала Польшу, Бельгию, значительную часть севера Франции, а теперь – и Румынию. Сербия с карты исчезла. В Лондоне осенью 1916 года именно споры вокруг стратегических приоритетов третьего года войны привели к отставке правительства Эсквита[117]. Как это ни парадоксально, но именно те, кто больше всех был готов принять идею Вильсона о мирных переговорах, с наибольшим подозрением относились к долгосрочному наращиванию американской мощи. Это касалось в первую очередь либералов старой формации, таких как британский канцлер Реджинальд Маккенна. Предостерегая членов кабинета от продолжения избранного курса, он говорил: «Я осмелюсь с уверенностью сказать, что к июню следующего [1917] года или даже раньше президент Американской республики будет в состоянии, если пожелает того, диктовать нам свои собственные условия»[118]. Желание Маккенны избежать дальнейшего усиления зависимости от Америки было лицевой стороной неприязни Вильсона к европейской политике. С позиций обеих сторон лучшим способом свести к минимуму дальнейшее осложнение ситуации было скорейшее прекращение войны. Но к декабрю 1916 года Маккенна и Эсквит утратили свои полномочия. Коалицию, преданную идее нанесения решительного поражения Германии, возглавил Ллойд Джордж. Ирония состояла в том, что, хотя позиция коалиции не совпадала в главном с желанием Вильсона прекратить войну, сама коалиция – по своей основной линии – была самым последовательным сторонником атлантизма[119]. Как сообщал Ллойд Джордж госсекретарю Вильсона Роберту Лансингу, он с большим энтузиазмом смотрел в будущее в ожидании устойчивого мирового порядка, основанного на «активной симпатии двух великих англоязычных народов»[120]. Ранее в 1916 году он говорил полковнику Хаузу, что «если Соединенные Штаты будут на стороне Великобритании, то целый мир окажется не в состоянии поколебать наше совместное превосходство на море»[121]. Более того, «экономическая сила Соединенных Штатов» была «столь велика, что ни одна из воюющих стран не смогла бы противостоять ей…»[122] Но, как повторял Ллойд Джордж, начиная уже с лета 1916 года американские займы не просто определяли подчиненность Британии Уолл-стрит, но и создавали условия для взаимной зависимости. Чем больше займов Британия получит в Америке, чем больше товаров она там закупит, тем труднее будет Вильсону отделить свою страну от судьбы Антанты[123].
71
В числе недавно изданных работ см.: H. Strachan, The First World War (London, 2003); D. Stevenson, 1914–1918: The History of the First World War (London, 2004).
72
N. A. Lambert, Planning Armageddon: British Economic Warfare and the First World War (Cambridge, MA, 2012).
73
S. Roskill, Naval Policy Between the Wars (New York, 1968 and 1976), vol. 1, р. 80–81.
74
H. Nouailhat, France et Etats-Unis: Août 1914-Avril 1917 (Paris, 1979), р. 349–355.
75
C. Seymour (ed.), The Intimate Papers of Colonel House (London, 1926), vol. 1, р. 312–313.
76
A. S. Link (ed.) et al., The Papers of Woodrow Wilson [hereafter PWW], 69 vols (Princeton, NJ,1966–1994), vol. 36, р. 120.
77
J. J. Safford, Wilsonian Maritime Diplomacy 1913–1921 (New Brunswick, NJ, 1978), р. 67–115.
78
P. O. O’Brian, British and American Naval Power: Politics and Policy, 1900–1936 (West-port, CT, 1998), р. 117.
79
R. Skidelsky, John Maynard Keynes: A Biography, 3 vols (New York, 1983–2000), vol. 1,р. 305–315.
80
K. Burk, Britain, America and the Sinews of War, 1914–1918 (London, 1985); H. Strachan, Financing the First World War (Oxford, 2004).
81
K. Neilson, Strategy and Supply: The Anglo-Russian Alliance 1914–1917 (London, 1984), р. 106–112.
82
M. Horn, Britain, France, and the Financing of the First World War (Montreal, 2002).
83
Nouailhat, France, р. 368.
84
S. Broadberry and M. Harrison (eds), The Economics of World War I (Cambridge, 2005).
85
Классическая работа: H. Feis, Europe: The World’s Banker 1870–1914 (New York, 1965).
86
R. Chernow, The House of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance (New York, 2001).
87
J. M. Keynes, The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. 16 (London, 1971-89), р. 197.
88
P. Roberts, «„Quis Custodiet Ipsos Custodes?“ The Federal Reserve System» s Founding Fathers and Allied Finances in the First World War’, The Business History Review 72 (1998) р. 585–620.
89
E. Sanders, Roots of Reform (Chicago, IL, 1999); A. H. Meltzer, A History of the Federal Reserve (Chicago, IL, 2002–2003).
90
W. L. Silber, When Washington Shut Down Wall Street: The Great Financial Crisis of 1914 and the Origins of America’s Monetary Supremacy (Princeton, NJ, 2007).
91
N. Ferguson, The Pity of War: Explaining World War I (London, 1998).
92
A. Offer, The First World War: An Agrarian Interpretation (Oxford, 1991).
93
Обзор см. в: D. E. Ellwood, The Shock of America (Oxford, 2012).
94
J. Banno, Democracy in Prewar Japan: Concepts of Government 1871–1937 (London, 2001), р. 47.
95
W. Wilson, Congressional Government: A Study in American Government (PhD thesis, Johns Hopkins University, 1885).
96
D. T. Rodgers, Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age (Cambridge, MA,1998).
97
W. Wilson, «Democracy and Efficiency», Atlantic Monthly (March 1901), р. 289.
98
T. Raithel, Das Wunder der inneren Einheit (Bonn, 1996).
99
T. Roosevelt, America and the World War (New York, 1915).
100
J. M. Cooper, The Warrior and the Priest: Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson (Cambridge, MA, 1983), р. 284–285.
101
W. Wilson, A History of the American People (New York, 1902), and J. M. Cooper, Woodrow Wilson: A Biography (New York, 2009).
102
PWW, vol. 57, р. 246.
103
W. Wilson, «The Reconstruction of the Southern States», Atlantic Monthly, January 1901, р. 1–15.
104
R. E. Hannigan, The New World Power: American Foreign Policy, 1898–1917 (Philadelphia, PA, 2002), р. 45–48.
105
R. S. Baker and W. E. Dodd (eds), The Public Papers of Woodrow Wilson (New York, 1925–1927), vol. 1, р. 224–225.
106
T. J. Knock, To End All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a New Order (Princeton, NJ, 1992), р. 77.
107
PWW, vol. 37, р. 116.
108
PWW, vol. 40, р. 84–85.
109
PWW, vol. 41, р. 183–184, и еще раз в феврале 1917 г. – см.: ibid., р. 316–317.
110
B. M. Manly, «Have Profits Kept Pace with the Cost of Living?», Annals of the American Academy of Political and Social Science 89 (1920), р. 157–162.
111
M. J. Pusey, Charles Evans Hughes (New York, 1951), vol. 1, р. 335–366.
112
The Memoirs of Marshal Joffre, trans. T. B. Mott (London, 1932), vol. 2, р. 461.
113
P. v. Hindenburg, Aus Meinem Leben (Leipzig, 1920), р. 180–181.
114
G. Ritter, Staatskunst und Kriegshandwerk (Munich, 1954–1968), vol. 3, р. 246.
115
G. E. Torrey, Romania and World War I (Lasi, 1998), р. 174.
116
S. Miller, Burgfrieden und Klassenkampf: Die deutsche Sozialdemokratie in Ersten Weltkrieg (Düsseldorf, 1974), р. 263–264.
117
D. French, The Strategy of the Lloyd George Coalition, 1916-19 (Oxford, 1995); M. G. Fry, Lloyd George and Foreign Policy (Montreal, 1977).
118
Keynes, The Collected Writings (18 October 1916), vol. 16, р. 201.
119
Блестяще изложено в G.-H. Soutou, L’Or et le Sang: Les Buts de guerre économique de la Première Guerre Mondiale (Paris, 1989), р. 365–363, 398–399.
120
Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: Lansing Papers (Washington, DC, 1940), vol. 1, р. 306–307.
121
Seymour (ed.), Intimate Papers, vol. 2, р. 129.
122
Fry, Lloyd George, р. 219.
123
Neilson, Strategy and Supply, р. 191; A. Suttie, Rewriting the First World War: Lloyd George, Politics and Strategy 1914–1918 (London, 2005), р. 85.