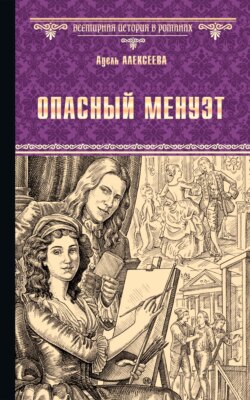Читать книгу Опасный менуэт - Адель Алексеева - Страница 6
Часть 1. Португальский грех и русская расплата
Парижские знакомства
ОглавлениеЕсли задуматься, то случайности играют в нашей жизни гораздо большую роль, чем мы предполагаем, некоторые даже думают – решающую. По крайней мере, в нашем сюжетном повествовании именно так.
Особенно располагают к разного рода случайностям путешествия, желание расширить свой мир, желание познать новое. Еще Петр I приказал дворянским сынкам и дочкам гуртом отправляться в Италию, Англию, Францию учиться. При наследниках великого царя путешествия в Европу совершались с гораздо большей охотой. Удивительно ли, что самый любознательный человек своего века Львов вместе с другом Хемницером при первой же возможности собрались в заграничный вояж.
Вернее сказать, Соймонов, директор Горного департамента, где служили наши герои, отправился в служебную поездку и взял с собой Хемницера со Львовым. Михаил Федорович Соймонов занят был лечением почечной болезни за границей, а Хемницер и Львов посетили Дрезден, Лейпциг, Амстердам, Брюссель и, конечно, Париж. Жажда знаний у русских велика, как не найти приложения любознательности?
Осмотрели Франциска I. Оказалось, у Франциска глаза были так широко посажены, словно меж ними природа оставила место для еще одного, третьего глаза. А нос! Что это был за нос! Как у настоящего гусака! Плотоядные губы говорили о жажде жизни. Оттого-то он все свои годы или воевал, или просто скакал на лошадях: не терпел неподвижности. Замечательным во французском короле оказалось и то, что в поздние свои годы он покровительствовал искусствам, выписывая из Италии мастеров, украшая Францию.
Любознательные друзья в Париже оказались в художественном салоне, когда отмечались итоги осенней выставки и день рождения короля Франциска I. Они приготовились слушать умные речи. Каково же было их удивление, когда в салоне предстала весьма необычная картина. Посреди зала тоненькая хрупкая женщина в маске, держа в руке что-то завернутое в фольгу, танцевала – и как! Она медленно кружилась и к тому же пела! Широкие рукава кофты открывали тонкие руки, развевалась оливкового цвета юбка, из-под которой виднелась еще и красная. Она прицокивала каблуками, звенела серебряными браслетами выше локтей и возле щиколоток, а движения ее были непрерывные, замедленные, они околдовывали, завораживали.
Голос ее был нежный и высокий, волосы пышные, русые, напоминали букет полевых цветов. Львов переводил слова романса, который она пела: «Я полна любви, я жду поцелуя, мысль о нем повергает меня в блаженный сон…»
Она повернулась, склонилась перед гостями, изящно взмахнула веером и провозгласила:
– Наливайте шампанское! Мы отмечаем сегодня день рождения короля Франциска! Скорее наливайте! – А сама опять закружилась, демонстрируя пышную юбку и гибкую талию, а маски не снимала.
– Да здравствует Франциск! Виват! – раздались голоса, зазвучали бокалы.
– Кто она? Вы узнали ее? – слышалось вокруг.
– Да это же наша проказница Виже-Лебрен!
Дама, сидевшая рядом с Хемницером, не без ехидства заметила:
– Это же Элизабет! Вы ее не узнали?
Хемницер повернулся к даме с нарумяненными щеками ответить. Она же кокетливо смотрела на него и – верить или нет? – протягивала ему цветок.
– Я слышала, что вы из России? Это очень интересно, говорят, там живут добрые люди, это правда? Я – Кессель… Моя роза – знак поклонения вашей стране.
Иван Иванович склонил голову, взял неосторожно розу и почувствовал, как глубоко вонзились шипы. Однако сохранил любезность, вида не показал.
Танцорка остановилась, сорвала маску и заразительно рассмеялась.
– Пьем память нашего Франциска! Во Франции короли всегда любили художников, музыкантов! Людовик XVI, Мария-Антуанетта – их здоровье!
– Но Франциск слыл отчаянным воякой и большим любителем женщин! Это вас не смущает, Элизабет? – спросил кто-то.
– Ничуть! Таковы французы! Потому я чаще смотрю на мужчин других стран, да, да!
Все с нею чокались, пили шампанское.
Соседка Хемницера не умолкала, она старалась очаровать мужчину, но Хемницер не мог понять ее козней-замыслов.
– Ей доверяют писать портрет королевы! А ей всего 25 лет!.. – шептала она. – Учтите, русский гость, французы делают одно, а думают о другом.
Хемницер слушал соседку, а Львов тем временем изучал лицо танцовщицы. Тонкие черты, милый вздернутый носик, изящество во всем – настоящее французское очарование и та живость, которая есть зеркальное отображение того, что происходит вокруг. Серо-голубые глаза сверкали, в смехе открывались жемчужные зубы, румянец покрывал ланиты. Неведомая русским Элизабет взяла со стола лежавшие там цветы и стала бросать их в публику, вызывая общий восторг. «Хорошенькая, однако не красавица, до Машеньки Дьяковой ей далеко», – думал Львов.
Львов заметил, эта юная женщина здесь всем своя. Вот она подошла к известнейшему художнику Грёзу, поцеловала его в щеку.
– Мой дорогой учитель! Не пора ли начать обсуждение выставки?
Из-за стола поднялся человек в зеленом камзоле, панталонах цвета беж, в белых чулках, старомодном парике и призвал:
– Начинаем обсуждение выставки! Высказывайтесь, господа!
Заговорили о современной живописи, о картинах Шардена, Грёза, о начинавшем свой путь Давиде, Виже-Лебрен. Она была так хороша и так молода, что ни один критик не осмелился бы говорить об отсутствии мастерства, о профессиональных небрежностях. Но главный спор разгорелся вокруг Жана Батиста Грёза и Жозеф-Мари Вьена. Оба они почитали философов Просвещения и в то же время имели разные, даже противоположные взгляды на современное искусство.
Жозеф Вьен из философов ценил Дени Дидро, тот тоже был высокого мнения о живописце, даже посвятил исследование его картине «Марс и Венера», а когда встретился с Екатериной II, то настойчиво советовал ей купить «Минерву» и «Анакреона» любимого художника – Вьена.
Грёз поклонялся Руссо, разделял его взгляды на необходимую близость людей к природе, естественный образ жизни, а своими картинами пытался осмыслить, что такое хорошо, а что есть дурно. Предметом его восхищения были женские и детские головки. Однажды написал очаровательную головку маленького графа Строганова, Попо. (Читатель, запомните это имя. Вам еще предстоит с ним повстречаться в жаркие парижские дни.)
Проповедник морали, Грёз не выносил чересчур фривольных сцен ни в живописи, ни в жизни. Между тем галантные, откровенные, фривольные сценки, запечатленные в масле, то и дело демонстрировались на выставках. Вот и критик в зеленом камзоле яростно набросился на картинки, в которых дамы красовались с поднятыми юбками, в распахнутых капотах, а мужчины держали руки на обнаженных женских «тайностях», да и постельных откровенных сцен было достаточно. Французское общество второй половины XVIII века, в канун Великой революции 1789 года, считало, что возможно все, что не запрещено. В историю нравов это время вошло как падение нравственности, но влияние французских нравов не имело границ и, как мы знаем, захватило и Россию.
– Смотрите, – возмущался человек в зеленом камзоле, – художники словно только и ждут, чтобы подсмотреть за купающейся в бассейне дамой или встающей с постели. Как смеют они писать лежащую в королевской постели фаворитку короля Людовика XV? Что, они видели ее? Позировала она? Иное – мадам Виже-Лебрен, она рисует нашу молодую Марию-Антуанетту во всей ее целомудренности!
– Кто может знать о целомудренности королевы? Сомнительно, – заметил кто-то, в зале легкомысленно засмеялись.
– Не сметь болтать о королеве! – вскричала Виже-Лебрен. – Мы все должны служить нашей королеве!
– Я продолжаю! – Человек в зеленом камзоле, хромая, подошел к столу, извлек из папки рисунки. – Взгляните на это безобразие! Они рисуют сокровенные мягкие женские места. Это карикатура? Как смотрят парижане на знаменитый монгольфьер!.. Indecent! Это непристойно.
Львов прищурил глаза: на рисунке был изображен воздушный шар, на стену лезли дамы, а внизу мужчины направляли подзорные трубы не на монгольфьер, а на подолы женских юбок. А дамы, похоже, не жаловали такой предмет туалета, как панталоны.
Человек, хромая, подошел к окну и принес новую серию карикатур. Соседка Хемницера зашипела:
– О, как я ненавижу этого типа!.. Le diable boiteux![1]
Мужчина в зеленом камзоле на этот раз направлял свои стрелы против стиля рококо.
– Эти завитушки, кругляшки, игривости!..
Критик с бородкой Генриха IV был сторонником художника Вьена, который первым, кажется, решил избавиться от игривого манерного рококо, стиля, царившего при Людовике XV. Вьен объявил себя поклонником античности в высоком смысле слова, изучал технику древних греков, освоил их рецепты. Что касается Виже-Лебрен, то она еще не определила, что для нее ближе.
– Знаете, в чем состоит эта техника? – говорил художник Вьен. – На хорошо подготовленную доску наносится воск, поверхность делается очень гладкой, затем ее посыпают испанским белильным порошком, чтобы была легкая шероховатость. Работа идет водорастворимыми красками. Когда же изображение закончено, картину нагревают и воск пронизывает красочный слой.
Львов слушал и торопливо записывал что-то в альбом. Хемницер же, вновь атакованный соседкой, представившейся графиней Кессель, был просто рассеян и возбужден. Мадам прошептала ему на ухо:
– Завтра в шесть часов я буду ждать вас в Люксембургском саду.
Затем поднялась и прошествовала на середину зала.
– Господа! Дорогая Элизабет! Позвольте мне сказать, что среди нас присутствуют двое русских. Они прибыли из холодной, ужасной и таинственной страны, России. Торквато Тассо тоже любил путешествия, ибо они развивают наши религиозные и гуманные чувства, не так ли?
Виже-Лебрен протянула руку к Хемницеру.
– Пожалуйста, расскажите! Меня так волнует ваша страна… О ней мы столько слышали от графа Калиостро, от Сен-Жермена.
Хемницер покраснел до корней волос, почувствовав на себе общее внимание, но Львов, блистательный говорун, находчивый во всяких обстоятельствах, разразился целой речью, снабжая ее цветистыми эпитетами, сравнениями; его рассказ произвел на всех большое впечатление. Виже-Лебрен воскликнула:
– Когда-нибудь я непременно приеду в Россию!
– Мы будем вас ждать, мадам. – Львов, склонившись, поцеловал ей руку.
Тут дверь распахнулась и показалась фигура молодого мужчины с нестрижеными черными волосами, в камзоле из грубой ткани. Он был, можно сказать, в ярости, ни с кем не поздоровался и, ко всеобщему неудовольствию, повысил голос.
– Лиз! Пора домой, твоя дочь плачет, а ты…
Это был муж Элизабет, Пьер Лебрен. Здесь, видимо, уже знали его характер и не удивились, когда он взял Элизабет за руку и повел к выходу.
Соседка Ивана Ивановича вновь что-то горячо зашептала. Изо рта ее при этом пахнуло гнилыми зубами. Галантный кавалер тем не менее продолжал слушать сетования ее на мужа, на бедность, на мошенников, которые вокруг, и жалел ее. Гости стали расходиться, а мадам Кессель повисла на руке Хемницера.
– Прогуляемся по Елисейским Полям?
– Мадам, я готов.
Если кто-то из читателей думает, что автор присочинил эту сцену, то напрасно. В архивных материалах, касающихся И.И. Хемницера, обнаружилось такое признание. Его увлекла некая мадам, маркиза Кессель. Чувствительное сердце его растрогалось от того, что она читала итальянского поэта Торквато Тассо!
Если уж мы ссылаемся здесь на архивные материалы, то самое время привести отрывок из воспоминаний Виже-Лебрен о начале ее художественной биографии: «Я рисовала всегда и везде. Головки в фас и в профиль составляли, заполняли поля моей тетради и даже тетради моих подруг. Нa стенах дортуаров я изображала углем фигурки и пейзажи, за то, понятно, бывала наказана. Во время перемен я чертила на песке все, что приходило в голову. Помню, в возрасте семи-восьми лет я изобразила на листе человека с бородой. Мой отец, увидев эту картину, которую я храню до сих пор, в восторге воскликнул: “Ты будешь художницей, дитя мое, или на свете вообще нет художников!”»
Отец читал ей книги, воспитывал, а она забивалась в угол и молчала. Что происходило в маленькой головке – никто не знал. Как тут не вспомнить слова одного умного человека, который писал: «Положите на одну чашу весов все изречения великих мудрецов, а на другую – бессознательную мудрость ребенка, и вы увидите, что все высказанное Платоном, Шопенгауэром, Марком Аврелием и Паскалем ни на йоту не перевесит великих сокровищ бессознательного, ибо ребенок, который молчит, в тысячу раз мудрее Марка Аврелия, когда тот говорит».
К сожалению, отец Элизабет рано скончался. Но из молчаливого упрямого птенца уже вылуплялась свободолюбивая певчая птичка. Она продолжала учиться и непрестанно рисовала. Виже-Лебрен говорила о себе, что страсть рисовать родилась вместе с ней и она никогда не ослабевала. Даже наоборот, с годами она делалась еще сильнее.
В двадцать один год девушка стремительно вышла замуж, несмотря на протесты родных. Теперь ее звонкий голос уже раздавался на улице Клери, одной из самых очаровательных улиц Парижа, но похоже, что очень скоро муж и жена – увы! – стали вести друг от друга независимый образ жизни. Соединяла их лишь дочь.
Что касается наших путешественников, то они появятся в Париже еще раз, возобновят знакомства с художниками – вот тогда-то и окажется записка Виже-Лебрен в руках Хемницера. Впрочем, до встречи ее с Михаилом Богдановым еще не близко…
А пока… Как провели конец того вечера наши друзья Львов и Хемницер? Последний отправился на свидание с мадам.
Львов же широко шагал по красивейшему из городов – Парижу, подгоняемый луной, похожей на серебристое блюдо. Ночь была поэтична и уносила его к Машеньке… Он твердил: «Мне несносен целый свет – Машеньки со мною нет». Вспоминал их последнее свидание на Островах. Солнечные лучи устремлялись за горизонт. Как всегда при человеке, любезном твоему сердцу, лучи казались еще ярче и красочнее. Нежные чувствования затопляли его сердце, а закат навевал, как ни странно, настроение скоротечности жизни. Он размышлял и говорил, говорил, и она не спускала с него восторженных зеленых глаз. Пышные каштановые волосы покрывали ее плечи, оливкового цвета лента стягивала талию, и такая лента была в волосах.
Не удержавшись, он обнял ее и прижал к груди. Она затрепетала в руках его, словно птичка… А потом в который уже раз оба заговорили о будущем.
– Машенька, душа моя, только с тобой одной могу я связать свою жизнь. Если не отдаст мне тебя твой батюшка – уйду в монастырь или порешу жизнь!
– Что ты, Львовинька, желанный мой, – восклицала она. – Да разве можно такое говорить? Ведь и мне без тебя жизни нет. Авось смилостивится когда-нибудь батюшка.
– Когда же? Нет сил ожидать… Богатство твое – помеха, и не надо мне того богатства! Любовь – лучшее из богатств!.. Ах, как несправедливо устроен мир – верно говорят философы.
– Уж не знаю, что говорят твои философы, только и мне батюшкиного богатства не надобно, ежели нет тебя со мною рядом. Не терзай мою душу, лучше пожалей бедную свою Машу.
– Любишь ли ты меня? – спросил он.
– И рада бы не любить, – отвечала она, – да твой пригожий вид, ясный ум да сердце привораживают…
У него уж мелькала мысль о том, чтобы обвенчаться с Машей тайно, но высказать ее он не решился. И опять крепко, словно в отчаянии, обнял ее и стал миловать, приголубливать, и она не противилась… В голове его промелькнули стихи, сочинение, кажется, того вечера:
Воздух кажется светлее,
Все милее в тех местах,
Вид живее на цветах,
Пенье птичек веселее
И приятней шум дождя
Там, где Машенька моя…
В возвышенном состоянии ума возвращался парижской ночью Николай Александрович в гостиницу, где жили они с Хемницером. Делиться своими чувствами он не собирался, ибо был скрытен, особливо если дело касалось Машеньки. Он знал, что друг его, Иван, тоже влюблен в Машу.
Львов застал Хемницера сидящим посреди комнаты в полной растерянности.
– Что с тобой, Иван?
– Что со мной? – тупо глядя перед собой, повторил тот. – Я сам не знаю… Николаша, как же так? – Близорукие глаза, похоже, наполнились слезами.
– Что именно? – строго спросил Львов.
– Она пригласила меня погулять… Рассказывала, как несчастна в семейной жизни, как бедна… Мне она показалась умной, ведь она читала стихи Торквато Тассо!
– Что ты хочешь сказать, друг мой?
– Мы даже целовались. Я обнимал ее, она сама обнимала меня…
– Да, да, и что же дальше? – Львов был уже в нетерпении.
– Дальше… Господь наказал меня, должно быть, за то, что… я изменил Машеньке.
– Что-о-о!
– Не сердись, Николаша… Когда я вернулся сюда, в кармане не оказалось кошелька с деньгами. Неужели это она?
– А ты думал, она ангел небесный? Поздравляю тебя, наивный баснописец. Немец, а простофиля похуже русских.
Николай Александрович достал табак и раскурил трубку.
Это было незадолго до отъезда их из Парижа: пора, пора домой!
1
Хромой дьявол (фр.).