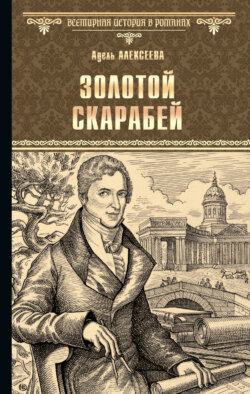Читать книгу Золотой скарабей - Адель Алексеева - Страница 16
Часть 1
Маша Дьякова – сестре Саше
ОглавлениеНесколькими месяцами ранее Маша писала своей сестре вот такие письма:
«Августа 10 дня 1777 г.
Душенька моя сестрица! Спешу описать тебе новости нашей жизни. Случилось, наконец, долгожданное: вернулись из-за границы наши путешественники Соймонов Михаил Федорович с Хемницером и Львовым! Рассказов было, бесед – на три вечера! Хемницер записывал все в дневник наблюдений, а Львов зарисовывал механизмы, чертил фонтаны, парковую архитектуру. Побывали они в Голландии, где лечился Соймонов (за его счет и ездили), в Париже, Версале, видели “Комеди Франсез”, слушали итальянскую оперу.
Опишу тебе забавную историю с И.И.Х. Хемницер обожает Руссо Жан-Жака, все мечтал с ним познакомиться и так досаждал Николаю Ал., что тот не выдержал (“Мне покоя не было, что, живучи с ним в одной комнате, не видал Жанжака”) и, встретив учителя графа Строганова, сказал, что это и есть Жанжак. Близорукий Хемницер поверил, а мой проказник только здесь, в России, признался в обмане.
Ах, Сашенька, знала бы ты, как трепетало мое сердце и даже наворачивались слезы на глаза, когда Львовинька признался мне, что все путешествие твердил: “Мне несносен целый свет – Машеньки со мною нет”. И еще:
Воздух кажется светлее,
Все милее в тех местах,
Вид живее на цветах,
Пенье птичек веселее,
И приятней шум дождя
Там, где Машенька моя…
Какое счастье было смотреть на его быстро шевелящиеся губы, на лицо, полное огня, на жестикуляцию. Он привез новые драмы, ноты, но и я не осталась в долгу: без него выучила арию из оперы Сальери “Армида”, спела ему – восторгам не было конца. И немало книг без него прочитала, особенно французских. Возле камина у нас зашла “умная беседа”, и я не отставала. Спросила: “Какое главное отличие русских от тех, кто живет за границей?” Он ответил: “Главное отличие в том, что у тех давно общественная, народная жизнь пробудилась…” Тут Капнист добавил: “Достоинство у нас тогда проявится, когда самодержавие, корни его рабские будут вырваны”. Каково? Хорошо, что моего батюшки при том не было: этот Капнист – чистый Пугачев, недаром Львов называет его “Васька Пугачев”. Отчаянная голова!
И опять про французских философов заговорили, про религию. Они, оказывается, атеисты и утверждают: “Наслаждение блаженством единения с Богом ведет к утрате собственной личности”. Тут я никак не могла утерпеть и прямо спросила Львова: “И вы согласны с ними?” – “Нет, – отвечал он, – по той простой причине, что я сторонник активной, деятельной жизни, верю в культуру и искусство! Им буду служить”.
“Добрая или злая природа человеческая?” – о сем шла речь. Руссо принимает человека за чистый лист бумаги, на котором окружение “наносит свое влияние”. Львов усмехнулся по обыкновению:
– С львиной породой рождается человек, только люди делают его овечкой…
Уж два дня миновало, а у меня еще звучат в ушах голоса их: “Ах, полотно, писанное Рафаэлем! Богоматерь в сокрушенном отчаянии по правую сторону, Мария Магдалина по левую, и лицо совершенно заплаканное!.. А Грёз, Грёз – что за художник, слезы так и наворачиваются на глаза!..”
Да, забыла еще сообщить: Капнист предложил поставить драму Княжнина “Дидона”. Вот смельчак! Княжнин “в высших кругах на подозрении”, его судили, приговорили к “лишению живота”, если бы не Разумовский – несдобровать. Но я, конечно, согласилась играть Дидону – властительницу Карфагена! Мне по нраву сей образ: любящая сильная женщина отвергает трон, союз с нелюбимым человеком. Зимой будем репетировать сию драму, так что скорее приезжай, любезная Сашенька! Впрочем, батюшка и матушка, знаю, не отпустят тебя из усадьбы, пока не грянут холода.
На сем прощаюсь, милая Саша, и жду ответа.
М.»
«Сентября 10 дня 1777 г.
Дорогая сестрица Сашенька! Вот опять тебя увезли, а я тут осталась. Села я за стол, чтобы описать тебе вчерашний день. Ты меня, как никто, поймешь – ведь и ты, кажется, имеешь амурные отношения с одним человеком, который явился к нам из Украйны (молчу, молчу!).
Итак, вчера мы с Львовинькой встретились на Островах. Было еще светло, красочные лучи солнца устремлялись за горизонты. Знаешь ли ты, что с человеком, любезным твоему сердцу, те лучи еще красочнее! Мы глядели на рощу, на сосны, березы и мысленно беседовали с природой. Радость, кроткое чувствование заполняли мое сердце, но… все же пурпурные последние лучи солнца навевали настроение скоротечности жизни. Все располагало наши души к размышлениям, и я с наслаждением слушала его умные речи.
Ах, Сашенька, если б ты видела, каким было его лицо в те минуты! – оно подобно было рокоту волн… А потом Николай Александрович обнял меня, прижал к себе руку мою, и я чуть не потеряла сознание. Трепетала, как птичка, и не могла вымолвить ни слова…
Но – увы! – не дано нам свободно предаваться счастливым мгновениям, и тут встала опять меж нами стена: оттого, что заговорил он о будущем нашем.
– Машенька, – говорит, – душа моя, только с тобой могу я повязать свою жизнь, а если не отдаст твой отец за меня – так или в монастырь уйду, или жизнь порешу.
– Что ты, – говорю, – Львовинька, желанный мой, да разве можно такое говорить? Ведь и мне без тебя жизни нет!.. Смилостивится когда-нибудь батюшка.
– Когда же? Нет сил ожидать… Богатство твое – помеха, и не надо мне того богатства! Любовь – лучшее из богатств!.. Ах, как несправедливо устроен мир! – верно говорят философы.
– Уж не знаю, что говорят твои философы, – сказала я ему, – только и мне батюшкиного богатства не надобно, ежели нет тебя со мною рядом. Четыре раза просил ты руки моей, а все нет и нет – один ответ. Не терзай мою душу, лучше пожалей бедную свою Машу.
– Скажи: любишь ли ты меня? – спросил он.
– И рада бы, – говорю, – не любить, да твой пригожий вид, ясный ум да сердце привораживают меня.
Львовинька закручинился и вдруг вскричал:
– Сколько так длиться может?.. Увезу тебя, тайно обвенчаемся – и все!..
Тут он крепче обнял меня и стал миловать, приголубливать, а я не противилась. Щеки мои подобны были пурпурным лучам заката.
Потом сели мы на поваленное дерево; я спросила отчего-то про детские годы его: знаю, мол, я тебя в настоящем времени, а каков ты был ранее? Оказалось, что батюшка и матушка его в детстве думали: не сносить ему головы – такой был удалой! Однако когда он один оставался, то сильная задумчивость на него находила и так остро чувствовал он печали и горести!
– Взгляни, – говорит, – на беспечных птичек, которые с веселым писком вьются над нашими головами, но стоит забушевать холодам, как голоса их умолкают. Так и я… когда уезжаю, ни на минуту не перестаю о тебе думать, а ты – в свете, кавалеры вокруг вьются, и этот Хемницер…