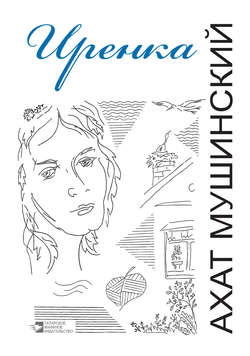Читать книгу Иренка (сборник) - Ахат Мушинский - Страница 3
Рассказы
Иренка
ОглавлениеНет, не могу её забыть. Сколько лет прошло! – а не могу. И с каждым годом, чем гуще замешивается жизнь, чем, казалось бы, непроглядней опускается дымовая завеса времён, тем отчётливей я вижу её – всю, от светлых, пшеничных волос, от такого же цвета стрельчатых ресниц, обрамляющих серо-бирюзовый, всегда вопрошающий взгляд, до маленьких, то ли подростковых, то ли юной женщины ножек в простеньких сандалиях.
Помню её у шлагбаума в белом лёгком платьице в конце зеркально гладкого автобана, окаймлённого вековыми дубами, покрашенными белилами и естественным образом заменявшими дорожные столбики ограждения. А я всё удаляюсь и удаляюсь, шаг за шагом, от дуба к дубу, пока она не превращается в белёсую, колеблющуюся точку. Помню белого аиста, свившего гнездо прямо на трубе её дома и живущего там со своим семейством уже несколько лет. Не догадался спросить: как же печка при необходимости топится? Надо же, до сих пор меня это интересует! А спросить теперь не у кого. Помню заставу со всеми её тренажёрами, баскетбольной площадкой, двухэтажной казармой, затянутой по стенам тёмно-зелёным, поблёскивающим плющом, и небольшим плацем рядом, побывавшим как-то международной концертной площадкой.
Да, я служил на заставе советско-польской границы. Это было в начале 70-х, естественно, не этого века, в городе, точнее, маленьком городке Багратионовске, который во времена Восточной Пруссии назывался Прёйсиш-Эйлау. Близ него в 1807 году произошло грандиозное сражение Наполеона с русской и прусской армиями. Битва получилась кровавой, но равной. Командовал русской армией генерал Беннигсен. Под его руководством сражался князь Багратион, сражался и был ранен Барклай де Толли. Но город назвали почему-то не именем главнокомандующего… Может, потому, что в итоге Беннигсену, как Кутузову при Бородине, пришлось отступить? В городе сохранился дом, где останавливался Наполеон. Теперь на стене того дома висит мемориальная доска. На окраине города устремился в небо своей готикой памятник Прёйсиш-Эйлаускому сражению, с двумя пушками тех времён по бокам. Красиво, я скажу! Вот в таком городке рядом с государственной границей я и служил. Добавлю, что там нет ни одной деревянной постройки, всё из камня и кирпича. Крыши оранжевой черепицы, дороги по городку мощёны брусчаткой, а не как у нас, под Кремлём, – булыжником. Ровные, узорчатые, пойдёшь – залюбуешься… Справа замок бывшего Тевтонского ордена, слева – костёл, ставший в наше время историческим музеем. Меняются времена, меняются названия и предназначение сооружений. Но всё равно не так легко разрушить былое, перелицевать историю…
Мне всё это близко, памятно, поэтому и вспоминаю подробно. А службу я начинал в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, родном городе Иммануила Канта. Но об этом старинном городе рассказывать не буду. О нём всё хорошо известно. Скажу только: там я прошёл двухмесячные «курсы молодого бойца», научился стрелять из «калаша» и довольно неплохо, прятаться в окопе под мчащимся над тобой танком и бросать ему сначала навстречу, а затем и вслед гранаты, пользоваться ракетницей, техникой пограничной связи… После курсов меня на заставу, как других, сразу не отправили, оставили при штабе помогать профессиональным художникам-срочникам обустраивать музей части – с барельефами героев, панорамами сражений… Не хвалюсь, но я обладаю некоторыми способностями художника, ещё на учебке наглядную агитацию оформлял – рисовал, скрипел плакатными перьями… И читал, много читал. При штабе у нас была великолепная библиотека. Шекспир, Толстой, Чехов, Шолохов, Катаев… Знаете ли, в армии я вдруг решил стать писателем. Ворочал книги классиков с карандашом в зубах – подчёркивал, выписывал, учился строить предложения, абзацы, фабулу…
Через полгода, однако, музей был готов. И в один прекрасный день я со своим нехитрым багажом погрузился под брезентовый тент военного грузовика «ГАЗ-66», который из-за двух шестёрок мы прозвали «шишигой». На заставу номер шесть (опять шестёрка!) везли какие-то приборы, вот и меня, адресованного туда, с собой прихватили.
Да, пожитки у солдата нехитрые, но у меня была ещё коробка с книгами. Это я подружился с библиотекаршей, и она, видя мою неуёмную любовь к художественной литературе, собрала небольшой комплект книжек. «Для самообразования будущему писателю!» – сказала, провожая меня. В тайную цель моей жизни библиотекарша была по секрету посвящена. Хорошая, молодая, образованная женщина. Такую библиотечку она мне предоставила! С возвратом, конечно. Хотя одну книжку, когда я уж прощался с армией, она мне подарила с доброй, напутственной надписью и штампом библиотеки войсковой части.
Большую роль при установлении прицела на будущую мою судьбу сыграл Куприн. Я был очарован его «Олесей», «Гранатовым браслетом» и особенно – «Поединком». А уж вот эти строки его из «Юнкеров» не оставили и грана сомнений в моей будущности. Прошу простить за пространную цитату:
«Мысли его и фантазии ещё долго не могли оторваться от воображаемого писательского волшебного мира, где всё было блеск, торжество и победная радость. Не то чтобы его привлекали громадные гонорары и бешеное упоение всемирной славой, это было чем-то несущественным, призрачным и менее всего волновало. Но манило одно слово – «писатель»… Это не знаменитый генерал-полководец, не знаменитый адвокат, доктор или певец, это не удивительный богач-миллионер, нет – это бледный и худой человек с благородным лицом, который, сидя у себя ночью в скромном кабинете, создаёт каких хочет людей и какие вздумает приключения, и всё это остаётся жить навеки гораздо прочнее, крепче и ярче, чем тысячи настоящих, взаправдашних людей и событий, и живёт годами, столетиями, тысячелетиями, к восторгу, радости и поучению бесчисленных людских поколений».
Во как! Разве после таких строк можно хотеть быть кем-то другим?!
Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Но важен сам момент мечтаний, ожидания чего-то большого, счастливого, каких-то перемен. В ранце каждого солдата лежит жезл маршала, а в пенале начинающего писателя – перо Толстого. На то она и молодость. Мне было восемнадцать. Я был полон сил, надежд и чувства – верите – нет?! – свободы. Таким вольным, счастливым, устремлённым в будущее, как в армии, я больше никогда и нигде не был. Оказывается, ожидание праздника ценнее его самого.
В двух километрах от заставы – погранпереход «Багратионовск – Безледы». С нашей стороны всегда в пробке километровая колонна легковых автомобилей, упёршихся головной машиной в тот самый, упомянутый мной шлагбаум. Это желающие погостить в Европе. Через Польшу можно и в Германию махнуть и подальше, у кого как получится. Транспорт досматривали ребята из КПП (контрольно-пропускного пункта). Это была наша погранэлита. У неё обычным делом водились красивые металлические зажигалки «Las Palmas», авторучки с раздевающимися при встряхивании девицами, другие заграничные диковинки. Я в число элиты не входил. Меня, как и большинство призывников, определили мерить фланги. Поясню. У заставы два фланга, то есть участка границы, которые мы должны были охранять – вправо шесть километров и влево – три. Вот и ходи туда-сюда во всём снаряжении днём и ночью. Или лежи часами в «секрете», или торчи на вышке… Но мне это всё было не в тягость. Именно на границе я научился оставаться один на один с самим собою – размышлять, строить планы, сюжеты…
Снаряжение, конечно, было нелёгким: заряженный АК-47 с запасным магазином, штык-нож, который мы цепляли к стволу, боясь рысей, ракетница, фонарь с аккумулятором на боку, телефонная трубка со шнуром и штекером для связи (розетки были понатыканы под пнями и корягами) и ещё этот пресловутый серый погранплащ до пят из какой-то холстины, который вбирал в себя влагу с неимоверной силой и при дождях становился таким тяжёлым, что, упав, встать самостоятельно, как рыцарю-крестоносцу в доспехах, было чрезвычайно сложно. Сейчас, конечно, всё изменилось – и оружие, и средства связи, и обмундирование, но тогда, при мне, всё было именно так.
Застава жила одной большой семьёй, никакой дедовщины (сами понимаете, боец там вооружён до зубов, не играй с огнём). То дикого козлика подстрелим в закрытой погранзоне, то кабанчика… Вызовешь «тревожную группу»[1], она и доставит добычу на «газике» домой. А там общий, братский котёл, даже, бывало, пельмени лепили. За один стол с «отцом» садились – начальником заставы, майором по фамилии Щербань, у которого тут своя семья проживала – жена Марья Петровна с маленькой дочкой Машей. Старлей (его зам) со старшиной за старших братьев были – добры, отзывчивы, но при исполнении строги, как положено.
Так и жили – не тужили, а службу по всем правилам, без сучка и задоринки несли. К весне того памятного года мне присвоили звание младшего сержанта. Жить стало повольготнее. Однако армия есть армия. Особенно наш род войск, один из самых дисциплинированных и строгих в жизни личного состава.
Времени почитать, позаниматься оставалось не так много, но грех жаловаться. Я даже порисовать успевал. Обыкновенно делал наброски с друзей. Что интересно, наш призыв состоял в основном из татар и белорусов. Красивый язык у ребят из Полесья: на русском ласточка, а на белорусском – ластовка. Что мягче и благозвучней?! Фамилии у них интересные: Виничек, Черёмуха, Ветла…
А проводником служебной собаки у нас был сержант Дубина. Не выдумываю, вот достал папку с набросками, листаю, а они, рисуночки мои, портреты все – кто есть кто – подписаны: фамилии, имена, звания…
Были, конечно, и не особо приятные моменты. Особенно эти кроссы, которые «отец» обожал и по которым наша застава в отряде (у пограничников именно отряд, но не полк) была в призёрах. Бегали по пояс раздетые, в сапогах. Дистанция четыре кэмэ, как раз по автобану до шлагбаума и обратно. Вот бегу я раз, жара, язык на плече… Всё, издыхаю, сейчас упаду… И вдруг кто-то подталкивает меня в спину. Знаете, какая это всподмога?! Толчок, и ты шагов пять-шесть уже не бежишь, а летишь, будто не в тяжёлых сапогах ноги, а с крылышками у босых щиколоток. Оглянулся – это мой земляк из Зеленодольска ефрейтор Вагиз Шакиров. Так и спас меня, сержанта, даже в срединную группу бегунов затолкал. Впрочем, в марафоне все равны. Сержант, ефрейтор, рядовой… какая разница! Главное тут – дыхалка. На голом торсе знаков различия нет.
Сел я вечером и изложил этот случай на бумаге. И вообще, расписал, кто такой ефрейтор Вагиз Шакиров. Он ведь и пел хорошо, прям как его знаменитый однофамилец Ильгам. Как затянет на родном татарском: «Эх, подняться бы на Уральские горы!», так просто душу вынет! А потом он был мастер на все руки – и плотник, и сантехник, и всё что угодно. В нашей «коммуналке» Вагиз был нарасхват. В общем, прицепил название к тексту, обозначил жанр как очерк, запечатал в конверт и отправил с ближайшей почтой в Киев, в окружную газету «Наш пограничник». Да, ещё и портретик его, пером и тушью выполненный, присовокупил. Денёк помечтал о публикации, а потом в суете ежедневной и позабыл совсем о своём послании.
На другой день нас с Вагизом послали к шлагбауму за молоком. Это большой секрет, но два раза в неделю польский фермер Милош на своей двухместной коляске на автомобильных шинах, запряжённой гнедой лошадкой, привозил рано утром нам для заставы свежего молочка. Обыкновенно это был один большой бидон. Расплачивалось начальство, наше дело было доставить ёмкость «домой». Замечу только, такого вкусного молока я больше никогда в жизни не пробовал.
Была весна. Был звонкий солнечный май. Цвели каштаны. А по ночам от соловьиных арий уснуть просто не представлялось возможности. Бывало, я вставал среди ночи, выходил на свежий воздух, вглядывался в далёкие созвездия, и дышалось так легко на залитой серебряным светом земле, и мечталось так безудержно, и предчувствовалось так остро… А что предчувствовалось? А что может предчувствоваться, когда тебе восемнадцать лет!
Утром меня растолкал Вагиз, наспех ополоснулись и потопали к «газику», за рулём которого дожидался единственный русский парень на заставе Вовка Абрамов, тоже волжанин, из Жигулёвска. Я с ним крепко сдружился позже. После армии ездили даже друг к другу в гости, долго переписывались, потом, к сожалению, как-то всё сошло куда-то. В этом, наверное, ничего удивительного, всё закономерно – нет на свете власти выше времени, и оно диктует правила. Где он, кто он теперь? Ведь тоже хорошо рисовал.
На месте назначения пана Милоша не оказалось, гнедой лошадкой умело правило небесной красоты белокурое создание. Просто ангел, только без крылышек за спиной. Она улыбнулась на наши недоумённые лица и поздоровалась:
– Дзиень добры, панове!
Мы с Вагизом стояли за шлагбаумом с открытыми ртами.
Она пояснила:
– Оциец мало-мало захворовачил… – пояснила она и похлопала ладошкой по влажному бочку бидона, разместившегося в коляске у её ног. – А от вам млеко!
Первым пришёл в себя Вагиз:
– Доброе утро, панна!
За ним и я очнулся:
– А что с отцом?
– Ангина, – ответила она. И стала быстро-быстро то на русском, то на польском пояснять, что отец в мае всегда заболевает, но к двадцать восьмому мая обязательно выздоровеет: – Ведь шьвиэто – праздник!
– Да, через неделю будет большой шьвиэто, – подтвердил я. – День пограничника же!
По обыкновению в этот день мы открывали к вечеру границу, и к нам в гости шли польские пограничники, жители близлежащих польских поселений и, естественно, вместе с нами отмечали праздничную дату жители Багратионовска во главе с мэром города. Устраивались совместные концерты, игры, танцы, одним словом, говоря по-нашему: наступал настоящий сабантуй.
Мы спросили (не припомню даже – кто из нас), как её зовут.
– Иренка, – ответила девушка.
– Ирина, наверно? – уточнил я.
– Нье-е, – возразила она и повторила: – Ире-е-енка.
Хотя – да, у полек немало имён, оканчивающихся на «ка». И это у них не уменьшительно-ласкательная форма. Сразу вспомнились Анжелика, Генрика, Бланка… А у моего отца в лаборатории работала Агнешка.
Мы тоже представились. Она по слогам, как первоклассница за учителем, повторила наши имена и, когда у неё это хорошо получилось, засмеялась, показав жемчужные зубки, весело, заливчато, будто ручеёк зажурчал по камешкам.
Из будки на краю шлагбаума за нами с интересом наблюдал свободный от досмотра автомобилей капэпэшник Закиров из Мамадыша. Гимнастёрка у ворота расстёгнута – уже, несмотря на раннее утро, жарко, уже солнце из-за холма бьёт по будке и колонне легковушек прямой наводкой, высоко в небе чертят свои иероглифы стрижи, день намечался прекрасный, как и весь конец мая, по предсказаниям.
Я спросил: будет ли она на нашем празднике.
– Так, натуралнье[2]! – И даже заговорщицки сообщила, что собирается на концерте песенку спеть. Какую? Секретик.
Я только вздохнул в ответ, отвёл от неё взгляд, что сделать, признаюсь, было непросто. Мы с Вагизом взяли за ручки бидон и сняли с коляски, помогли развернуть Иренке её транспортное средство. Она дёрнула поводья и помахала нам ручкой. Мы долго смотрели ей вслед. Затем погрузили бидон в наш «газик», надо было поторапливаться, чтобы первоклашка Машенька перед школой успела свежего молочка попить.
С утра 28 мая личный состав заставы, свободный от нарядов по охране границы, на славу помаршировал парадным строем по городку. Возложили погранцы в свой праздник цветы к памятнику павшим нашим солдатам при взятии Восточной Пруссии, а также – к величественному бюсту Багратиона. А я уже с самого рассвета топал во всеоружии на левый фланг заставы часовым границы – три кэмэ до стыка с флангом другой заставы и три – обратно.
Я шёл малозаметной тропкой вдоль КСП (контрольно-следовой полосы) и размышлял: а что же тогда утром произошло, когда за молоком с Вагизом съездили? Иренка с тех пор не покидала моё воображение, мои мысли, с тех пор какое-то новое ощущение зародилось под моим солнечным сплетением. Будто кто-то врезал мне под дых, и с того момента я очухаться, отдышаться не могу. Спросил я у Вагиза: с ним ничего не произошло после поездки за молоком? Он пожал плечами:
– А что должно было произойти? Молока я всего одну кружку выпил…
Я не стал вдаваться в подробности. Значит, это только со мной такое, значит, случилось то самое, что остро предчувствовалось накануне поездки. Мне вспомнился фильм «Человек-амфибия». Я и роман Беляева до этого читал. Но кино, в отличие от суховатой книги, произвело на меня тогда, в юности, неизгладимое впечатление. Гуттиэра спрашивает влюблённого Ихтиандра: «Так значит, это любовь с первого взгляда?» И тот отвечает вопросом на вопрос: «А разве бывает другая любовь?»
И в самом деле, разве бывает? Первый взгляд, как стрела, пущенная амуром, или точно в сердце, или – мимо. Вторые, третьи стрелы – это уже насилие над человеческой душой, это уже не любовь, а призыв или принуждение к сожительству. Наконец, я перестал мучить себя безответными вопросами. Ожидал, помнится, чего-то большого, счастливого, перемен каких-то ожидал, вот они и наступили.
Безответные вопросы покидали вооружённого далеко не луком и стрелами солдата минуты на две, а потом опять наваливались, но уже с удвоенной, с утроенной силой. Интересно, придёт она всё-таки на праздник или не придёт?
На заставу я вернулся к обеду. День, как и предсказывали, выдался солнечный, по-настоящему праздничный. Мне было жарко от многочасовой ходьбы, от тесного воротника гимнастёрки и тех неведомых чувств, поднявшихся в душе после встречи с Иренкой. Повар позвал меня пообедать. Есть не хотелось. Я попросил лишь кружку холодного молока. После столовой поднялся к месту своего обитания – к кровати с тумбочкой на втором этаже. Подшил свежий подворотничок, оздоровил пуговку на гимнастёрке, поправил сержантские лычки на погонах, помылся-побрился, отполировал сапоги…
В три часа начались празднества со спортивных соревнований на брусьях, перекладине, гимнастических кольцах, «коне». Майор Щербань лично палил из стартового пистолета на стометровке. Ладно, хоть кросс не заставил бежать! В заключение пошла вольная борьба. Победители получали призы от мэра и начальника заставы, болельщики болели – свистели, хлопали в ладоши…
После наряда я имел право не бегать, не прыгать… Я слонялся по праздничной заставе, выискивая взглядом одного-единственного человека. Иренку, конечно, ведь обещала… Как она сказала-то: «Да, натурально приду». Где же её натуральность?
Она появилась незадолго до начала концерта. Подошла ко мне сзади и зажала ладошками мне голову: отгадай, мол, кто? Я сразу произнёс:
– Иренка!
Она откинула ладони, рассмеялась своим негромким, журчащим смехом… Над плечом её торчал гриф гитары.
– А где Вагиз? – спросила.
– Вон же он, борется, – ответил я, кивая на маты у баскетбольного щита.
Я, Иренка и её семиструнная гитара устроились на скамеечке в тени каштана и стали наблюдать, как мой земляк, распластавшись в партере, никак не хотел сдаваться нашему здоровяку Виничику из Гродно.
– Папа выздоровел? – спросил я.
– Нье, – ответила она.
– Значит, одна пришла?
– Та…
Я тронул струны гитары:
– Будешь, значит, петь?
Она согласно улыбнулась:
– Та, буду.
– А я так и не научился играть на гитаре. Когда подростком был, упросил родителей купить мне её… Старался, старался, но дело дальше «Цыганочки» не продвинулось.
Подошёл раскрасневшийся Вагиз. Концовку его схватки мы прозевали. Он утирался полотенцем и ворчал:
– Да он чуть ли не в два раза тяжелее меня! Разве можно весовые категории не разграничивать?!
– Не переживай, – попытался я успокоить друга. – Ты здорово боролся!
– А-а-а! – только и произнёс он раздражённо. – Пойду в душ.
До концерта оставалось время. Иренка отметилась у организаторов, и мы пошли к озерцу посмотреть уток. Их там плавало два выводка. Это были серые чирки и зеленоголовые красавицы кряквы с белоснежными воротничками кольцом вокруг шеи. Они сразу подплыли к нам и стали наблюдать за тоненькой девушкой в светлом платьице и солдатиком с гитарой, как ружьём, за спиной, которые почему-то не бросали им хлебушка. Не подумал я о гостинцах им, надо было зайти в столовую…
Вскоре сыграли позывные концерта, и мы поспешили к плацу с сооружёнными там из досок лавками и импровизированной сценой без никакого возвышения.
Концерт получился грандиозный. Начался он с хоровой песни польских пограничников, затем пошли и сольные исполнения, и пляски, и выступления чтецов… Все были хороши и прекрасны в искренних своих выступлениях, но больше всего потревожили мою душу, конечно же, мой земляк Вагиз Шакиров и Иренка. Высокие ноты «Эх, подняться бы на Уральские горы!» унесли меня с самого западного городка нашей страны далеко на восток, в милое сердцу Заволжье. Послушал песню на родном языке, будто в отпуске на родине побывал!
Иренкина песня – прямая противоположность, никакой страсти и возвышенности. Она села на табурет, обняла гитару, вдохнула полной грудью посвежевшего к вечеру заставского нашего воздуха, а можно сказать, и родного – чего тут, до границы-то два шага! – и из уст её полилась тихая польская песня. Она текла свободно и легко, без малейшего напряжения. Иренка ласково перебирала своими тонкими пальчиками серебристые струны, чуть склонив голову набок, так, что крыло её пшеничных волос прикрыло пол-лица, поводя в такт узкими, по-детски заострёнными плечами, и гитара отвечала ей взаимностью. Казалось, что певица и гитара – это одно единое существо, которое живёт исключительно общей на двоих песней. И ту её, выплывшую вдруг на простор полноводную, затопившую всю мою душу песню, как, скажите на милость, описать словами? И как передать то безбрежное чувство к Иренке, к её дарованию, к её мягкому, текущему голосу, которое охватило меня целиком и полностью от ершистой макушки до пят?!
Нет, я мало что понял, хотя и говорят: славянские языки похожи. Но песня – на то она и песня, пусть английская, французская, итальянская… Она не для того рождена, чтобы какие-то слова и смыслы оглашать, она душевное состояние исполнителя передаёт, у неё интернациональный язык сердца. И не надо ей никаких толмачей. Порой я даже радуюсь, что не понимаю иностранных слов некоторых песен, поскольку это даёт возможность в тронувшую тебя мелодию вкладывать что-то своё, личное, адресованное кому-то недосягаемо далёкому. До этого с польской культурой я был не очень знаком. Ну, читал Мицкевича, Сенкевича, смотрел Анджея Вайду, слушал Чеслава Немана… И всё, вроде. Кто думал, что пошлют меня служить на польскую границу и влюблюсь я там в панночку из ближнего воеводства?
Всех громче и неистовей Иренке аплодировали, безусловно, мы с Вагизом. От земляка, между прочим, уже попахивало спиртным.
– Где это ты успел? – поинтересовался я.
– Пшеки угостили.
Пшеками мы называли поляков, поскольку в их речи изобиловал звук «ш».
– Погранцы или штатские?
– Погранцы, – кивнул он в сторону небольшой группы польских пограничников у гимнастических брусьев. – Больно уж песня им моя понравилась. А что, может, и тебе немного вздрогнуть?
– Нет, спасибо, – ответил я и поинтересовался: – Что пили-то?
– Польскую…
– И как она?
– Водка как водка.
– А закусывали?
– Настоящей краковской…
Вагиз не договорил, подошла Иренка, мы расступились, и она села между нами. Мы принялись наперебой восхищаться её песней да так громко, что на нас сзади зашикали.
На сцену вышел старшина. Его коронкой была чечётка. Хромовые сапоги начищены до блеска, да и весь он светился и блестел каждой пуговкой, бляхой ремня, медалью на груди, чёрными цыганскими глазами…
Я спросил Иренку, о чём была её песня.
Она сказала, что это история об аисте, который, как и положено, прилетел из тёплых краёв пораньше, обустроил гнездо и стал ждать любимую, а она не прилетела.
– Почему? – спросил я.
– Попала в шторм и погибла, – ответила она.
– Грустная история.
– Очень.
Иренка всё-таки хорошо говорила по-русски, хотя нередко использовала родной, польский. В те годы, о которых я рассказываю, русский язык в польских школах был обязательным предметом.
После выступления старшины Иренка засобиралась:
– Пора до дома. Отец там йеден.
– Почему один? А где мама? – спросил я.
– Мама у дзидека в Бартошице.
– А с дедом-то что?
– Ревматизм… Мама ухаживает.
Вагиз заметил:
– И с аистами у тебя, Иренка, печально, и вообще…
– Но сейчас же танцы начнутся! – попытался я изменить ситуацию.
Однако гостья наша была непреклонна.
– Мы тебя проводим, – сказал, как отрезал, ефрейтор.
– Добже, – ответила она. – И ласково взглянула на нас обоих.
Мы шли по автобану в сторону КПП, а за спиной на заставе грянул музон – начались танцы. Земляк нёс бережно гитару, а я сошёл с дороги и собрал букет полевых цветов.
Не перестаю удивляться, как девушки всегда восторженно реагируют на цветы. Я церемонно, с поклоном протянул букет нашей прекрасной даме, она в знак благодарности присела, оттянув подол платья в стороны, безмятежно рассмеялась и опустила лицо в полевое разноцветье у себя на груди.
Прощаясь у шлагбаума, она сказала:
– Увидимся!
– Конечно, – ответил Вагиз.
– Обязательно, – отозвался я.
На заставе было весело, на плацу под живую музыку ВИА из Дома культуры Багратионовска кружили счастливые пары. Праздник продолжался. Вагиз шумно потёр ладонью о ладонь, расправил гимнастёрку под ремнём на поясе, грудь колесом сделал:
– Пойдём!
– Нет, я ж с пяти утра на ногах, – ответил я. – Отдохну, почитаю…
Не читалось, не писалось. Как же это мы увидимся с ней?
* * *
Через два дня нас повезли на ночные стрельбы по движущимся мишеням. Полигон был тут рядом, под Багратионовском. Личному составу ведь надолго отлучаться с заставы нельзя, хотя и оставались там наряды, дежурный по заставе, «тревожная группа», часовой, один из офицеров или старшина. Таков пограничный устав.
Обыкновенно на стрельбах из «калаша» даются две главные команды, два приказа: одиночными бить по цели или очередями. Не считая уточнений: стоя, лёжа, с колена… Я сразу научился отсекать по два патрона при очередях. Два патрона вместе – это считалось очередью, и у стрелка, соответственно, увеличивалось число выстрелов. У Вагиза вот не получалось, стрельнёт два раза и «магазин» весь опорожнит. Всё в «молоко» уйдёт, ведь в цель летят только первые пули, остальные – выше и в сторону.
Ночные стрельбы – красота неимоверная! Там же трассирующими пулями жаришь. Нажмёшь на спусковой крючок, и из ствола твоего во тьме, подсвеченной слегка осветительной ракетой, вырываются разноцветные снопы огня. Полёт каждой пули очерчивается зелёными, красными линиями от тебя и до самой цели. Единственно, что осложняло, это перебежки. Стрелять надо было, перебегая от рубежа к рубежу. Во тьме-то! Один у нас так ногу сломал, ступив в какую-то невидимую ямку.
На этот раз обошлось без травм и приключений. Отстрелялся я на «отлично», Вагиз – на «удовлетворительно». Видите, как всё на свете уравновешено: он лучше бегает, я – стреляю, он лучше поёт, я – рисую, он в сантехнике разбирается, я – в литературе… Так и дополняли друг друга, так и дружили. Вместе мы и дембельнулись[3]. Приехали в Казань, сначала ко мне зашли, в смысле, к моим родителям, я у них жил. Отметили, потом я проводил его на автобус, и он уехал к себе в Зеленодольск.
…Вернулись со стрельб за полночь. Дежурный остановил меня и сказал, что на завтра с утра мне назначен наряд: покраска столбов. Понятное дело, пограничных, а не телеграфных. Он хлопнул меня по плечу со смешком:
– Художник должен заниматься своим делом – красить, правильно?
Пограничный столб – это уже самый последний пограничный атрибут на краю государства. Он у нас был, как и теперь, двухметровый, красно-зелёный, на бетонированной отмостке. В верхней, красной, части – металлическая пластинка с гербом. Под ним – номер столба. Напротив, метрах в десяти, польский, красно-белый. Красивый, яркий. Полосы на его гранях не горизонтальные, а уходящие углом вверх. Между этими двумя столбами и проходит госграница. Поляки её не охраняют. «Зачем, – говорят они, – если вы охраняете?» Появляются на велосипедах только тогда, когда надо столбы починить или покрасить.
Столбы красить не сержантское дело. С другой стороны, кто это лучше меня сделает? Взял замазку, краски, кисти, трафареты для номеров, сложил в санитарную суму, и «тревожная группа» закинула меня на правый фланг, перебросила через КСП, все ограждения, прямо к запланированному для косметического сеанса столбу. Таким образом, боец из Казани остался один на один с пограничным столбом, банками-склянками и телефонной трубкой на самом западе страны. Да, ещё штык-нож болтался на ремне.
От этого столба мне самостоятельно надо было перейти потом к другому. Когда начал работать, светило солнце, всё было нормально. Столб мой был гладенький, без повреждений, так что я с ним быстро управился и пошёл ко второму, но путь мне преградило самое настоящее болото, поросшее камышом и осокой. Я тихонечко двинулся по мшистым кочкам. Прыг да прыг с одной на другую. Но скоро увяз, зачерпнул сапогом зеленоватую жижу и вернулся обратно. Что, «тревожную группу» вызывать, чтобы вернуться за все ограждения и КСП? Одному нельзя – испорчу рифлёную «песочницу», да ещё эта сигнализация – такой шухер подыму! Сейчас, конечно, всё по-другому, но и в те времена технические средства охраны были довольно хитры и изощрённы.
Я решил обойти болото по польской стороне. Пограничников ни ихних, ни наших не видать, болото это не такое уж большое, никакого риска. И я, подхватив суму с банками, кистями, направился быстрой ходкой к намеченной цели – к двум маячившим друг против друга вдали за болотом столбам. Кстати, польский, красно-белый, проглядывался лучше, наш же, полузащитного цвета, сливался с зеленью кустарников.
Такой быстрой смены погоды я ни до, ни после того дня не видел. Откуда ни возьмись, набежали лиловые тучи, всё вокруг потемнело, засверкали молнии, гром загремел артиллерийской канонадой, и хлынул проливной дождь. Я, казалось бы, уже добрался по «берегу», посуху до срединного края болота, где обнаружил, что оно имеет замаскированные рукава, и их тоже надо было обходить. Не привык я сворачивать с намеченного пути, пошёл дальше. Тут-то и началось…
Я упорствовал, проклиная всё на свете – и непогоду, и дежурного, объявившего мне этот наряд, и самого себя за то, что не вызвал «тревожную группу». А ливень не унимался, он усиливался и усиливался, пока не превратился в Ниагарский водопад. Он-то вместе со шквалистым ветром и сбил меня с ног. Или я просто поскользнулся? Так или иначе, свалился в какой-то овражек, где с моей ногой и случилась беда. Боль электрическим током прошлась от лодыжки вверх по всему телу, будто меня молнией шибануло. Я плохо переношу различные болезни и всякие боли. Слабак, наверно. Вот начнут враги пытать, все секреты выдам, какие знаю и не знаю.
Тем временем овражек стал быстро наполняться водой. Не хватало коренному волжанину в какой-то позорной яме утонуть! Я полез по склону, скользя и скатываясь обратно. Когда воды было уже по пояс, попытка удалась, и я выбрался из западни.
Я растянулся ничком в холодной мути, бездумно хороня лицо в ладонях, повторяя про себя одно и то же: «Ничего, я терпелив и упрям. Переживём и эту напасть!» Что интересно, много лет спустя, мой шеф выговаривал мне у себя в кабинете: «Ты необыкновенно упрям, дорогой, стоишь на своём вопреки всякому здравому смыслу». Я ответил, вспомнив ту бурю и ту мутную жижу, в которой лежал вниз лицом под дождём: «Да, что есть, то есть».
А дождь сменился градом. Белые горошины забарабанили по спине, по неприкрытому затылку. А где фуражка-то? (Замечу в скобках, у погранцов пилоток нет, только фуражки. А так хотелось походить в лёгкой пилоточке!) Стал шарить вокруг – не нашёл. Наверное, в яме осталась.
Наконец, в небесной канцелярии смилостивились – заменили град на душ простого, но сильного дождя. По-прежнему сверкало, громыхало, и порывистый ветер накатывал и накатывал дождевыми волнами. Надо было двигаться, и я пополз, превозмогая боль в ноге. Сколько длился этот кошмар, трудно сказать. Сознание вдруг прояснилось, когда я наткнулся на столбик с вывеской «Mala-Malina».
«Мала-Малина», – повторил я вслух. И уж про себя: «Надо же, до какой-то польской деревни дополз!» Попытался подняться, но боль так стрельнула от ноги по всему телу, что и сознание застила. Но я всё равно пополз. Мной опять двигало исключительно оставшееся включённым упрямство и какая-то сила инерции на полном автомате.
Где болото, где граница, где я сам, было непонятно. Дальше своего носа ничего не видать. Дождевая завеса не расступалась. Я продвигался на четвереньках. Останавливаться нельзя было. Остановка смерти подобна – расслаблюсь, усну и хана. Маршрут рисовался в голове навязчивым пунктиром между «Мало-Малиной» и болотом – к погранстолбам.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ясно было одно: я бестолково сбился с пути.
Буря прекратилась так же неожиданно, как и началась. Расправило лучи предзакатное солнце, на небе ни облачка, кружат в вышине не то стрижи, не то ласточки, в луже купаются воробьи… Я подтянулся к одинокому дубу, облокотился спиной к его могучему стволу – надо было передохнуть, собраться с мыслями, сориентироваться.
И вот полулежу, полусижу я так… Один сапог снял, второй не смог… Мимо проплывает яхта с белоснежными парусами, с борта её сходит ангел в белом лёгком платьице, подходит ко мне, называет по имени, тормошит за плечо, я пошире открываю глаза – передо мной Иренка.
– Же с тобой? – присела она рядом на корточки. – Проше, скажи же ж?!
Я протёр глаза кулаками – не сон ли это? Коснулся руки Иренки – тёплая, живая… И поняв, что не сплю, вдруг рассмеялся по-детски простодушно и доверчиво.
Иренка повторила вопрос. Пришлось рассказать: был брошен на покраску погранстолбов, решил от одного столба до другого пройти по польской стороне, обогнув болото, началась буря, повредил ногу, заблудился…
– Где я?
– У меня в гостях, в Мала-Малине, вон наш дом на холме с краю, – показала она пальчиком на белый домик с оранжевой крышей недалеко от обрыва.
Не буду расписывать своё тогдашнее состояние, вдаваться в малоприятные подробности своей жалкой эвакуации с поля боя: как Иренка подогнала своего гнедого с двухместной коляской на мягких шинах, как увезла к себе домой, как освободила распухшую ногу от сапога, разрезав голенище… Она сбегала и позвала врача, друга семьи, жившего по соседству. Его звали Кшиштоф. Он осмотрел мою раздувшуюся лодыжку, но диагноз поставить не смог – то ли связки порвал, то ли вывих…
– Но не открытый же перелом, – пошутил я.
– Слава богу! – сказал он. – Надо снимок делать. – И сделал мне обезболивающий укол в ягодицу. – Може, временно шину наложить?
– Не надо, – сказал я. – В санчасти всё сделают.
Солнце село за макушки дальнего леса, я засобирался домой, к себе на заставу, но Иренка отговорила. Сказала: завтра с утра пораньше отвезу к шлагбауму, заодно и молока прихватим, а нога, врач же сказал, скорой помощи не требует. Я взвесил ситуацию, положив на одну чашу весов своё «дезертирство» и расплату за это, на другую – Иренку, общение с ней, о котором мечтал, но в которое уже не верил. И вторая чаша перевесила.
– Ты права была, – напомнил я, – сказав тогда на прощание: увидимся.
Посмеялись над её пророчеством. «Да, – подумал я, – теперь смешно, а что потом будет?» Чёрная метка прокралась в мозг мой, помню, только единожды, больше тяжёлыми мыслями я не омрачал подаренное судьбой нам с Иренкой свидание. Да и права она: не я же виноват, в конце концов, а буря, форс-мажор.
Ужинали в саду. Последний вечер мая. С яблонь сыплет оставшимся цветом. От бури ни следа. Дом Иренки на взгорье, лужи здесь не задерживаются.
– А где пан Милош? – спросил я.
– В госпитале, – ответила она. – Температура поднялась…
– И я ещё тут с ногой…
– Ничэго, – заверила она. – И тата выздоровеет, и ты поправишься.
Одноэтажный дом, расписанный по белой штукатурке райскими птицами, причудливыми цветами в завитушках трав, с черепичной крышей и высокой красного кирпича трубой, на которой огромной шапкой свили гнездо белые аисты, смотрелся павильонной постройкой для какого-то сказочного фильма. Хозяин гнезда на верхотуре вытянулся во весь рост в своём белом фраке с чёрными фалдами, задрал голову и гулко цокал длинным клювом, объясняясь в чувствах возлюбленной, устроившейся рядышком. «Гость» внизу за столиком, накрытым вышитой цветными нитками скатертью и убранным необычными кушаньями и закуской, потягивал из бокала самодельное пиво в компании юной, очаровательной хозяйки. Боль в ноге после вмешательства пана Кшиштофа поугасла, душа вбирала в себя все ароматы освежённых ливнем здешних полей и лесов; низким грудным контральто ласкала слух корова в хлеву, та самая, должно быть, что поила своим молоком всю нашу заставу. Я сидел в белой просторной рубахе и холщовых портках пана Милоша (одёжка моя сушилась на бельевой верёвке во дворе), любовался Иренкой, и мир казался мне прекрасным, жизнь удивительной и будущее виделось светлым и счастливым. Такого радужного и вдохновенного состояния я в жизни больше никогда не испытывал. А что, мне восемнадцать! Иренка всего на полгода младше. Оба мы свежи, чисты, помыслы наши возвышенны. Я смотрю в её серо-бирюзовые глаза и ощущаю себя на седьмом небе. Иренка поправляет пшеничную прядку, сорвавшуюся из-под платочка, что-то говорит, а я, восторженный жеребец, бью копытом и ничего не слышу.
– Что? – переспрашиваю.
– Гдзие, молвлю, находится Казань? Ближе Москвы?
– Нет, дальше.
– Гдзие дальше?
– На Волге-реке.
– А-а… – кивает она понимающе и опять спрашивает: – По-русски: я тэбе люблю. А по-татарски как будет?
– Мин синэ яратам.
Она смеётся, пытается повторить, но у неё это плохо получается. Я замечаю на груди её, в разрезе платья, маленький крестик. Она ловит мой взгляд, и крестик исчезает, только тоненькая цепочка остаётся на виду.
Я прошу её спеть.
– Нье, – говорит она, потом соглашается, выносит из дому гитару, и по вечерним туманам и выпавшим на ночь прохладным росам плывут задушевные польские песни.
Я был сражён наповал. Восхищался, благодарил её, а поцеловать, хотя бы по-братски, – нет, не осмелился.
Уже темно, она в свете фонаря над террасой пишет что-то авторучкой на листе бумаги и протягивает мне.
– Что это?
– Мой адрес.
Я бегло читаю. Труднопроизносимое воеводство из двух через дефис слов, далее – Мала-Малина. Это понятно. Улица, номер дома… И подпись: Иренка Игначек.
Аккуратно складываю лист вчетверо, прячу в нагрудном кармане рубахи.
Она постелила мне в небольшой комнате с окнами в сад. Вокруг белизна стен с фотопортретами неизвестных мне людей, на белёной печи – разноцветные узоры, как на стенах дома снаружи. Из открытого окна веет послегрозовым, насыщенным озоном, чистым, свежим воздухом. Защёлкали, засвистели в саду на все лады соловьи… Не спалось. Перед глазами стояла Иренка, и я говорил ей то, что не хватало духу сказать вечером. Я слышал, как она за дверью тихо ступает туда-сюда, позвякивает посудой, вёдрами, выходит во двор – управляется с возложенным на её хрупкие плечи хозяйством. Уснул как-то резко, мгновенно, точно в яму провалился.
Утром меня ждала на табурете чистая, свежевыглаженная солдатская форма, на столе – стакан молока.
В углу стояли костыли, один мой сапог с какой-то калошей рядом – для больной ноги, стало быть, и пакет, видать, со вторым, разрезанным сапогом. Да, нога опять заныла со страшной силой, хоть на стену лезь.
Около шести утра Иренка вошла ко мне в комнату опять-таки с паном Кшиштофом. Он осмотрел больную ногу, опять сделал мне обезболивающий укол и сказал, что часа на четыре действия инъекции хватит.
– Успеешь до своих добраться.
– Не знаю, как и благодарить вас, пан Кшиштоф! – ответил я.
Я встречал потом в жизни немало хороших людей, но образ пана Кшиштофа остался в памяти в каком-то её особом красном уголке.
На завтрак были два яйца всмятку, хлеб, масло, вчерашние вареники (с картошкой, творогом, грибами), которые она называла пиро`гами, и кофе с молоком. На этот раз мы сидели на веранде с видом на бескрайние, окутанные туманом поля в низине и на встающее за границей, далеко в России солнце.
Я сказал Иренке:
– Скоро солнце перейдёт на эту сторону, а я, наоборот, – на ту.
– Жаль… – произнесла она тихо. – Може, останешься?
– Шутишь?
– Шучу, натуралнье.
– Жаль, что шутишь. Думал, ты по-настоящему хочешь, чтобы я остался.
– По-настоящему хочу, – эхом отозвалась она.
Когда влюблённые говорят друг с другом, со стороны кажется, что парочка какую-то бессмыслицу несёт. На самом деле, в диалоге их не суть произнесённого важна, а интонация, чувство, окрашивающие каждое слово, как в песне, каждая нота главенствует, а не слово. Хорошую песню и насвистеть можно, и намурлыкать бессловесно.
Надо было шевелиться. Я сказал «спасибо» и поцеловал хозяйку в щёку. Да вот, утром решился, потому что утренний поцелуй отличается от вечернего. Он по-детски целомудрен и безгрешен. Она опустила глаза, поправила скатерть и протянула мне пакет на плетёных ручках:
– Это гостинец тебе на дрогу.
Я заглянул в пакет, там покоились сдобные булочки, конфеты, баночка мёда и платочек, вышитый нитками мулине.
Я как-то застеснялся.
– Возьми, возьми, Вагиза угостишь. – Она принялась прибирать со стола. – Сейчас карету подам.
Собравшись, я выглядел следующим образом: под мышками костыли, на одной ноге сапог, другая нога в одном носке поджата – не пригодилась калоша. Ни сумы с банками-склянками, ни телефонной трубки, ни фуражки – всё потеряно. Только штык-нож остался на поясе. И это важно, всё-таки оружие солдату терять нельзя.
В «карете» мы разместились втроём – Иренка, я и бидон с молоком, который, оказывается, рано утром помог погрузить всё тот же пан Кшиштоф.
Гнедая шла резво, помахивая хвостом и посыпая дорогу свежими «яблоками».
– Как её звать-то? – кивал я на лошадку. – А то останемся не познакомившимися.
– Всход, – отвечала Иренка.
– Восход, значит?
– Та… А ещё – и Восток.
Первую часть пути мы беспрестанно болтали, а ближе к границе замолчали, нам сделалось грустно. Шлагбаум был поднят, и под его крылом, увешанным сетями и предупредительными дорожными знаками, в сторону Польши двигалась с поочерёдными остановками колонна легковых автомобилей. В другую сторону машин не было.
У шлагбаума нас уже ждали «грузчики» – Вагиз Шакиров и Черёмуха. Поодаль в «газике» – Вовка Абрамов.
– О, возвращение блудного сына! – воскликнул Черёмуха, увидав на повозке пассажира с костылями наизготовку. – А тебя уже особист на заставе дожидается.
Вагиз, в отличие от язвительного сослуживца, радостно произнёс:
– Наконец-то?! – И помог мне сойти с повозки. – А я уж не знал, что и подумать. Пропал и всё! Целые сутки ни слуху, ни духу. Думали, может, молнией ударило. «Тревожка» весь фланг облазила в поисках тебя. Ладно, жив хоть!
– Жив-жив, – как можно безразличнее, произнёс я и закостылял к проходу у капэпэшной будки. Ребята сняли с повозки бидон с молоком, понесли к машине. Я обернулся к Иренке, протянул костыли: забери, мол. Она спорхнула с повозки, подбежала:
– Гостинец забыл! – Сунула мне в руки пакет, часто-часто заморгала, её белёсые ресницы стали влажными и потемнели. – До свиданья, сержант!
– До свидания, Иренка!
– Сразу напиши, ладно?
– Обязательно напишу!
Выходит, она почувствовала, что на заставе меня не оставят (конечно, здесь же не было ни госпиталя, ни санчасти), поняла, что я больше не приду к шлагбауму за молоком…
Потом Иренка неожиданно и беззастенчиво обняла меня, поцеловала в мои пересохшие губы и побежала обратно к повозке.
– А костыли… Костыли-то забери!
– Оставь пока себе.
– Спасибо! – Мне особенно понравилось слово «пока». Значит, я должен вернуть их? Выходит, опять увидимся. Слово-то у неё – олово.
* * *
Первый допрос «дезертиру» сразу по прибытии его на заставу учинил офицер особого отдела, толстопузый, с маленькими, дамскими ручонками мужичишка в новеньких погонах майора на узеньких плечах. Не буду описывать все его «зачем?» да «почему?» – ничего интересного. Впрочем, одна ветвь «собеседования» мне запомнилась почти дословно и считаю уместным его здесь привести. Майор понимал, что перед ним не шпион какой-нибудь, не агент-007 и поэтому начал разговор как-то даже вяло, без интереса, но в один из моментов вдруг хлопнул своей кукольной ручонкой по столу:
– Завёл, понимаешь, шашни с гражданкой сопредельного государства!
– Не шашни вовсе… – пытался возразить я.
– Ну, ну… – криво усмехнулся он. – Любовь, может, ещё скажешь! Один так за свою любовь, тоже, кстати, к полячке, отчизну предал. Отец родной потом его за это расстрелял самолично.
Особист оказался человеком образованным, «Тараса Бульбу» читал и, получается, для него казачий атаман, убивший сына, был во всём прав.
– Это вы об Андрии Бульбе? – уточнил я.
– О ком же ещё!
– Но он в повести, на мой взгляд, самый честный и красивый образ. Для него панночка и была отчизной.
– Одним миром мазаны, – заключил майор. – К стенке, правда, тебя не поставят, но за самоволку с незаконным пересечением границы впаяют по полной…
– Но никакой самоволки не было.
– А что тогда было?
– Буря, потеря ориентиров…
– Да уж, с ориентирами у тебя туго не только в географическом плане! – остроумно заметил майор.
Я понимал логику военного следователя. Профессия, должность обязывали… Но я не понимал, откуда он всё так подробно и оперативно знает – и про коробку с книгами, и про моё «путешествие», и про Иренку…
В тот же день, после обеда, майор этот, при поддержке конвоира-автоматчика, этапировал меня на «газике» в Калининград, в штаб отряда, где с меня были сняты показания о моём правонарушении и начали решать, на какую губу[4] меня запичужить, под какой трибунал отдать. За меня вступился командир отряда, полковник Суслов. Он сказал, «дезертира» надо сначала полечить. И меня отправили в санчасть, находившуюся рядом со штабом. Таким образом, оказался я один в отдельной палате второго этажа санчасти, у двери которой дежурил часовой с «калашом» на груди. Да куда это я на одной ноге убежал бы?! Диагноз моей травмы – растяжение голеностопного сустава. Лечил меня лейтенант, военврач по фамилии Худяков. Скажу уж в память о нём: мы с ним нашли общий язык на тему далеко не кислых щей. Открывая дверь палаты, он весело восклицал:
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.
Подолгу сиживал он у меня, беседуя об отвлечённом, высоком, красивом. Даже угостил как-то поздним вечером болгарским коньяком «Pliska». А однажды днём пришёл в палату с незнакомым подполковником и, кивая на меня, сказал:
– Вот он, кого вы ищете.
– Хорошо, – ответил важный гость.
Это был ответственный секретарь газеты «Наш пограничник», подполковник Барсуков, коренастый, крепко сбитый мужик с фотоаппаратом на груди. Оказывается, очерк мой о Вагизе Шакирове подготовили к печати, и не сегодня-завтра он должен был быть опубликован. Гость присел на стул у моей кровати:
– И как нога?
– Заметно лучше, товарищ подполковник. Врачи у нас что надо!
– Твой очерк нам понравился, – начал он. – Не хочешь ли поехать на стажировку в редакцию нашей газеты?
– Я же военный преступник, – усмехнулся я невесело в ответ. – Вы видели часового у двери палаты? Это меня стерегут, чтобы не сбежал.
– Наслышан, наслышан… Но это уже наша забота, разберёмся, – положил он свою огромную ладонь на мою руку. И стал расспрашивать о частностях моей жизни – кто родители? где научился рисовать? кем мечтаю быть?
Я ответил, что хочу стать писателем, а для этого хорошо бы пройти журналистскую школу. Думаю у себя в Казани в университет поступить, на журфак. Это я Катаева начитался, который советовал будущим писателям поработать газетчиками. После стыдно было – раздухарился, писателем себя возомнил. От стажировки же в редакции, естественно, не отказался. Подполковник сказал, что скоро меня вызовут… На прощание сфотографировал у окна крупным планом, без «костяной» ноги, пожелал скорейшего выздоровления и, тяжело ступая в своих сапожищах, удалился. Через полчаса охрану мою сняли. Что потом? А потом всё было как по нотам. И стажировка в редакции на улице Владимирской славного города Киева, и предложение остаться там на сверхсрочную службу, и дембель из войсковой части, где был прописан, и учёба в университете родного города, и работа в редакции молодёжной газеты, и т. д., и т. п.
А слово, данное Иренке, я сдержал. В первый же вечер в санчасти написал большое письмо, в котором высказал всё, что постеснялся сказать напрямую. Даже небольшое стихотворение посвятил ей и рисуночек набросал штриховой, где изобразил её с гитарой на груди и с ангельскими крылышками за спиной. Только вот адреса не нашёл. Искал, искал и вспомнил, что спрятал сложенный вчетверо листок с её координатами в нагрудном кармане белой рубахи пана Милоша. Спрятал и позабыл там.
Сколько лет прошло с тех пор! Я давно женат, у меня – дети, внуки… А Иренка не оставляет меня в покое, видится в видениях днём, снится во снах по ночам, будто сижу я после бури у ветвистого дуба, а она подходит и спрашивает: «Почему же не написал мне письма, почему не приехал после армии? Или забыл сразу, как покинул заставу?»
Нет, Иренка, не забыл я тебя. Ох, как помню! И пшеничные пряди твои, и взгляд светло-бирюзовых глаз, и твоё мягкое «та», и ласковое «нье», и голос твой журчащий под гитару и без… Но почему не поехал к тебе, когда отслужил в армии, ответить не могу. Ни ответить, ни оправдать, ни даже внятно объяснить себе.
Такая вот история приключилась в моей жизни, о которой я раньше никому не рассказывал. Носил в себе… А теперь вот сел за письменный стол, и всё неожиданно выплеснулось. И как-то легче стало на душе. Ведь самый внимательный и понимающий тебя собеседник – это чистый лист бумаги под твоим пером.
2016
1
«Тревожная группа» состояла из проводника служебной собаки, стрелка, радиста и водителя автомашины. Без тревоги группа могла уменьшаться вдвое.
2
Так, натуралнье (польск.) – да, конечно.
3
Дембельнулись (армейский жаргон) – уволились в запас. От слова «демобилизация».
4
Губа (армейский жаргон) – гауптвахта.