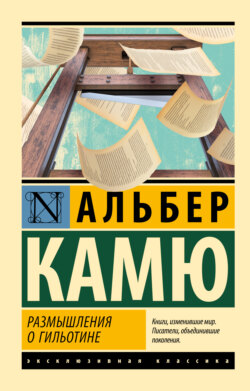Читать книгу Размышления о гильотине - Альбер Камю, Albert Camus, René Char - Страница 7
Размышления о гильотине[7]
ОглавлениеНезадолго до первой мировой войны некий убийца, чье преступление было на редкость зверским (он зарезал крестьянскую чету вместе с детьми), был приговорен к смертной казни в городе Алжире. Преступник был батраком, которого обуял какой-то кровавый бред; преступление отягчалось тем, что, расправившись со своими жертвами, он еще и ограбил их. Дело получило широкую огласку. Общее мнение сводилось к тому, что смерть под ножом гильотины слишком мягкое наказание для такого чудовища. Так думал, как мне говорили, и мой отец, которому убийство детей казалось особенно гнусным. Отца я почти не помню, но точно знаю: он самолично хотел присутствовать при казни. Ему пришлось встать затемно, чтобы поспеть на место экзекуции на другой конец города вместе с огромной толпой. Но о том, что отец увидел в то утро, он не проронил ни слова – никому. Мать рассказывала: он с перекошенным лицом опрометью влетел в дом, бросился на кровать, тут же вскочил – и тут его вырвало. Ему открылась жуткая явь, таившаяся под личиной напыщенных формул приговора. Он не думал о зарезанных детях – перед глазами у него маячил дрожащий человек, которого сунули под нож и отрубили ему голову.
Надо полагать, что этот ритуал оказался слишком чудовищным и не превозмог возмущение простого и прямодушного человека: кара, которую он считал более чем заслуженной, в конце концов только вывернула его самого наизнанку. Когда высшее правосудие вызывает лишь тошноту у честного человека, которого оно призвано защищать, трудно поверить в то, что оно призвано поддерживать мир и порядок в стране. Становится очевидным, что оно не менее возмутительно, чем само преступление, и что это новое убийство вовсе не изглаживает вызов, брошенный обществу, и только громоздит одну мерзость на другую. Это столь очевидно, что никто не решает напрямую говорить об этой церемонии. Чиновники и газетчики, которым волей-неволей приходится о ней распространяться, прибегают по этому случаю к своего рода ритуальному языку, сведенному к стереотипным формулам, словно они понимают, что в ней есть нечто одновременно вызывающее и постыдное. Вот так и получается, что за завтраком мы читаем где-нибудь в уголке газетного листа, что осужденный «отдал свой долг обществу», что он «искупил свою вину» или что «в пять утра правосудие свершилось». Чиновники упоминают об осужденном как о «заинтересованном лице», «подопечном» или обозначают его сокращением «ПВМН» – «приговоренный к высшей мере наказания». О самой же «высшей мере» пишут, если можно так выразиться, лишь вполголоса. В нашем цивилизованнейшем обществе о тяжелой болезни принято упоминать только обиняками. В буржуазных семьях полагалось говорить, что старшая дочь «слаба грудью» или что отца «беспокоит опухоль», ибо туберкулез и рак считались болезнями в известном смысле постыдными. Тем более это справедливо по отношению к смертной казни, поскольку все и каждый исхитрялись выражаться на сей счет только посредством эвфемизмов. По отношению к общественному телу она все равно что рак по отношению к телу отдельного человека, с тою лишь разницей, что отдельный человек не станет говорить о необходимости рака, а вот смертная казнь обычно рассматривается как печальная необходимость, оправдывающая узаконенное убийство, потому что без него не обойтись, и замалчивающая его, потому что оно достойно сожаления.