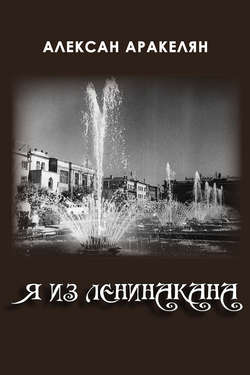Читать книгу Я из Ленинакана - Алексан Аракелян - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Немного истории города и его жителей
ОглавлениеГород назывался Гюмри, он так называется и сейчас. Это был основной транспортный узел, откуда происходила переброска русских войск в западную Армению, которая освобождалась от турок в начале двадцатого века. Гюмри по-турецки означает «граница» – это символично, потому что, Россия, после революции потеряв всю западную Армению, оставила его уже приграничным городом для СССР.
Недолгое время город носил имя Александрополь, по имени жены Николая Первого Александры. Революция. В город хлынули беженцы с территории Турции. Каждый район представлял свои обычаи и свой язык. Ванские отличались скупостью, карсские, из г. Ани, руины которого видны с этой стороны границы… Жители Гюмри представляли из себя несколько десятков родов, традиции в семьях были патриархальные т.е., существовал регламент взаимоотношений между членами семьи, который был и в мое время. Новым жителям отказывали в невестах из их семей, а девушки сами меньше всего хотели попадать в их семьи. Роды назывались по какому-либо признаку, который отличал семью или род. Гюмри был городом ремесленников, поэтому каждый род носил название, в основном, от ремесла, но были и другие признаки. Это свойство, называть по основному признаку, которое отличает род или человека, возьмут на вооружение ленинаканцы.
Я запомнил род Эш (ишака) Гевора. Мне кажется, что именно этот род наиболее точно определяет беспощадность ленинаканцев к слабостям.
Ишак Гевора остановился и не хотел идти. Гевор слез с ишака и стал его уговаривать, вокруг собралась толпа, которая хотела узнать, о чем он беседует с ослом. Защитники животных могли бы поставить ему памятник. Поняв, в чем дело, один из толпы пнул ишака и он пошел, и с тех пор, когда ленинаканцы говорят, что они гюмрийские, то им задают вопрос: «А из какого ты рода?» Еще один пример, который, как мне кажется, наиболее точно показывает разницу между патриархальным укладом и новым временем: моя пробабушка приехала в Ленинакан из Ахалкалаки. Она закончила гимназию в Тбилиси, была грамотна, знала чистописание и вышла замуж в 18 лет. Мой прадед часто говорил, что она засиделась в девках, и он спас ее, женившись на ней.
Она переехала в Ленинакан. Город с его жителями, грубостью, весельем и комсомолом показался ей адом. Когда началась война, к ней пришли и сказали: хаджи Ашхен, Гитлер начал войну. Она спросила: «Он, наверно, из Ленинакана?» Наивность и чистота ахалкалакцев сохранилась до сих пор. Ее сына вызвали на сборы. Команды давались на армянском языке. Он только женился. Он только женился, и она была редкой красавицей. С уютной теплой постели его увели в казарму. Грязный, заспанный, наверно, голодный, он больше всего хотел домой, к маме и молодой жене. По-армянски команда «вольно» переводится как «свободен» (азат). Вечером после занятий, услышав команду «свободен», он поставил ружье и пошел домой, чтобы утром вернуться. Мать накормила его, уложила, а сама стала стирать гимнастерку, чтобы к утру она была бы сухой. Но не успела, ночью к ним пришли и забрали его как дезертира. Он надел мокрую гимнастерку. С тоской посмотрел на жену на все то, что он так любил и чего у него уже не будет. Его увели, и больше о нем никто не слышал, а красавица-жена через два года ушла с русским офицером.
Бабушка в Ахалкалаки имела баню. В баню собирались и шли семьями на весь день. Мужчины разговаривали о делах, а женщины сплетничали и говорили о женщинах, здесь совершались сделки, сюда приводились невесты, чтобы родные жениха могли оценить натуральность объекта, которая должна была войти к ним в дом. Баню реквизировали. Прадед остался работать там истопником, но он болел и скоро умер. У нее не стало брата и мужа. Дочь была в Ленинакане, а сын в Тбилиси, и она переехала к дочери. Она не могла забыть то время, когда все были вместе и все были счастливы, поэтому она часто вспоминала царя. Она молилась за царя.
Мой дядя пошел в школу. На первом занятии он блеснул детским максимализмом, когда учительница начала описывать прошлую и нынешнюю жизнь, и во главе – плохого царя и нового хорошего вождя, дядя встал и запротестовал, сказав, что их царь, может быть, и плохой, но бабушкин царь был очень хороший. Бабушку вызвали в школу. Ей повезло, потому что ее сына знал лично Л. Берия, и ее оставили в покое.
Центр города находился как бы в углублении и назывался вар (вниз). Когда тебя спрашивали, куда ты идешь, ты говорил вар, т.е. – на площадь. Мне было лет семь, с бабушкой мы отдыхали в Москве. В метро мы познакомились с туристами из США, армянами. Одна очень древняя бабушка в брюках, это я хорошо помню, потому что наши бабушки и тетушки не ходили в брюках, спросила меня: «Ленинаканцы еще ходят вниз?» От площади расходились дома. Они были построены из черного туфа. На многих домах были фронтоны с поразительной резьбой на камне.
В Ленинакане появились машины, но еще ходили фаэтоны. Они были и в мое время. Они оставались долго, пока не умер последний фаэтонщик. Они стояли у рынка вместе с такси. Они стоили столько же сколько, сколько и такси, и мы с тетей один раз поехали домой на фаэтоне.
От площади наверх был разбит парк имени Горького, этот парк был еще до Горького, но я помню его как парк имени Горького. Наверху была площадка с эстрадой, где по субботам и воскресеньям играла духовая музыка. На этой площадке раньше отдыхали офицеры, советники и купцы. Ремесленники слушали, в основном, грустную музыку и заказывали дудукчи. Один из них играл мелодию, а двое или еще один создавали как бы звуковой фон – это трио называлась даста, а те кто создавали фон – держатели дама. По субботам они заказывали фаэтон, брали вино и выезжали за город, и брали с собой дудукчи. Они говорили в основном о дружбе и о семье. Семья – это было все, для чего они работали и жили, пока не пришла революция. Кроме оркестров, которые начали заводить почти все организации, нужна была и другая музыка, потому что вырастало новое поколение, которое вместе с весной революции запустило в свое сердце и весну любви. Там, где ты заказывал музыку для грусти – дудук – появился аккордеон, певцы, и местные поэты начали создавать песни о любви, и ленинаканцы начали сходить с ума, потому что пустили к себе любовь и поэзию. Любовь и поэзия требовали музу. Музой, кроме официальных ценностей революции, могла быть только женщина. Красивых женщин было немного, если не сказать, что их было мало и все были в них влюблены, а так как они не могли выразить это, потому что любовь душила их и они могли только мычать или стонать, то они шли в центр, который назывался центром «Рабочего искусства». Они заказывали музыку и отправляли группу с певцом, чтобы они выразили его чувство под балконом или окном любимой. У ленинаканцев свой диалект, он жесткий и грубоватый, по сравнению с литературным армянским языком, не говоря уже о диалектах южных районов Армении или армян, проживающих за границей.
По-ленинакански центр назывался «Рабиз», получив зарплату, и выжатый любовью, он решался пойти туда.
– Здравствуйте, – несмело говорил он, входя в дверь.
В маленьком помещении всегда сидели несколько бригад на все случаи жизни. Здесь были дудукчи, которых, в основном, приглашали на панихиды и на похороны. Аккордеонисты, барабанщики, кларнетисты и певцы для свадеб, крестин, и для романсов. Смотря на него, они уже понимали, чей он клиент. Старший подзывал его:
– Иди сюда, сынок. Скажи, что хочешь.
– Люблю (сиремга), – отвечал он. – Так люблю, что схожу с ума, а она об этом не знает, хочу, чтобы вы спели у ее окон, чтобы она узнала, как я ее люблю.
– Кто она?
– Ее зовут Анаид, дочь уста (мастера) Волода, кузнеца.
– Хорошо, сынок, сейчас как раз свободна лучшая группа (даста). Ты сколько песен хочешь, чтобы они спели?
– Не знаю, а сколько стоит одна песня?
– Сколько ты получаешь, сынок?
– Шестьдесят рублей.
– Сколько ты можешь дать?
– Я все могу отдать.
– А как ты будешь жить целый месяц?
– Я не могу без нее жить.
– Одна песня стоит десять рублей, давай две песни, или три. Тебе надо еще месяц жить. Если ей понравится, тогда ты закажешь еще.
– Хорошо.
– Ашот! – кричит он. – Ты иди, сынок, пока оплати.
Подходит Ашот.
– Слушай, Ашот, на дом уста Волода опять заказ.
– Этот баран?! Мы почти каждый день там поем.
– Тебе, что плохо, что у тебя есть работа?
– Нет, не плохо. Жалко, что мало красивых девушек.
– Ну да. Тогда не хватало бы певцов, а Ленинакан стал бы Италией!
Они идут к дому уста Волода, и начинают петь. Заказчик прячется за забором и пытается рассмотреть, шелохнется ли занавеска. На балкон выходит отец. – Ашот, – кричит он, – мне ваш вой надоел! Дай мне послушать радио.
– Уста Волод, ты зря так говоришь. Он у нас лучший певец.
– Я не только насчет вас. Я на счет того осла, который послал вас сюда. Где он?
Ашот показывает пальцем на забор, но того уже там нет, он уже бежит с разрубленным надвое сердцем…
Это было до войны. После войны уже не заказывали романсов.
В городе открывались клубы и, конечно, театр. Ленинаканцы любили театр. Здесь быстро становились актерами и хорошими актерами, потому что они были детьми мечты. После войны большинство из них уедет в Ереван, и театр угаснет. Дети должны были учиться, чтобы строить новую жизнь, но ленинаканцы взяли у гюмрийцев и другое, это то, что дети должны были знать или иметь хоть какое-то ремесло. Ремесло, которое, несмотря на революции, войны и т.д., может приносить им хлеб, когда им будет тяжело. Открывались музыкальные школы, оркестры набирали детей. Похороны сопровождались оркестром, это было еще долго, пока он не стал стоить слишком дорого, но это было уже в конце 70-х. С этого времени начнет создаваться тот образ, который будет отличать ленинаканца от всех других – это удивительное чувство ситуации и юмора. Сестра моей прабабушки, тоже ахалкалакская, решила обратиться к врачу, а врач был из нового поколения. Она зашла к нему, поздоровалась и сказала:
– Доктор, у меня, наверно, кожная болезнь: когда я захожу в баню, и сверху капает вода, моя кожа становится грубее и покрывается мурашками.
Доктор внимательно, выслушав ее, рекомендует:
– Это очень серьезная болезнь, тикин (госпожа), в следующий раз, когда будете заходить, возьмите с собой калоши и зонтик.
Дед, увидев ее приготовления в баню и узнав причину, смог ее остановить и рассказывал об этом родственникам, как чуть было она не сделала его посмешищем всего города.
Город жил этими историями. После 37-го года все боялись Сталина. Она боялась больше всего. Ее зять, зная эти страхи, пришел с мрачным лицом и объявил ей:
– Плохо, мама, очень плохо, а тебе будет еще хуже, как ты это можешь выдержать, я не знаю…
– Что выдержать сынок? – со страхом спрашивает она, не ожидая ничего хорошего от этой власти.
– Сталин издал новый указ, в связи с новой продовольственной программой, детей не должно быть больше двух, а остальные должны зайти туда, откуда вылезли.
И этому она верила. Город жил, любил, и шел вперед. Родители заказывали на приданое мебель, а если мебель была от моего деда уста Мисака, это считалось хорошим приданым. Ленинаканки были изобретательны и они первыми придумали бюстгалтер. Они разрезали резиновые мячики и помещали в них свои ценности. Когда приходили в гости к родным, они вынимали их и оставляли сушиться. Мячей на все размеры выпускали достаточно, но это было неудобно и мужчины об этом не знали. Когда в дом приходил хозяин и находил разрубленные мячи, он кричал жене:
– Что это такое?
Она охала и говорила:
– Господи, он нашел сиськи Седы.
Ремесленники шли с работы домой, а у кого мастерские были дома, шли на рынок, чтобы купить продукты домой. Они не снимали своих фартуков, и продукты клали туда, а если места не хватало, они могли идти несколько раз.
Уста Мисак обязательно покупал сладости для детей своей улицы, и когда они его видели с прижатым фартуком, бежали к нему с криками: «Уста Мисак идет, уста Мисак!» Деда с отцовской стороны забрали в 37-ом и очень быстро расстреляли в Челябинске. Мне как-то не верилось, когда в 1987-ом году отец получил ответ на запрос о судьбе деда. Там было всего две строчки – решением тройки расстрелян такого-то числа. Их выгнали из дома, и они несколько дней жили на улице, пока не переехали в сарай, где их родственники держали коров, но это был наш сарай, потом он стал нашим домом, и он был в самом центре города. Брата моего отца взяли из института в армию в сороковом, хотя не должны были, потому что он был сыном врага народа. Он ушел с первого курса института в калошах. Бабушкин брат был сапожником, но он не дал ему обуви, и потом они не пускали их к себе, боясь органов. Отец покупал виноград на рынке, а потом шел в деревню и менял его на хлеб, пока не устроился работать на железную дорогу весовщиком и мог получать продукты. От дяди последнее письмо пришло из-под Харькова осенью сорок первого. О нем напоминала фотография и тар, который висел над моей кроватью с оборванными струнами. Это такой инструмент, которым аккомпанировали себе поэты. Он пришел к нам из Ирана. У дяди были хорошие стихи.
Мамин отец, мой дедушка, стал директором мебельной фабрики. У него было трое детей: старшей, моей матери, было девять лет, когда началась война, а младшему – четыре года. Он был очень высок, мой дед. У него рост был два метра. Их было три брата, младший стал военным летчиком и войну встретил на границе. Средний и старший занимались отцовским ремеслом. Они встретятся в Керчи, когда средний брат увидит, как идет колонна и над всеми возвышается мой дед, и он закричит, и они встретятся. Они оба не вернулись. Правда, мой дед после ранения приедет в отпуск. Он возьмет детей и выйдет, чтобы посмотреть на город. Около рынка из ресторанчика закричат ему – Ашик, зайди, выпей с нами! Он зайдет, лицо его побледнеет и он начнет крушить столы и кричать:
– Вы что, сволочи, там люди гибнут, а вы веселитесь!..
Он, наверно, должен был остаться, потому что у него было трое детей, ранение, но его крест чести и совести был поднят, ему оставалось на него подняться. Перед отъездом он сидел, смотрел на фикус и сказал жене:
– Ты знаешь, если фикус засохнет – это значит, что меня уже нет.
Через два года фикус начал засыхать. Его возили в Ереван в институт биологии, но не смогли спасти.
Бабушка бросила медицинский институт и стала работать медсестрой в районах. Она уходила на месяц или два, оставляя двоих детей на старшую, которой было десять лет, чтобы получать и привозить из деревень продукты.
Старшая играла на аккордеоне и вечерами ходила в госпиталь, чтобы играть для раненных. Когда закончится война, они с сестрой еще год будут ходить и встречать поезда. Каждый день с фотографиями своего отца, спрашивая у прибывших: «Вы не видели моего папу?»