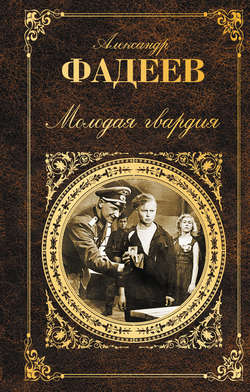Читать книгу Молодая гвардия - Александр Александрович Фадеев - Страница 14
Глава 13
ОглавлениеНадя Тюленина с той поры, когда фронт приблизился к Донбассу и в Краснодоне появились первые раненые, добровольно поступила на курсы медицинских сестер и вот уже второй год работала в военном госпитале, под который был отдан весь нижний этаж городской больницы.
Несмотря на то, что весь персонал военного госпиталя, за исключением врача Федора Федоровича, уже несколько дней как эвакуировался и большинство медицинских работников больницы, во главе со старшим врачом, тоже ушло на восток, больница продолжала жить прежним распорядком жизни. И Сережка и Витька сразу прониклись уважением к этому учреждению, когда их задержала в приемной дежурная няня-сиделка, велела обтереть ноги сырой тряпкой и ждать в вестибюле, пока она сбегает за Надей, работавшей в госпитале старшей сестрой.
Через некоторое время Надя в сопровождении няни-сиделки вышла к ним, но это уже не была та Надя, с которой Сережка беседовал ночью на ее кровати: на скуластеньком, с наведенными тонкими бровями, невзрачном лице Нади, так же как и на добром, мягком, морщинистом лице няни-сиделки, было какое-то новое, очень серьезное и строгое, глубокое выражение.
– Надя, – сминая в руках кепку и почему-то оробев перед сестрой, шепотом сказал Сережка, – Надя, надо же ребят выручать, ты же должна понимать… Мы бы с Витькой могли походить по квартирам, ты скажи Федору Федоровичу.
Надя некоторое время, раздумывая, молча смотрела на Сережку. Потом она недоверчиво покачала головой.
– Зови, зови врача или нас веди! – сказал Сережка, помрачнев.
– Луша, дай хлопцам халаты, – сказала Надя.
Няня-сиделка, достав из крашенного белой масляной краской длинного шкафа халаты, вынесла их ребятам и даже поддержала по привычке, чтобы удобнее было попасть в рукава.
– А хлопчик правду говорит, – неожиданно сказала тетя Луша, быстро жуя мягкими старушечьими губами, взглянув на Надю добрыми, на весь остаток жизни умиротворенными глазами. – Люди возьмут. Я б одного сама взяла. Кому ж не жалко ребят? А я одна, сыны на фронте, я да дочка. Живем на выселках. Немцы зайдут, скажу – сын. И всех надо упреждать, чтобы за родню выдавали.
– Ты их не знаешь, немцев, – сказала Надя.
– Немцев, правда, не знаю, зато своих знаю, – быстро жуя губами, с готовностью сказала тетя Луша. – Я вам укажу хороших людей на выселках.
Надя повела ребят светлым коридором, окна которого выходили на город. Тяжелый теплый запах гниющих застарелых ран и несвежего белья, запах, который не могли заглушить даже запахи лекарств, обдавал их всякий раз, как они проходили мимо распахнутой двери в палату. И таким светлым, обжитым, мирным, уютным вдруг показался им залитый солнцем родной город из окон больницы!
Раненые, оставшиеся в госпитале, все были лежачие, некоторые на костылях слонялись по коридору; и на всех лицах, молодых и пожилых, бритых и заросших многодневной солдатской щетиной, было все то же серьезное, строгое, глубокое выражение, что и у Нади и у няни Луши.
Едва шаги ребят зазвучали по коридору, раненые на койках вопросительно, с надеждой подымали головы, а те, что на костылях, безмолвно, но тоже со смутным оживлением в лицах провожали глазами этих двух подростков в халатах и идущую впереди них с серьезным и строгим лицом хорошо знакомую сестру Надю.
Они подошли к единственной закрытой двери в конце коридора, и Надя, не постучавшись, резким движением своей маленькой, точной руки распахнула ее.
– К вам, Федор Федорович, – сказала она, пропуская ребят.
Сережка и Витька, оба немного оробев, вошли в кабинет. Навстречу им встал высокий, широкоплечий, сухой, сильный старик, чисто выбритый, с седой головой, с резко обозначенными продольными морщинами на загорелом, темного блеска лице, с резко очерченными скулами и носом с горбинкой и угловатым подбородком, – старик был весь точно вырезан из меди. Он встал от стола, возле которого сидел, и по тому, что он сидел в кабинете один, и по тому, что на столе не было ни книги, ни газеты, ни лекарств, и весь кабинет был пуст, ребята поняли, что врач ничего не делал в этом кабинете, а просто сидел один и думал такое, о чем не дай бог думать человеку. Они поняли это еще и по тому, что врач был уже не в военном, а в штатском: в сером пиджаке, край воротника которого выступал из-под завязанного у шеи халата, в серых брюках и в нечищеных, должно быть, не своих, штиблетах.
Он без удивления и тоже очень серьезно, как Надя, как Луша и как раненые в палатах, смотрел на мальчиков.
– Федор Федорович, мы пришли помочь вам разместить раненых по квартирам, – сказал Сережка, сразу поняв, что этому человеку ничего больше говорить не нужно.
– А примут? – спросил тот.
– Найдутся такие люди, Федор Федорович, – певучим голосом сказала Надя. – Луша, няня из больницы, согласна взять одного и еще обещала людей указать, и ребята могут поспрошать, да и я им помогу, да и другие из наших краснодонцев не откажут помочь. Мы бы, Тюленины, тоже взяли, да у нас помещения нету, – сказала Надя и покраснела так, что румянец ярко выступил на ее маленьких скулах. И Сережка вдруг тоже покраснел, хотя Надя сказала правду.
– Позовите Наталью Алексеевну, – сказал Федор Федорович.
Наталья Алексеевна была молодым врачом больницы, она не выехала вместе со всем персоналом из-за одинокой больной матери, жившей не в самом городе, а в шахтерском поселке Краснодоне, в восемнадцати километрах от города. Поскольку в больнице еще оставались больные и больничное имущество, лекарства, инструменты, Наталья Алексеевна, стыдившаяся перед сослуживцами, что она никуда не едет и остается при немцах, добровольно приняла на себя обязанности главного врача больницы.
Надя вышла.
Федор Федорович сел на свое место у стола, решительным, энергичным движением откинул полу халата, достал из кармана пиджака табакерку и сложенную мятую старую газету, оторвал край газеты углом и, с необыкновенной быстротой действуя одной большой жилистой рукой и губами, свернул козью ножку, которую тут же набил махоркой из табакерки, и закурил.
– Да, это выход, – сказал Федор Федорович и без улыбки посмотрел на ребят, смирно сидевших на диване.
Он перевел глаза с Сережки на Витьку и снова обратил их на Сережку, как бы понимая, что он – главный. Витька понял значение этого взгляда, но нисколько не обиделся, потому что он тоже знал, что Сережка главный, и хотел, чтобы Сережка был главным, и гордился за Сережку.
В кабинет в сопровождении Нади вошла маленькая женщина лет двадцати восьми, но казавшаяся ребенком оттого, что в ее личике, ручках, ножках было то выражение детскости, мягкости и пухлости, которое так часто бывает обманчиво в женщине, заставляя предполагать сходный характер. Этими маленькими пухлыми ножками Наталья Алексеевна в свое время, когда отец не хотел, чтобы она продолжала образование в медицинском институте, проделала путь пешком из Краснодона в Харьков, и этими маленькими пухлыми ручками она зарабатывала себе на хлеб шитьем и стиркой, чтобы учиться, а потом, когда отец умер, на эти же ручки она приняла семью в восемь человек, и теперь члены этой семьи частью уже воевали, частью работали в других городах, частью были пристроены в ученье, и этими же ручками она бесстрашно делала операции, которые не решались делать и врачи-мужчины постарше и с большим опытом, и на детском пухлом личике Натальи Алексеевны были глаза того прямого, сильного, безжалостного, практического выражения, которому вполне мог бы позавидовать управляющий делами какого-нибудь всесоюзного учреждения.
Федор Федорович встал ей навстречу.
– Не трудитесь, я все знаю, – сказала она, приложив пухлые ручки к груди жестом, так противоречившим этому деловому, практическому выражению глаз и ее вполне точной и немного даже суховатой манере говорить. – Я все знаю, и это, конечно, разумно, – сказала она и посмотрела на Сережку и на Витьку без какого-либо личного отношения к ним, а тоже с практическим выражением возможности их использования. Потом она снова взглянула на Федора Федоровича. – А вы? – спросила она.
Он сразу понял ее.
– Мне выгоднее всего было бы остаться при вашей больнице как местному врачу. Тогда я и им смогу помогать при всех условиях. – Все поняли, что под «ними» он подразумевал раненых. – Это возможно?
– Это возможно, – сказала Наталья Алексеевна.
– В вашей больнице меня не выдадут?
– В нашей больнице вас не выдадут, – сказала Наталья Алексеевна, приложив к груди пухлые ручки.
– Спасибо. Спасибо вам, – и Федор Федорович, впервые улыбнувшись одними глазами, протянул свою большую с сильными пальцами руку сначала Сережке, потом Витьке Лукьянченко.
– Федор Федорович, – сказал Сережка, прямо глядя в лицо врачу своими твердыми, светлыми глазами, в которых стояло выражение: «Вы и все люди можете расценить это как угодно, но все-таки я скажу это, потому что я считаю это своим долгом». – Федор Федорович, имейте в виду, что вы всегда можете рассчитывать на меня и моего товарища Витю Лукьянченко, всегда. А связь с нами можно держать вот через Надю. И еще я хочу сказать вам от себя и от товарища моего, Вити Лукьянченко, что ваш поступок, что вы остались при раненых в такое время, ваш поступок мы считаем благородным поступком, – сказал Сережка, и лоб его вспотел.
– Спасибо, – сказал Федор Федорович очень серьезно. – Если уж вы заговорили об этом, я вам скажу следующее: у человека, к какой бы профессии он ни принадлежал, любой профессии, может сложиться такое положение в жизни, когда ему не только можно, но и должно покинуть людей, которые зависели от него или которых он вел и они надеялись на него, да, может сложиться такое положение, когда ему целесообразней покинуть их и уйти. Бывает высшая целесообразность. Повторяю, у людей решительно всех профессий, даже у полководцев и политических деятелей, кроме одной – профессии врача, особенно врача военного. Врач должен находиться при раненых. Всегда. Что бы там ни было. Нет такой целесообразности, которая была бы выше этого долга. И даже военная дисциплина, приказ могут быть нарушены, если они вступают в противоречие с этим долгом. Если бы мне даже командующий фронтом приказал оставить этих раненых и уйти, я не подчинялся бы ему. Если бы товарищ Сталин сказал мне: «Принимая во внимание создавшееся положение, вам разрешается уйти», я бы не ушел. Но он никогда не сказал бы этого, потому что он лучше всех понимает это. Он единственный человек на земле, который тоже при всех условиях не имеет права уйти, только он и военный врач… Спасибо, спасибо вам, – сказал Федор Федорович и низко склонил перед ребятами свою точно вырезанную на меди, с лицом темного блеска, седую голову.
Наталья Алексеевна молча прижала к груди пухлые ручки, и в практических глазах ее, обращенных на Федора Федоровича, появилось торжественное выражение.
На совещании в вестибюле, совещании, в котором участвовали уже только Сережка, Надя, тетя Луша и Витька Лукьянченко и которое было самым коротким за последнюю четверть века, так как оно заняло ровно столько времени, сколько требовалось для того, чтобы ребята сняли свои халаты, был намечен план действий. И, уже не в силах сдерживать себя, ребята пулей вылетели из больницы, и в глаза им ударил нестерпимый блеск июльского полдня. Неизъяснимый восторг, чувство гордости за себя и за человечество, необыкновенная жажда деятельности переполняли их существа до краев.
– Вот человек, это человек! Да? – сказал Сережка, возбужденно глядя на своего друга.
– Точно, – сказал Витька Лукьянченко и замигал.
– А я узнаю сейчас, что за человек прячется у Игната Фомина! – вдруг без всякой видимой связи с тем, что они испытывали и говорили, сказал Сережка.
– Как ты узнаешь?
– Я предложу ему принять в дом раненого.
– Продаст, – сказал Витька очень убедительно.
– Так я и сказал ему правду! Мне лишь бы в хату зайти, – и Сережка засмеялся, хитро и весело блестя глазами и зубами. Мысль эта уже овладела им настолько, что он знал – она будет осуществлена.
Он стоял возле двери мазанки Игната Фомина со склонившимися под окнами, толстыми, окружностью в сито, подсолнухами на отдаленной от рынка окраине Шанхая.
Долго никто не отзывался на стук, и Сережка догадывался, что его пытаются разглядеть через окно, и нарочно стал так близко к двери, чтобы его нельзя было увидеть. Наконец дверь отворилась. Игнат Фомин, не отпуская скобу двери, а другой рукой опершись о косяк, нагнув голову, – он был длинный, как червь, – с искренним любопытством смотрел на Сережку маленькими, глубоко поместившимися в разнообразных и многочисленных складках кожи серенькими глазками.
– Вот спасибо, – сказал Сережка и так спокойно, словно бы ему открыли дверь именно для того, чтобы он вошел, поднырнул под опершуюся о косяк руку Игната Фомина и уже не только был в сенях, но открывал дверь в горницу, когда Игнат Фомин, не успевший даже удивиться, двинулся за ним. – Извиняйте, гражданин, – уже в горнице сказал Сережка и покорно склонил голову перед Игнатом Фоминым, который стоял перед ним в клетчатом пиджаке, в жилете с тяжелой золоченой цепочкой на животе и в клетчатых брюках, заправленных в яловочные, начищенные ваксой сапоги, – длинный, с длинным благообразным лицом скопца, принявшим, наконец, удивленное и несколько даже гневающееся выражение.
– Что тебе надо? – спросил Игнат Фомин, приподняв редкие бровки, и многочисленные и разнообразные складки вокруг его глаз пришли в очень сложное движение, как бы стремясь расправиться.
– Гражданин! – неожиданно для самого себя и для Игната Фомина приняв позу члена конвента времен Французской революции, с пафосом сказал Сережка. – Гражданин! Спасите раненого бойца!
Складки вокруг глаз Игната Фомина мгновенно прекратили свое движение, и глаза, направленные на Сережку, остановились, как кукольные.
– Нет, не я ранен, – сказал Сережка, поняв, что привело Игната Фомина в этакий столбняк. – Бойцы отступали, оставили раненого прямо на улице, аккурат возле рынка. Мы с ребятами увидели – и прямо к вам.
На длинном благообразном лице Игната Фомина вдруг отразились знаки многих обуревавших его страстей, и он невольно покосился на затворенную дверь в другую горницу.
– Почему же, однако, прямо ко мне? – снизив голос до шипения, спросил он, со злостью вонзив глаза свои в Сережку, и складки вокруг глаз снова пришли в нескончаемо-сложное движение.
– К кому же, как не к вам, Игнат Семенович? Весь город знает, что вы у нас первый стахановец, – сказал Сережка, с необыкновенно чистыми глазами, беспощадно вонзая в Игната Фомина это отравленное копье.
– Да ты чей? – все больше теряясь и приходя во все большее удивление, спросил Игнат Фомин.
– Я сын хорошо известного вам Прохора Любезнова, тоже стахановца, – сказал Сережка с тем большей решительностью, с чем большей вероятностью он знал, что никакого Прохора Любезнова не существует на свете.
– Прохора Любезнова я не знаю. И вот что, братец мой, – придя в себя и суетливо и бестолково задвигав длинными руками, сказал Игнат Фомин, – у меня и места нет для твоего бойца, и жинка у меня больная, и ты, братец, тово… это… – Руки его, хотя и не вполне ясно, задвигались в сторону входной двери.
– Довольно странно, гражданин, вы поступаете, когда всем известно, что у вас есть вторая комната, – с осуждением в голосе сказал Сережка, в упор глядя на Фомина прозрачными, детскими, дерзкими глазами.
И Фомин не успел еще сделать движения или хотя бы испустить звук, как Сережка шагом, не очень даже торопливым, подошел к двери в соседнюю горницу, отворил дверь и вошел в эту горницу.
В этой горнице с полуприкрытыми ставенками, уставленной мебелью и фикусами в кадках, чистенькой и аккуратно прибранной, сидел у стола человек в одежде мастерового, с круглыми сильными плечами, крепкой крупной головой, стриженой, с проседью, и лицом в темных крапинах. Он поднял голову и очень спокойно посмотрел на вошедшего Сережку.