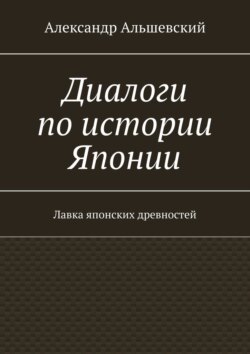Читать книгу Диалоги по истории Японии. Лавка японских древностей - Александр Альшевский - Страница 3
Диалоги по истории Японии
Диалог второй. Кэгарэ, онрё, котодама… (скверна, духи, слова…)
Оглавление– Японские самураи теперь у всех на слуху. И фильмы про них, и книги, и кодекс чести «Бусидо». А откуда они взялись и почему, ты не задумывался?
– Хэйанские аристократы не справились с обязанностями, поэтому появились люди, готовые с оружием в руках защищать и себя и свое имущество. В общем, имелись причины и экономические и политические. Так наверное…
– Мыслишь в правильном направлении. Однако историю и человека в ней создают не только экономика с политикой. В не меньшей степени, если не в большей, на ход событий влияет религия, вернее, религиозная мистика, затрагивающая души людские. В душах же японских коренится отрицательное отношение к армии, солдатам, оружию, переходящее порой в прямое отвращение, что нередко проявляется и сейчас. Все чаще раздаются голоса о роспуске сил самообороны, о неконституционности их существования, т.е. армия – сплошное зло, с которым пора кончать. Конечно, хорошо так рассуждать, когда за спиной Америка маячит.
– Не связано ли это с последствиями произвола японской военщины?
– Такой ответ вполне бы устроил многих, однако имеется более серьезная причина, скрытая минувшими тысячелетиями. Называется она кэгарэ – загрязнение, скверна, нечистота. Мысль о загрязнении укоренилась в японцах на подсознательном уровне.
– Неужели солдаты грязнее нас с тобой? Я в японской армии не служил, но думаю, даже уверен, в казармах там чистота и порядок, как и везде, впрочем. Куда-то не туда ты загнул.
– Изгаляйся сколько угодно, твое право, но прежде осознай простую вещь. Преступления, несчастья, ошибки все это у них считается загрязнением, творимым злыми духами. Это крайне важное понятие во многом определяет как ход событий в целом, так и поведение индивидуума в частности. Пойми, речь идет не о чистоте в смысле гигиены тела, но о гигиене души. Я имею в виду возникающую, к примеру, при прикосновении к трупу, ритуальную нечистоту, которая является некой не поддающейся рациональному объяснению и, само собой, не улавливаемой человеком духовной эманацией, захватывающей в свое поле всех, кто соприкасается со смертью. Ритуальная нечистота недоступна рациональному восприятию, разуму сложно ее постичь. Остается лишь одно – четко следовать указаниям, которые даны по поводу очищения. Кем даны? Религиозно-мистическим опытом борьбы с этим явлением. Одни стараются не загрязниться, другие надеются с помощью образования скинуть этот дурман, а третьи – ищут по близости что-то похожее на микву, так иудеи называют водоем с проточной водой или бассейн с дождевой. Натуральность – вот главный принцип миквы. Коснулись воды людские руки или стенки трубопровода, будь он хоть из золота – все, конец, ее магическая сила исчезает бесследно. Для мытья с мылом и мочалкой вполне сгодится, но для ритуально очищения – никак, и не надейся. Христианский обряд крещения – ни что иное, как окунание в микву для очищения ради новой жизни. Причем погружаться надо полностью с головой, чтобы ни к одной волосинке загрязнение не прилипло, иначе весь труд насмарку. Франц Кафка не менее раза в неделю залезал в микву, надеясь на подзарядку духовной энергией. Еще, говорят, соль помогает. Побросал на оскверненное место и оно очистилось, вроде бы.
– Как-то абстрактно все, с еврейским уклоном. Нельзя ли поконкретнее, ближе к японцам?
– Принято считать, они не очень религиозны и в массе предпочитают форму, но никак не содержание. Если так было бы на самом деле, за сто пятьдесят лет свободы вероисповедания число христиан перевалило бы за тридцать, а то и сорок процентов. Сейчас же таковых в Японии не более пары процентов, в соседней же Корее – процентов двадцать наберется.
– Значит, они менее религиозны, только и всего.
– Вряд ли. Если под религией понимать совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа, которые являются предметом поклонения, то японцев следует отнести к глубоко религиозным людям. И вера их держится на трех китах: кэгарэ – загрязнение, ритуальная нечистота; онрё – озлобленные духи и котодама – магия слова. Многие из них, особенно молодые, путая кэгарэ с похожим словом ёгорэ, также означающим загрязнение, считают, то и другое имеют одинаковый смысл, просто первое – старое, устаревшее, а второе – современное. Вот и вся разница! Оказывается, не вся, далеко даже очень не вся.
– И в чем разница?
– Прежде всего, ёгорэ можно увидеть. Что-то пролил на пол, и сразу понятно, где и насколько испачкано. Захотел, взял тряпку и протер. И опять чистота! Или, скажем, заляпал брюки. Какого цвета и размера пятно, заметно каждому. Когда загрязнение невидимо, на помощь придут приборы. Возьмем атмосферный воздух. Сколько там окиси углерода на глаз не прикинешь, но замерить сможешь. Плевое дело! С радиоактивным загрязнением тоже самое. Не заметишь, как ни старайся, но определить сколько там миллизивертов вполне по силам. Физика не стоит на месте. А вот кэгарэ, ритуальную нечистоту, ни в миллизивертах, ни в сантиметрах не измеришь, даже в килограммах не взвесишь. И не пытайся, только время попусту потратишь, ибо нет таких приборов и не предвидится, хотя, может быть, пока нет. Впрочем, почувствовать, ощутить ритуальную нечистоту на духовно-эмоциональном уровне вполне возможно. Если же сознание, смачно удобряемое научно-техническим прогрессом и атеистической пропагандой, вдруг взбрыкнется, то на помощь придет подсознание, которое нередко оказывается в плену иррационально-метафизического восприятия мира. И убеждать японца в существовании ритуальной нечистоты не нужно, он просто знает про это без всяких объяснений. Предположим, молодой журналист поступил на работу в региональную телекомпанию. Как водится, купил чашку и отнес на тамошнюю кухню, где над ней пришпилили табличку с его именем, все как положено. Вот как-то по обыкновению девушка приносит чай, но не в его чашке, причем не новой. «А что с моей то?», спрашивает журналист с игривой улыбкой. «Извините, случайно разбила, поэтому налила чай в другую. Хозяину она больше не понадобиться, недавно скончался бедняга». Игривая улыбка на лице журналиста мигом сменилась гримасой отвращения, перемешанного с ужасом. Видя это, девушка не на шутку разнервничалась: «Не волнуйтесь так, я ее вымыла тщательно, да еще прокипятила, она совершенно чистая». Тем не менее, журналист наотрез отказался воспользоваться чашкой усопшего коллеги, попросив принести чай в одноразовом пластиковом стаканчике. Почему это, интересно? Или вот еще случай. Живут в одной квартире отец и дочь, заботливый отец и почтительная дочь. Летним вечером он подходит к ней и протягивает палочки: «Ими я пользовался двадцать лет. Теперь же хочу подарить тебе, пользуйся на здоровье и вспоминай меня!». Как должна, по-твоему, отреагировать почтительная дочь на подобный подарок?
– Ну, поблагодарить, наверное, спасибо, мол, и все такое.
– Спасибо он вряд ли дождется, скорее всего нарвется на вежливый, но категорический отказ. Если же примется настаивать, услышит в ответ: «Они же нечистые!». Отец не унимается: «Я же обдал их кипятком, никакой грязи нет. Хоть под микроскопом проверяй, ни одной бактерии не найдешь». Однако дочь упрется и не примет подарок. Микроскопы перед такой грязью бессильны, а вот подсознание видит, точнее, чувствует ритуальную нечистоту. Сила веры порой творит чудеса… Это как во сне. Снится ужасный тигр, который приближается, скаля клыки. Страшно, пятишься назад, пот градом. В реальности никакого тигра нет, только кровать и ты в ней, но сознание бьет в колокол, пытаясь предупредить об опасности. Так и с ритуальной нечистотой. Вроде бы и нет, но ты ее буквально кожей ощущаешь и инстинктивно пытаешься уберечься. Считается, что западники – закоренелые индивидуалы, а вот японцы сплошь пронизаны духом коллективизма. Вместе работают, вместе отдыхают, однако из одной плошки щи хлебать вряд ли захотят. У каждого дома имеются личные палочки, пиала, чашка. Это у иностранцев не отыщешь папин нож или мамину тарелку, посуда общая. Они не заморачиваются ритуальным загрязнением, главное – что бы не было физического.
– А когда японцы озаботились загрязнением этим?
– По всей видимости понятия ритуальной нечистоты, озлобленных духов и магии слова засели в мозги человеческие одновременно с заселением японских островов, оказывая значительное влияние на поведение и образ мышления заселенцев. Кэгарэ довольно часто упоминается в древнейшей их книжке – «Кодзики». Больше всего они уважают богиню, олицетворяющую солнце – Аматэрасу, которой поклоняются в Исэ дзингу. Ну, это ты наверняка знаешь. А про отца и мать слышал?
– Богини этой? Разумеется! Отец – бог Идзанаги, мать – богиня Идзанами.
– Родные брат и сестра между прочим.
– Выходит, Аматэрасу – дитя инцеста, так что-ли?
– Чему тут удивляться? Заурядное явление для божественных времен. Я совсем о другом. Боги эти, вставляя одно место, что у него слишком выросло, в то место, что на ее теле не выросло, нарожали кучу островов. Закончив же с рождением страны, в географическом смысле слова, принялись рожать богов. И Мужа Великого Деяния сотворили, и Юношу – Бога Каменистой Земли и т. д. и т. п. Всего тридцать пять богов на свет произвели. Еще у них там из блевотины появились боги и богини, из испражнений, из мочи. Трудно нам все-таки представить рождение божества из говна, но восток – штука тонкая, тем более дальний.
– Зачем ты это рассказываешь?
– Потерпи, послушай, что дальше произошло. Все шло хорошо, пока Идзанами не родила Бога – Мужа Обжигающего и Быстрого Огня. Опалив лоно, она слегла от болезни. Понятно, огонь то быстро обжигающий, от него не увернешься. Помаялась, помаялась бедняжка, да и удалилась.
– Куда удалилась? Она же обожженная!
– Это же иносказательно…, короче говоря, умерла. Идзанаги, мучимый тоской по любимой, отправился в Страну желтых вод, т.е. место, куда уходят мертвые. Нашел ее там и призвал вернуться, ибо страна еще не до конца создана, много работы впереди. Однако Идзанами уже отведала пищи с очага Страны желтых вод и не могла вернуться в мир живых.
– Почему, интересно?
– Это у нас, случается, отведаешь пищи деревенской из печки, и спать завалишься на нее же. Красота! И для здоровья полезно. В Стране же Желтых вод одни мертвые собираются, а смерть – самая большая нечистота. Нечист и огонь очага, поэтому оскверненной Идзанами из мрака смерти на свет жизни путь заказан. Так у них заведено. Несмотря на строгий запрет жены, Идзанаги страшно захотелось взглянуть на нее, напоследок, так сказать. Выдернул толстый зубец из священного сияющего гребня, вошел в покои и взглянул. Лучше бы он этого не делал! У нее в теле несметное количество червей копошилось, а в голове, животе и прочих местах восемь богов грома сидели. Страстная любовь вмиг остыла, сменившись паническим страхом. Идзанами бросился бежать, Идзанами – за ним, ибо муженек ей стыд причинил. В конце концов ему удалось выбраться в светлый мир. Отдышавшись, он произнес: «Я в нечистой скверне-стране побывал. Совершу очищение». И погрузил тело в чистую воду реки Татибана, что в Цукуси, т.е. совершил, по-японски выражаясь, мисоги. Значит, уже в те времена существовало поверие, что, погрузившись в проточную воду, можно смыть загрязнение.
– Эка невидаль! Я и не сомневался, вода – всему голова. И стоило ради этого чуть ли не полностью пересказывать «Записи о деяниях древности»?!
– Стоило! И с точки зрения повышения образовательного уровня и… Нет, лучше послушай, что дальше вышло. Когда Идзанаги промывал левый глаз, явилась Аматэрасу – Великая священная богиня. Иначе говоря, самая главная богиня японская родилась не в результате заурядного полового контакта, а из глаза очищенного Идзанаги, который сначала весь омылся, потом уже для верности промыл и глаз, как бы наглядно демонстрируя, чистота – прежде всего! И беречь ее надо всячески, прежде всего, от скверны смерти.
– И каким же, интересно, образом?
– Ты не задавался вопросом о причине постоянных переносов столицы в древней Японии?
– Нет, как-то руки не доходили. Может, подскажешь…
– Столицами числились и Нанива и Асука и Фудзивара. Кобэ также выполнял эту функцию, правда, тогда его называли Фукухара – город-мечта Тайра Киёмори. В общем, скончался император, пора менять императорский дворец. В прежнем жить уже нельзя, поскольку тлен смерти заражает всех и все вокруг ритуальной нечистотой. А где дворец императора – там и столица, логика железная. Конечно, это не Токио переносить, масштабы совершенно иные, что-то вроде переноса сельской управы в реалиях сегодняшнего дня. На новом месте все надо возводить с нуля и дворец и казенные учреждения и аристократические хоромы, да и чиновничий люд где-то расселять требуется. Причем, использованное, из старой столицы которое, применять нельзя – осквернено, и лучше всего разобрать и жечь для надежности, чтобы без эпидемий, значит. Относились к столице как к одноразовой штуковине, попользовался и выбросил. А это огромными затратами сопровождалось. Китайцы с корейцами, греки и месопотамцы всякие подобным переносом не злоупотребляли, не бросали денег на ветер, хотя и побогаче считались. У них свои заботы, не до нелепостей, впрочем, древние японцы вряд ли полагали борьбу с осквернением смертью нелепостью. Им чуть-что новую столицу подавай. А ведь Япония никогда не числилась богатой в те далекие времена, разумеется, скорее наоборот. И нате вам – немыслимое расточительство, казавшееся непосильным даже для такой сверхдержавы, как Китай. Объяснить это можно только одним – страшной боязнью осквернения смертью. Следует учесть, у японского императора все должно быть самым-самым, в том числе и загрязнение. Больше него никто загрязнить что-нибудь не мог. Как же иначе?! Представь, пошли слухи, палаты правого министра такого-то осквернены тленом смерти посильнее императорских. Высочайший авторитет окажется под ударом. Можно, конечно, распустить новые слухи, мол, вместе с правым умер и левый министр, да еще пара дайнагонов в придачу, но поможет или нет… Надежнее всего, убедить всех, что после смерти императора столица превращается в запретную зону, в своего рода Чернобыль. Загрязнения не видно, но жить нельзя. Я тут прикинул, не менее сорока раз переносилась столица!
– Боялись осквернения, говоришь. Почему тогда после обустройства столицы в Наре с переездами поостепенились?
– Нашелся человек, попытавшийся остановить вакханалию новоселий, крайне отрицательно сказывающуюся на экономике страны. Я имею в виду императрицу Дзито, которая завещала кремировать себя.
– Эка невидаль, вполне заурядная вещь.
– Это сейчас японцы спокойно относятся к кремации, но тогда и слышать про нее не желали. Хоронить, мол, надо в земле и все дела. Так что поступок Дзито выглядел довольно революционным, многими воспринятым с непониманием. Однако новая религия, буддизм, постепенно овладевавшая сердцами японцев, сумела внушить им, что кремация не такая уж плохая вещь. Встречу же со скверной смерти лучше поручить буддийским монахам. По их воззрениям смерти нет, одни перерождения. А чего бояться того, чего нет! Благодаря такому подходу вероятно и зародилась идея строительства по примеру Китая постоянной столицы. Стоявшая же на пути ее реализации проблема загрязнения смертью решилась с помощью буддийских технологий.
– Не преувеличиваешь ли ты роль загрязнения? Не путаешь ли частное мнение с общественным?
– Мнение, говоришь. Так это не мнение, а факт. И спорить тут не надо. Просто осознай его и прими к сведению. Понятнее будет, почему стерилизованным почти на сто процентов папиным палочкам обычный японец предпочтет пусть и не такие чистые варибаси, т.е. надпиленные палочки для еды, расщепляемые на две перед употреблением. Пережиток старины? Вполне вероятно, но что есть, то есть. А кто сказал, что пережиток это всегда плохо? Возьмем ту же веру в магию слова – котодаму. Именно она породила бережное отношение к национальному языку. Именно она позволила создать гордость японцев – «Повесть о Гэндзи». И когда? Аж в одиннадцатом веке! Подобное оказалось не по силам ни Китаю, ни Корее, которые по цивилизационной лестнице вскарабкались повыше каких-то затерянных островов.
– Выходит, ритуальное загрязнение – штука серьезная. Из-за нее и одноразовые палочки появились и одноразовые столицы…
– Если бы только палочки… Концепция загрязнения породила такое отвратительное явление, как дискриминация. Во времена реставрации Мэйдзи среди прочего власти легализовали свободу вероисповедания. В страну хлынули миссионеры, не понаслышке знакомые с дискриминацией расовой и религиозной. В Японии подобное исключено, искренне полагали они. Действительно, откуда ей взяться то? Все говорят на одном языке, у всех одинаковый цвет кожи и глаз, да и религиозная вера у всех одна, то ли буддизм, замешанный на синтоизме, то ли наоборот, но одна, это точно. Однако идиллический настрой христианских первопроходцев вмиг испарился, когда они столкнулись с тамошними реалиями. Неожиданно выяснилось, что в Японии существуют что-то навроде белых негров, называемых эта, сильно загрязненные в вольном переводе, значит. Даже огонь в их сигарете или домашнем очаге считается оскверненным. Понимаешь, до чего они докатились в неприятии белых негров?! Берет человек в руки кусок кожи, скажем, обувку какую сварганить или барабан, а, может, и сямисэн. Помнишь, у сямисэна три струны, играй себе, играй… Вещи нужные и полезные, но тому, кто эту пользу сотворяет, все, конец, соприкоснулся со скверной смерти, поскольку кожу надо содрать с животного, да еще убитого. Предусмотрительные люди станут обходить его за версту, остерегаться. И их можно понять. Ведь с детства родители постоянно напоминали об опасности этой скверны, которая к тому же как бы и заразная. Короче говоря, понятие скверны, ритуальной нечистоты, с молоком матери впитывается японцами и проходит через всю их жизнь. Это как у нас. Увидел черную кошку, отойди в сторону или, по крайней мере, плюнь три раза через левое плечо. Пережиток старины глубокой? Бесспорно! Но лучше все-таки плюнуть, для надежности. Может, все это действительно суеверие и перегибы на местах, а, может, и нет… Для общего спокойствия труженикам нечистых профессий предписали селиться особых поселках, бураку называется, а кто в них живет – буракумины значит.
– Интересно получается. Буракумины эти занимаются скверной деятельностью, хотя и весьма даже полезной. Куда, скажи на милость, народу деваться без кожгалантерейных товаров?!
– А много ты знаешь японских кожгалантерейных брендов? Я не про всякие там Шарпы и Тоёты. Вот, скажем, существуют русские народные промыслы, т.е. своеобразная форма народного творчества, в которой отчетливо прослеживаются русские традиционные нравы, зародившиеся века назад. Есть, к примеру, керамика Гжели, Жостовская роспись, Палехская миниатюра, Вологодское кружево, тот же Оренбургский пуховый платок. Имеется нечто похожее в Японии? Что известно тебе про бренды японских народных промыслов?
– Сони, Ниссан, Мацусита… Хотя вряд ли их можно отнести к народноремесленным брендам. Нет, что-то не припоминаю. Может, вовсе и нет таких?
– Тут ты ошибаешься. Таких брендов полным полно. Ткани Нисидзинъори, Юдзэндзомэ, фарфор и керамика Бидзэнъяки, Сэтояки, Имарияки, лаковая миниатюра Вадзиманури. Это только то, что сразу приходит в голову, но есть и другие бренды, высокоценимые как местными, так и иностранными любителями изящного искусства. С кожевенным же ремеслом все обстоит несколько иначе. Везде, в том числе и в Японии, на слуху Луи Виттон, Феррагано, Гуччи и т. д. Спрос на портфели, кошельки, ремни и прочие изделия из натуральной кожи не спадает. Номер один в японском рейтинге кожаных брендов – WILD SWANS. Но кто про него хоть что-нибудь знает? Про британскую панк-группу знают, про роман «Дикие лебеди» писательницы Юн Чжан знают, а вот про диколебединский портфель вряд ли. Есть еще Cocomeister, Ganzo, Indeed… Что, не дотягивают до международного уровня? Не думаю. Скорее, даже перетягивают. А вот с раскруткой произошла задержка, связанная с давнишней неприязнью к кожевенных дел мастерам. Слишком уж они по японским понятиям загрязнились, ни в какой реке не отмоешь от скверны. Конечно, в Японии уже давно ведется кампания по дедискриминации этой части населения, говоря современным языком – положительная дискриминация «загрязненных», суть которой сводится к «Ребята, давайте жить дружно». Несмотря на серьезные успехи государственных и общественных организаций на этом пути, до полной ликвидации этого позорного явления еще далеко. Даже сейчас иногда и, естественно, не в нашем районе жениха или невесту проверяют на чистоту происхождения – не ведут ли их родовые корни куда-нибудь за быструю речку, где селились эта. Да и кадровики нередко сверяют данные поступающих на работу со списками бывших этавцев, которые можно приобрести на черном рынке. Уж не из баракуминов ли новичок?!
– С кожей, похоже, разобрались. Сплошное расстройство для чистой души японца. А вот как с мясом быть? Прежде чем из него сделают прекрасную отбивную говяда, что уж тут скрывать, придется убить. Или посредством еврейской шхиты или просто кувалдой по лбу, разницы никакой, скверны смерти не избежать. Скажем, пришел ты в обеденное время в ресторан и заказал «якинику тэйсёку», что-то вроде комплексного обеда с жареным мясом. Тарелки, поднос, рис, салат, мисосиру и мясо, говядина или свинина – все равно. Глядишь на эту красоту и видишь… останки убиенного животного со всеми вытекающими последствиями. Аппетит вмиг пропадает и удивленный официант по твоему требованию уносит заразу на кухню. Так что ли?
– Вряд ли! Типичный японец наверняка с удовольствием слопает сочный бифштекс. Они вообще, по-моему, всеядны и отсутствием аппетита не страдают в массе своей, конечно. Мы же, как я считаю, беседуем не о частных случаях, но о тенденциях, закономерностях, так сказать. Закономерности – штука переменчивая. Вчера – одни, сегодня – другие, а завтра, тем более послезавтра – не пойми какие. Сейчас к мясу отношение нормальное, если не сказать больше. И в древности его не чурались, с удовольствием потребляли кабанину и оленину. Если же удавалось, то и слона Науманна в яму загоняли. А это уже праздник для целой деревни. Однако праздников на всех не хватало, поэтому приходилось в основном каштанами, желудями, грецкими орехами и прочими дарами растительного мира перебиваться, в общем, довольствоваться тем, что под руку или под ногу попалось. Одни же коренья – кому в радость, мясца хотелось и старому и малому. Взоры недовольных обратились в сторону деревенских и племенных вождей, почему, мол, не обеспечивают население мясом? Вопрос, разумеется, резонный, но к тому же сложный и довольно трудоемкий. Кабаны, олени и прочая живность не спешили плодиться, да и слоны куда-то подевались. В попытках найти ответ на этот вопрос в чьем-то мозгу, несомненно, подкрепляемом мясом, возникла оригинальная идея перевести его, вопрос этот, из конкретного и бытового, в неконкретный и эмоционально-чувственный. Мол, съешь мясо да еще с кровью, загрязнишься, превратившись в ритуально-нечистого со всеми вытекающими последствиями, список которых прилагался для особо любопытных. Разворачивалась ряженая в одежды ритуальной нечистоты массовая кампания по дискредитации мясной пищи в умах человеческих, сильно ослабленных дефицитом таковой. Борьба на этом фронте шла ни шатко ни валко, кто-то верил, кто-то нет, ну а большинство, как водится, затаилось в ожидании дальнейшего развития событий. И тут, очень даже кстати, появляется буддизм с полным неприятием убиения живых существ. Великий грех и точка. Новая религия победоносно зашагала по стране, правда, не очень быстро, иногда приходилось и притормаживать. Старое с превеликим трудом уступало новому. Как же так, неужели нельзя перекусить свеженькой медвежатиной, запивая кровью?! Думаю, где-нибудь на Хоккайдо продолжали освежевывать медведей и лакомиться их кровью, втихаря, само собой, хоть и не часто, но в «Праздник медведя» – непременно, это уж как водится. А на Окинаве до сих пор не забыт китайский обычай подлечиться кровью. Так или иначе, но императору Тэмму пришлось, вступившись за буддизм, издать в 675 г. указ о запрете убиения живых существ и потребления мяса.
– Я слышал, в Китае и Корее никто не запрещал вкушать мясное, а ведь там тоже буддизм процветал. Почему бы это?
– Трудно сказать, вероятнее всего свою роль сыграл синтоизм, которым в этих странах и не пахло. Кстати, под запрет попало не мясо в целом, а только говядина, точнее, буйволятина, конятина, собачина, обезъянина и курятина, т.е. несъедобным стал домашний скот, полезный как по жизни вообще, так и по возделыванию риса в частности. Диких животных это табу не касалось. Того же кабанчика поесть можешь, а вот буйвола не трожь, иначе рискуешь без риса прокуковать на одном скоромном, значит. Постепенно утверждавшееся в сознании людей понятие ритуальной нечистоты резко тормозило прогресс мясоедения. Подобное издевательство, по мнению некоторых, над нутром человеческим продолжалось довольно долго, продолжилось бы наверняка и дальше, если до кого-то вдруг не дошло, да, для услады желудка поедание мяса сплошное непотребство, грязь все-таки, а вот для лечения больного, поддержания его духа – вполне допустимо. В эпоху Эдо открылись первые здравницы, в которых «больных» лечили кабаниной и олениной, медвежатиной, зайчатиной, иногда и говядиной пользовали, правда, тайком, без особого шума. В 1872 г. император Мэйдзи отменяет указ своего коллеги Тэмму, ставя точку в тысячадвухсотлетней истории запрета мясной пищи. Говорят, император, подавая пример, лично соизволил публично откушать чего-то скоромного. Понравилось ему или нет, не знаю. Скорее всего, эта дегустация представляла собой официальную церемонию, своего рода обряд перехода от феодализма к капитализму. Оковы самурайской изоляции были сброшены и Японию ожидали грандиозные перемены. Стоит отметить, далеко не все подданные с энтузиазмом одобрили высочайшее поведение. Через месяц после церемонии во дворец ворвались десять человек в белых одеждах, символизирующих ритуальную чистоту. Они так буйно выражали недовольство попранием традициями предков, что четырех из них пришлось застрелить. Правительство наглядно и убедительно продемонстрировало незыблемость намерений поставить старый паровоз Японии на новые рельсы прозападного развития. А какое развитие без мяса?! И за стол американских гостей не пригласишь, и мозги не подкормишь для правильного восприятия нового и необычного. В общем, кто не ест гюнабэ, тот останется цивилизационно отсталым, темным, значит.
– Что за гюнабэ такое?
– Это когда наложат в кастрюлю мяса, лука, тофу, приправ разных для вкуса, сварят и едят. Вернее, еще все булькает, а ты подцепляешь мясо палочками, окунаешь в соус с сырым яйцом, например, и в рот. Вкуснотища! Тем не менее мимо гюнабэйных горожане старались пройти побыстрее, чуть ли не бежали вприпрыжку, зажав нос и закрыв глаза, боясь подхватить заразу какую. Место, где разделывали тушу, окружали симэнавой, срезался только верхний слой мяса, расположенный близко к коже, а основную же его часть закапывали поглубже в землю; читались очищительные молитвы; утварь для приготовления мяса выбрасывалась после использования, т.е. считалась одноразовой; кухонная плита вытаскивалась в сад, а если мясо ели в доме, дверцы божницы заклеивались бумагой.
– К чему такие сложности?
– За столетия пропаганды вреда и опасности загрязнения в подсознании людей укоренилась тревога и чувство вины при употреблении чего-то запретного, чуть ли не всех поразила своеобразная нервная орторексия – есть надо только полезное для здоровья, а полезно то, что является ритуально чистым. Болезнь эта лечится не скоро, поэтому народ и пускался для притупления ее приступов на понятные и эффективные с его точки зрения ухищрения. В целом же можно с уверенностью сказать, в гюнабэйных этих поперву кукушка куковала от тоски и безысходности бизнеса. Однако время и старания сторонников мясоедения делали свое дело. Не прошло и ста лет как японцы, напрочь позабыв о ритуальном загрязнении, стали наслаждаться «Кобэ бифу», которое смело можно отнести наряду с черной икрой, фуагра и белыми трюфелями к кулинарным изыскам мирового уровня, как по вкусу, так и по цене. Замечательная, скажу, вещь, а как назвать по-русски ума не приложу. Возьмем бифштекс по-техасски. Звучит? Еще как! Салат по-ленинградски – тоже неплохо. А вот бифштекс по-кобэсски или кобэсский бифштекс на слух воспринимается как-то неоднозначно. Лучше наверное а ля Кобэ бифштекс или, может, бифштекс а ля Кобэ…
– Что это за штука твой а ля?
– Бифштекс или, если хочешь, говяжий стейк из мяса черных коров из Тадзимы, так называемого мраморного мяса. Раньше Тадзима являлась целой провинцией, нынче же – всего лишь северная часть префектуры Хёго.
– Тадзима, Хёго, а причем здесь Кобэ то?
– Напомню, в 1868 г. первым для иностранцев открыли порт Кобэ. Исполнилась наконец-то сокровенная мечта Тайра Киёмори… Ну, ладно, отвлекаться не буду. В те времена мясоедение находилось в полном отстое. Как готовить, как есть никто не представлял, поэтому за это дело пришлось взяться англичанам, которым без жареного стейка да еще с кровью никак нельзя. Перепробовали они массу говядов, но вкуснее всего им показались из Тадзимы. И пошло, поехало… Доехало до того, что в 2009 г. американский президент Обама, готовясь к визиту в Японию, по дипломатическим каналам выразил желание попробовать «Кобэ бифу» и тунца, однако про него как-нибудь потом, при случае. Не знаю как президенту, но тебе в Кобэ ланч с тадзимской говядиной в сто пятьдесят грамм обойдется где-то в три тысячи йен. Пожарят на металлической плите прямо перед тобой, сможешь наблюдать процесс от начала до конца. Не пожалеешь! Заодно сравнишь ихнее мраморное мясо с нашим, отечественным, тем же воронежским.
– Не обманут? Вдруг подсунут контрафакт какой?
– Зря опасаешься. За японцами подобного не водится. Но если пожелаешь, принесут шмот мяса, покажут штамп в виде японской хризантемы – символом префектуры Хёго, и при тебе же отрежут порционный кусок.
– Я, прямо скажу, хризантему японскую в глаза не видел.
– Наподобие ромашки нашей, разберешься.
– Занятные люди японцы. Бифштекс с удовольствием лопают, на тех же, кто это удовольствие обеспечил, поглядывают с презрением.
– Насчет презрения ты переборщил. Многие, особенно среди молодежи, поди уже и позабыли про ритуальное загрязнение, но, попадая в определенную ситуацию, сразу вспоминают рассказы бабушек и дедушек. Что-то у них срабатывает в мозгах или в подсознании, вызывая вспышку необъяснимой тревоги. Даже самые продвинутые, если что, и через левое плечо три раза плюнут, и по дереву три раза постучат, и девушка не сядет на углу стола.
– Как у нас поступают что-ли?
– Да не про форму я говорю, про содержание. Может, они плюют не через левое, а через правое плечо, и не три, а четыре раза. А содержание поступков, их внутренний подтекст, так сказать, одно и тоже – отогнать тревогу. Предположим, собралась японская семья за столом, время ужина. Все весело болтают, с нетерпением поглядывая на чашу с рисом и отбивную, дымящуюся на тарелке. Вдруг наступает тишина и глава семейства торжественно произносит: «Рис на нашем столе – кристаллизовавшийся пот крестьян. Скажем им спасибо и насладимся результатами их нелегкого труда».
– Вполне реальная картина. Крестьяне, действительно, немало потрудились и заслужили благодарности.
– А те, кто забивал корову, сдирал шкуру, сливал кровь, разделывал тушу? Без них вряд ли бы на столе появилась отбивная.
– И здесь без благодарности не обойтись!
– А вот японцы обходятся. Им и в голову не придет благодарить работников скотобойни. От них же скверна одна, какие тут благодарности. Да и не принято как-то…
– Чертовщина какая-то. Одним – спасибо за труд со слезами на глазах, других же загоняют в спецпоселения, презрительно называя эта. А ведь и те и другие создают общественно-полезный продукт, принадлежат к одной расе и говорят на одном языке. Чудеса!
– Действительно, чудеса. Долго ли они будут продолжаться? На этот вопрос удовлетворительный ответ еще не найден, и вряд ли найдется в ближайшей перспективе.
– Интересно, есть ли еще профессии, соприкасающиеся со скверной смерти?
– Конечно! Например, самая наверное древняя в истории человечества.
– Что? Быть такого не может!
– Не знаю, о чем ты подумал, но я имел в виду военных и полицейских.
– С военными все понятно. Война, смерть, кровь… Полицейские же тут при чем?
– Они ведь занимаются преступлениями, которые по степени загрязненности идут сразу же за смертью. В прошлом, в отличие от настоящего, полицейские не только ловили нарушителей закона, но и казнили их. Поймали, значит, преступника, осквернились преступлением, казнили его – осквернились смертью.
– Слушай, теперь до меня окончательно дошло! Я все голову ломал, почему это в древней Японии отказались от регулярной армии, оказывается – загрязниться опасались.
– По этой же причине, кстати, и смертную казнь запретили. Правда, тут и боязнь озлобленных духов свою роль сыграла.
– Ясное дело! Не так или не того прикончишь, озлобиться потом, не отобьешься. Поэтому лучше смертную казнь отменить на всякий случай, для верности. Нет, молодцы хэйанцы. И без армии обходились и без высшей меры наказания. Сейчас наверняка немало людей позавидовало бы им.
– Между тем, мир достигается грязными средствами. Против железного закона истории не пойдешь, а мир что, всего лишь переходный период от одной войны к другой. Возьмем к примеру эпоху воюющих провинций – «сэнгоку дзидай». Кто там только с кем не воевал?! Последнее же слово осталось за Токугава Иэясу, который всех переиграл и окончательно замирил страну. Действовал он коварно и жестоко. Особенно досталось семье Тоётоми Хидэёси. Иэясу не пожалел ни его вдову Ёдогими, ни сына Хидёёри, хотя они делали все, что требовалось. И денег угробили на его прихоти и уловки – не сосчитать. Но тот не отставал, и, наконец, придрался к надписи на колоколе, отлитого для какого-то храма. Обнаружились там вроде как ловко скрытые наветы на Иэясу. В общем, нашел чего хотел – предлог для нападения на Осакский замок. Кончилось все самоубийством Ёдогими и Хидэёри, а также гибелью его малолетнего ребенка. А ведь новый диктатор Японии обещал старому о сыне позаботиться и клятву письменную давал. И позаботился… С нравственной точки зрения Иэясу – настоящий клятвопреступник, умышленно уничтоживший под самый корень дом своего господина. Он убедительно продемонстрировал незыблемость постулата – цель оправдывает средства даже самые грязные. Тем не менее, я полагаю, Иэясу действовал пусть и грязно, но правильно. Получается что-то вроде зла во благо. Уничтожив клан Тоётоми, он покончил с кровавым раздраем, заложив фундамент мира, продолжавшегося более двухсот шестидесяти лет.
– Ты про так называемое токугавское трехсотлетие?
– Именно! Однако вместо благодарности что мы слышим? …Использовал слишком грязные методы… Надлежало пощадить Хидэёри… Эгоист, озабоченный лишь процветанием клана Токугава… Выглядит вроде справедливо, но критики Иэясу забывают одну простую и очень даже серьезную вещь, сейчас и тогда – это две большие разницы. Кто мог даже подумать о многополюсном мире до реформации Мэйдзи?! Полюса непременно схлестнутся в борьбе за власть. До общественных выборов еще было ой как далеко. Есть только ты, твои вассалы и твои враги. Иного не дано. Или ты или тебя – только так и никак иначе. Иэясу поступил как и следовало поступить в реалиях своего времени. Иное люди восприняли бы как проявление слабости со всеми вытекающими последствиями. Тот же Тайра Киёмори проявил слабость, обрядив в одежды милосердия, пожалел детей Ёситомо, вожака клана Минамото. И что? Ёритомо и Ёсицунэ, повзрослев, расправились с Хэйкэ и следов не найдешь. Короче говоря, перебили все потомство своего благодетеля Киёмори. Вот как оно выходит. В этой связи следует вспомнить сёгуна Асикага Ёсимицу. В эпоху Муромати всем осточертела длившаяся десятилетиями война между северной и южной династиями императорского дома. Неизвестно, как и когда бы она прекратилась, если бы в конфликт не вмешался Ёсимицу, который уговорил южан уступить три священные регалии северянам, гарантировав им следующее императорство. На этом и сошлись. Противостояние затихло, однако южане хоть и расстались с инсигниями, тем не менее остались с носом, поскольку Ёсимицу и не собирался выполнять обещанного. Ему требовались лишь регалии императорской власти, а там, как говорится, хоть трава не расти, в южном дворе, разумеется. Обман? Конечно! Жульничество? Несомненно! В целом, грязь и зло в чистом виде с моральной точки зрения. С другой же стороны ёсимицуевское зло поставило жирную точку в казалось бы бесконечной братоубийственной бойне. Кто-то поблагодарил миротворца? Как бы ни так! Зло не может создавать добро, грязь не может создавать чистоту. Такой уж у японцев несколько сдеформированный взгляд на ценности человеческие. И никакой наукой, никакой физикой этого не объяснишь, одна психология вперемежку с религией. А идеальное не имеет разумных доказательств, впрочем, для веры никаких доказательств и не требуется. Возьмем, к примеру, нисхождение священного огня в иерусалимском храме каждую Пасху. Верят в него люди, несмотря на попытки атеистов опорочить это явление. Верят и все. И что делать? Да ничего, просто смириться с фактом из жизни верующих. Продолжая разговор о грязных методах во имя чистых целей, хотелось бы упомянуть вот еще что. Англии и Франции вполне по силам было в свое время осадить Гитлера. У Германии еще не налились мышцы сталью и году этак в 1937 превентивный удар позволил бы покончить с расцветающим фашизмом. Но нет, заигрывания, заверения, уговоры-переговоры… Маленькая война вполне могла предотвратить большущую мировую. И заморачиваться предлогом нужды не было, ибо Версальский договор вот он, под рукой. А мировая война чем закончилась? Правильно, двумя атомными бомбами, грязнее которых не сыскать.