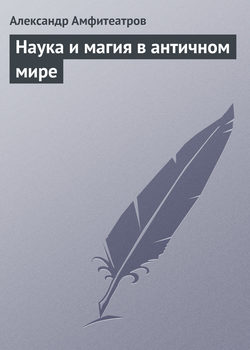Читать книгу Наука и магия в античном мире - Александр Амфитеатров, Александр Валентинович Амфитеатров, Александр Валентинович Валентинович Амфитеатров - Страница 2
2
ОглавлениеИтак, различие между религией и магией не могло найти себе твёрдо определительных устоев в течение тысячелетней истории Рима, начиная с древнейших угроз волшебству в законах Двенадцати таблиц и кончая указами Константина, Констанция, Валентиниана, обоих Феодосиев, которые, под предлогом преследования магии, раздавили и весь обряд старо-языческих культов. Кроме зыбкого принципа, что религия производит чудеса благие и светлые, а магия вредные и тёмные, – можно установить ещё один, хотя постоянный, но столь же мало определённый. В чуде религиозном сила божества являет себя добровольно; чудо магическое свершается чрез принуждение божества человеком.
Боги – бытия могучие, но не безгранично; они повинуются жертвам и формулам. Словами, знаками, обрядами их можно переманить с места на место, удержать при себе против их воли, – словом, до некоторой степени, управлять ими, как силою служебною. Пример, как боги торгуются из-за условий перемещения, передаёт Дионисий Галикарнасский. Боги, перенесённые из Лавиниума в Альбу, сбежали ночью, сквозь запертые двери, на старое своё пепелище. «Они очутились в Лавиниуме на прежних пьедесталах. Их перенесли вторично, но они ещё раз вернулись на то же место. Тогда решили оставить кумиры, где стоят, но переселили в Лавиниум шестьсот альбанцев со всеми их семьями, чтобы заботиться о богах, и дали им в начальники Егеста». Это пример религиозного компромисса с своеволием божества. Но не всегда с капризными кумирами обходились так мягко. Случалось, что их держали как бы в плену, пользуясь их благодатью насильно. Свидетели Квинт Курций и Плутарх. По рассказу первого, тирийцы привязывали местно чтимую статую Аполлона, потому что «эти быстроногие и летучие боги всегда готовы перейти к врагу». Во время осады Тира Александром Великим, коварный кумир откровенно сочувствовал македонскому герою. «Многие граждане Тира, – говорит Плутарх, – видели во сне Аполлона угрожающим уйти к Александру, потому что ему не угодны городские порядки. За это тирийцы наказали бога, как уличённого перебежчика: колосс его скрутили верёвками и привинтили к пьедесталу, да ещё прозвали его „Александровцем“».
Мифологи прошлого века не любили доверяться простодушию древней веры. Не поверили они и прямому, наивному объяснению уз, наложенных на тирийского солнечного бога. Крейцер мудрствовал о нём: «Идол был почти всегда на цепи; это, по всей вероятности, должно было символизировать приближение зимы, налагающей оковы на пламя солнца, или же неразрывный узел, сочетающий первоначального творца со вселенною». Если бы даже возможно было принять, в данном случае, стихийное толкование, – то чем объяснить другие, ему подобные? Насколько был распространён обычай держать кумиры богов на привязи, видно, между прочим, из того простого и обыденного обстоятельства, что значительное число статуй, оставленных древностью, снабжено в подножиях кольцами – для верёвки или цепи, которым решительно нельзя придумать иного назначения. Древние прикрепляли статую, вместилище заклятого ими божества, чтобы божество не освободилось и не убежало вместе с своим кумиром. Совершенно по той же логике, в средневековых библиотеках заковывали в цепи, окроплённые святою водою, сборники магических формул и демонологические трактаты, учившие, как покорять своей воле дьявола. Средневековой магик общился с миром духов через книгу, древний феург – через статую. Дьяволам Спренгера и Дель Рио было лестно украсть какой-нибудь «Ключ» или «Гримуар», училище неограниченной власти над злыми духами. Древнему демону или богу было также лестно вырваться на свободу, утащив у человека, связавшую его волю, статую. И, конечно, как дьяволам Спренгера и Дель Рио препятствовали в их хищнических затеях не верёвки и цепи, но святая вода, их окропившая, и молитвы, при этом произнесённые, – так точно должен был иметь свои мистические запретительные формулы и античный обряд связывания и развязывания кумиров. Здесь религия уже теснейшим образом соприкасается с магическим искусством возвысить волю человеческую над волею божественною, которую признавал в статуе не рассуждающий народный ум, над волею демоническою, которую желал усматривать в ней мыслящий и образованный монотеист-философ. Магическая феургия – таинственная власть поклоняющегося над поклоняемым. Она сильнее бога-демона. Бог-демон терпит её против воли. И в этом-то, с теологической точки зрения, заключается её принципиальная греховность и преступность. Практическое назначение законодательства против магии – запрет возможности наносить людям вред чрез богов, обезволенных её средствами; высший теоретический смысл запрета – защита почитаемого божества от унижения, порабощающего его волю. В мероприятиях против волшебства Рим заступался сразу и за своё гражданство, и за свою божницу.
Народное убеждение в способности статуй к перемещению, конечно, питалось не только легендами и видениями суеверов, но и множеством кумиров-автоматов, в изобретении которых античная механика, с лёгкой руки Герона, была, по-видимому, необычайно искусна. О чудотворных статуях, созданных древними мастерами, – говорящих, краснеющих, потеющих, вращающих глазами, кивающих головами, ходящих, летающих, – говорят Лукиан, Авл Геллий, Макробий, христианские легенды о Симоне Волхве, Апокалипсис Иоанна и т. д. Многочисленность разносторонних свидетельств, до известной степени, ручается за возможность факта. Обыкновенное возражение скептиков, будто механика древних не могла производить очень сложных приборов, опирается на то доказательство, что все рабочие и ремесленные орудия, сохранившиеся от античной промышленности, крайне просты, грубы, – можно сказать, первобытны. Оно не исчерпывает вопроса. Каждая эпоха развивает то предложение, на которое имеет наибольший спрос. Первобытность античных ремесленных орудий определяет только то условие, что древние мало нуждались в усовершенствовании механических средств производства. При дешевизне рабского труда, при беспощадных от него требованиях и в количестве, и в достоинстве работы, – имея к тому же для эксплуатации европейскую природу далеко ещё не в столь истощённом виде, как теперь, – античный производитель не старался усилить интенсивность труда искусственною энергиею: раб был выгоднее машины. Ещё Герон учил о движущей силе пара, – однако, до Уатта надо было ждать слишком две тысячи лет, пока настоятельная социальная потребность в новом моторе, сильнее и дешевле человеческих рук, вызвала к промышленной реформе успешного изобретателя. В восемнадцатом веке только Англия могла породить Уатта, потому что его изобретение было ей уже насущно необходимо. Франция, за сто лет до Уатта, посадила его предшественника, Соломона Ко в дом сумасшедших. Если это и легенда, то выразительная: она – символ национального признания, что промышленность Франции, в эпоху Ко, не дозрела ещё до потребности в механических средствах, настолько настойчивой, чтобы, чаемая от изобретения, польза могла победить в глазах века предрассудок исконной традиции против неслыханного нововведения. Словом: если античный мир не имел машин, которыми мы пользуемся, то не следует забывать, что он в них, по характеру производств своих и размерам своего потребления, весьма мало нуждался. Наоборот, мы – не имея столь сильной, постоянной и настойчивой потребности в изящных искусствах, художественной промышленности, в религиозной красоте, в религиозном чуде, какою отличалась древность, – бессильны породить скульптора, способного создать вторую Венеру Милосскую, архитектора, который победил бы творцов Парфенона и Колизея, – быть может, не будет ошибкою прибавить: и механика-специалиста, чтобы возвести на степень древнего совершенства мистические представления и чудеса. Христианские церкви чуждались всего, что могло напомнить народу об изящных, занимательных идолах; они не нуждались в прекрасных, загадочных статуях-автоматах; следовательно, производство последних должно было умереть. И оно, действительно, умерло, как почти на одиннадцать веков, умирала, за ненадобностью, божественная олимпийская скульптура. Да и вполне ли она воскресла? Когда Возрождение начало роднить Европу с преданиями «воскресших богов», то, в числе других оживших искусств, стало было развиваться и производство самодвижущихся фигур: им, в целях религиозных и театральных, занимаются такие люди, как Тритгейм, Корнелий Агриппа, Леонардо да Винчи; слагаются легенды, что в нём достигали удивительных успехов предвестники Возрождения, вроде папы Сильвестра (Герберта) или Альберта Великого. Если оно опять заглохло и вымерло, причину надо искать в гонениях католичества на всё, что его невежественной инквизиции казалось похожим на магию, и в иконоборческой энергии реформации.
Вообще, наука древних цивилизаций – дело спорное и загадочное даже до сего дня. Смешно благоговеть пред её тайнами вслед сторонникам теории Балльи, но вряд ли правильно относиться к её «младенчеству» с презрением современных представителей положительного знания. Какова бы ни была античная культура, она была неизмеримо выше не только средневековья, но и всего Возрождения. Её право не умерло до наших дней, её астрономии хватило Европе до Коперника и Кеплера, причём, однако, и Коперниково открытие имело своих античных предшественников в пифагорейцах Филолае и Архитасе и, особенно, в великом геометре Аристархе Самосском. Числовые периоды пяти главных планет, высчитанные Гиппархом, остаются и посейчас фундаментом планетной астрономии и принимаются современною наукою почти без поправок. В математике мир до сих пор верит Евклиду больше, чем Лобачевскому. Тысячу двести лет надо было жить медицине от Галена до Везалия. Ещё больше промежуток между Аристотелем и Бэконом, – и так ли уж далеко ушли вперёд от логики их Джон Стюарт Милль и Александр Бэн? Мы, русские, греки, славяне. настолько прочно утвердились в пользовании Юлианским календарём, что ещё недавно, при переходе в двадцатый век, провалили увещательные проекты Грегорианской реформы. Пятнадцать столетий изживает Европа остатки этих разрушенных, отвергнутых цивилизаций, и не может изжить. Думаю, что, при зрелище таких прочных и многосодержательных обломков, мы имеем и право, и основание относиться с большим доверием и уважением к гипотезам о мудрости целого, которое они когда-то составляли.
Что касается естествознания, техники, механики, то, смеясь над их бедностью и сомнительностью в античной науке, мы, быть может, слишком много значения придаём таким энциклопедическим писателям, как, например, Плиний Старший, Сенека, Элиан. Между тем, сочинения их – не более, как обширные популяризации общедоступных знаний для малосведущей «общей» публики, и судить по ним об истинном уровне античных наук так же неосновательно, как если бы мы сделали заключительный вывод об успехах современной химии из книжек, издаваемых для первоначального самообразования. Немыслимо предполагать, чтобы знание древних близко подходило к высотам опытных наук прошлого и даже восемнадцатого века. Но нельзя остановиться и на мысли, чтобы знание это ограничивалось теми тесными рамками, которые так легко устанавливаются, если слепо довериться дошедшим до нас свидетельствам, признавая их в букве и, смысле, как последнее слово античной науки, не позволяя себе ни размышлений, ни гипотез, вне их непогрешимого авторитета. Отличительным признаком древней науки был аристократизм её, жречество, сословная тайна. Наука не демократизировалась, не шла в житейский обиход, оставалась силою для немногих избранных людей и для священных целей. И, быть может, в этом последнем назначении, она, действительно, знала больше, чем мы о том осведомлены авторами. Из несомненных чудес-фокусов древней религии многие не могут быть разгаданы средствами науки того времени, поскольку она нам известна. В самом деле, что заставляло летать эти таинственные кумиры? Игрушки, летающие без помощи пара, нагретого воздуха, водорода, и в наши дни не совсем обыкновенны; они возбуждают чуть не суеверное удивление, и опыты с ними собирают полные аудитории любопытных. Что такое светящиеся камни в венцах кумиров, которыми иные храмы освещались ярче, чем днём? Какой свет в состоянии дать подобный эффект, кроме электрического? Мы знаем, что фокусы производились, но почти ничего не знаем о способах производства фокусов. Что наука древности слишком много тратилась на фокусы, этот упрёк не подлежит опровержению. Но чудотворный религиозный культ античных государств, объединённых Римом, требовал фокусов, – и в них не было недостатка. Известны случаи, что верующий, испрашивая у богов пророчества на удачу своего предприятия, не довольствовался одним благоприятным знамением, но, заручившись им, просил подтверждения вторым и третьим. С такими придирчивыми прихожанами, жреческой науке было где и зачем развить свою прикладную специальную изобретательность. Описывая храм Сирийской Богини, равно священный для нескольких культов, Лукиан, скептик и ненавистник богов, насчитал чуть не целое полчище кумиров-автоматов, которых существование повергает нас в такое недоумение, что мы часто предпочитаем вовсе ему не верить. Между тем, Лукиан, как будто, удивлён только скоплением и разнообразием множества их в одном Храме, – о самодвижении их он упоминает равнодушно, вскользь, как о вещи, всем давно известной.
Наконец, надо принять в сравнение высокую степень развития древнего строительства, особенно римского. Здесь дело шло уже не о фокусах. По римским мостам в Швейцарии, в Испании, в Македонии две тысячи лет тянутся проезжие тракты и, наконец, стали ходить железнодорожные поезда. Аппиева дорога прослужила Италии, с самым дешёвым ремонтом, тоже чуть ли не до рельсовых путей. Практичнее, проще и дешевле римских зданий из дикого камня, залитого цементом, строительная техника ничего не выдумала, – по крайней мере, для южного климата. Бедные люди в Италии и сейчас так строятся. Скорость и дешевизна этого способа сохранили потомству всё, что мы знаем об античном Риме, когда булыжный, цементированный дом ветшал, владелец не разрушал его, чтобы очистить земельную площадь для нового дома, – было выгоднее засыпать старое здание землёю и, обратив его в фундамент, вывести над ним новое. В самые последние годы, дно озера Неми выдало, почти невероятную на первый слух, тайну, что судостроители цезаря Кая Калигулы умели сооружать корабли не только броненосные, но и несгораемые. Последним условием обороны наша кораблестроительная техника не превзошла ещё современных ей средств нападения. Конечно, броненосная яхта Калигулы не выстояла бы против самых слабых пушек, но – ведь пушек-то не было. Зато орудия тогдашних морских атак, – абордажный топор, носовой терпуг и брандеры, – не угрожали ей ни малейшею опасностью. А давно ли перестали они быть страшными нашим деревянным флотам? Огнеупорный сплав, добытый с древних кораблей озера Неми, совершенством своим подверг в изумление итальянских морских инженеров. Если античная техника могла производить подобные «фокусы», по желанию правителей, остережёмся слишком резко отказывать античной механике в способности равняться с нею, по желанию священников.
Вера в движущиеся кумиры столь же стара, как и самая скульптура, – даже старше её, потому что древние верили в одухотворённость не только самых фигур божеских, но и материала, к формованию их послужившего. Даже на самых высоких ступенях своей культуры, они не отказывались от литолатрии, камнепоклонничества, символического для верующих умных и образованных, прямого для тёмных святош и ханжей. Знаменитая сирийская Мать Богов, о которой было говорено, как о древнейшем восточном божестве, принятом в римские Indigitamenta, считалась первобытно воплощённою в большом диком камне. Ваал из Эмезы, привезённый Гелиогабалом, – чёрный, конусообразный аэролит, отдалённо схожий с символом плодородия. Лактанций, уже в четвёртом веке по Р. X., издевается над римлянами, «обожающими дикий, едва обтёсанный камень, именуя его богом Термом. Это, говорят, тот самый камень, который Сатурн сожрал, полагая, будто ест своего сына Юпитера». Когда последний водворился на Капитолийском холме, все местные божества любезно удалились с Капитолия, предоставив его в исключительное владение царю людей и богов. Не тронулся с места один лишь Терм, считая себя не ниже Юпитера. «Этот безобразный бог почитается хранителем пределов империи: он их бережёт и защищает от вторжения варваров». Из сказания о капитолийском божестве государственной границы возникла впоследствии средневековая легенда о статуях провинций, помещавшихся будто бы на Капитолии, каждая с золотым колокольчиком на шее: если в которой-нибудь из провинций начиналось восстание, её статуя приходила в движение, колокольчик звенел, и предупреждённый сенат немедленно принимал меры к водворению порядка. В миниатюре, бог Терм покоился на каждом поле, на каждой раздельной меже двух владений: он извечно стал в Италии символом и покровителем земельной собственности; потревожить и тем более тайно перенести термальный камень было не только нарушением межевого знака, но тяжко наказуемым святотатством. Входили в честь камни исторические: Ливий упоминает, что в Риме, близ курии, долго сохранялся, чтимый с суеверным благоговением, камень, который некогда, будто бы, отрезал бритвою от скалы авгур Атт, во знамение маловерному царю Тарквинию Древнему. Клятва «богом, живущим в камне» – древнейшая римская божба: per Jovem lapidem. Историки, начиная с Катона и кончая Павлом Диаконом, описали нам так называемый «mundus», то есть мир, или свод небесный: священное место, которое италийскими народами сооружалось в почве, избранной для посёлка, с посвящением его подземным богам и душам усопших. Mundus устраивали раньше, чем началась закладка самого города, или, вернее сказать, устройство его и было этою закладкою: он становился центром, около которого должны были затем пройти, в равных расстояниях, борозды, с намёткою будущих стен города. В Риме, по преданию от Ромула, первобытный mundus помещался на комиции. То был земляной грот, углублённый в лоно матери-земли правильным полушарием, наподобие опрокинутого небесного свода. Mundus почитался дверью в преисподнюю и открывался только в известные дни, подобные нашей Радунице, когда поминали покойников, и предполагалось, что они выходят на белый свет и снова общаются с природою. В обычное же время, грот был задвинут камнем – lapis manalis, – что значит «камень манов», святых усопших, но в древнейшем языке значило «разливающийся, светящийся», от глагола manare. Камень этот, сам по себе, был предметом культа, и некоторые исследователи думают, что самостоятельного и гораздо древнейшего, чем поклонение манам. По Базинеру, камень манальный был чтим, как символ «ночного солнца», зашедшего на ночь с надземного небесного свода в тёмное подземное царство. Солнечный бог, семитический ли Ваал, эллино-римский ли Гелиос, Феб, Аполлон, часто воплощался в природном камне. Даже в Дельфах, блиставших тысячами великолепных кумиров, не вымерли древние жертвоприношения, состоявшие в помазании елеем солнечного камня.
Как все виды идолопоклонства, литолатрия началась с грубой анимистической символики. Подобно тому, как первобытный италиец поклонялся Марсу под открытым небом, пред воткнутым в землю копьём, так точно в Греции и Малой Азии глыба глинистого камня стала Матерью Богов, громадный неуклюжий валун – Гераклом, аэролит приапической формы – Ваалом и т. д. Это знаменитые камни-боги, на весь мир прославленные своею благодатью; но города греческие и римские были усеяны священными камнями, чуждыми всякой чудотворной известности, однако, с усердием почитаемыми в силу не их специального, но общелитолатрического культа. Теофраст, в четвёртом веке до Христа, описывает, как греческие ханжи, проходя улицею мимо умащённых маслом камней, вынимали свою елейницу и тоже возливали на них масло, молитвенно преклоняя колена. Латинский поэт, желая нарисовать быт, чуждый цивилизации, без религиозных зачатков, жалуется: «Нет у этих людей ни украшенного дерева в лесу, ни камня, помазанного елеем». На более высоких точках культурного развития литолатрия становится посредницею и проводницею воззрений демонических. Камень признаётся жилищем божества или духа, поселившегося в нём или сорождшегося ему. Описанный Фотием, врач Евсевий носил свой камень-фетиш на груди, советовался с ним, получал от него ответы голосом, похожим на слабый свист. Плиний толкует о камнях, которые убегают, когда делаешь вид, будто хочешь их схватить. Подобное же поверье повторялось о камнях храма Паллады в Спарте: их даже делили на храбрые и трусливые. Легенда не умерла в христианстве, ужилась и привилась на почве средних веков. У какого европейского народа нет своих святых камней, чтимых в память излюбленного местного угодника или связанных с каким-нибудь божественным преданием? Христианские епископы, разрушители языческих храмов, обращались к камням в стенах их с повелительным словом, и камни повиновались заклятию, рассыпаясь из своего нечестивого единства. Происходило, таким образом, нечто обратное тому, что случилось при постройке фиванских стен, когда чародейная лира Амфиона заставляла камни слагаться один к другому. Несмотря на разность результатов, в предании христианском, как и в предании языческом, звучит общее убеждение: камень слышит и чувствует, камень населён силою, которой можно приказать, и она окажет разумное послушание. Преподобный Бэда проповедовал камням, и они отвечали ему «аминь». Европа не бедна камнями и скалами, которые почитаются жилищами или гробами, загнанных в нутро их, проклятых злых духов, цвергов, великанов. Полными чертовщины признаются камни друидические, рунические, многие руины древних языческих храмов. Уже у св. Жильдаса мы встречаем известие, что камни Карнакского храма имеют обыкновение исполнять по ночам таинственные пляски. У нас в России легенды демонического камне-движения так многочисленны, что могли бы дать материал для обширного сборника. Замечательнейшие: сказание о Баше и Башихе, о каневецком Конь-камне, о Конь-камне в Тульской губернии, о сибирских шаманских камнях и степных могильниках. Даже в самом центре Петербурга высится камень, который в течение многих столетий был престолом и жертвенником финского демона: это – подножие памятника Петру Великому.