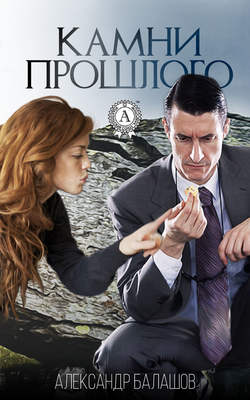Читать книгу Камни прошлого - Александр Балашов - Страница 4
СЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ЛАВРИЩЕВА
Оглавление«На морском песочке я Марусю встретил…»
(Из песни)
Мария Сигизмундовна ещё в начале своей судебной картеры благоразумно отказалась от роскоши иметь собственное мнение. Советский судья и собственное мнение – две вещи несовместные (слово из активного словаря А.С.Пушкина). Это золотое качество очень нравилось начальству по всей вертикале: от молчаливого низа, середины и самого верха правящего «перпендикуляра». И разве могла стерпеть это самое «собственное мнение» у своего мужа, следователя по особо важным делам Игоря Ильича Лаврищева? Вопрос риторический.
Семонова-Эссен (такая двойная высокопарная фамилия была у Марии Сигизмундовны) с юных лет, когда мечтают об алых парусах и принцах на белом коне, уже была переполнена мыслями и мечтами о лёгком подъёме по крутым ступеням служебной лестницы. И теперь, глядя на муженька со своей покосившейся колокольни, она частенько упрекала Лаврищева за его главный недостаток – за отсутствие «здоровой амбициозности». Человек, всю жизньучила мужа жена, должен ставить перед собой, если и не высокие, то хотя бы практичные, полезные, то бишь прагматичные, цели. Курочка, она хоть и глупа, да по зёрнышку, по зёрнышку…
Это и есть здоровый прагматизм, который, по мнению работника райсуда, давным-давно пришёл на смену бесполезному советскому романтизму.
– Ты вот в своё свободное время на диване с книжками в обнимку валяешься, – назидательно вдалбливала она в стремительно лысевшую голову мужа. – На кой чёрт тебе эта бесполезная беллетристика? Тебя не Достоевский со своим «Идиотом» и даже не Шерлок Холмс должны вдохновлять, а заповеди великого американца Фреда Дэвида, говорившего своим подчинённым: предлагайте мне только идеи, сулящие выгоду!
– Райкин, душа моя, если помнишь, предлагал к ноге балерины динамо-машину прикручивать, – возражал следователь. – Зачем впустую ногою вертеть? Не прижилось… Не прагматики мы, видать…
– Дурак ты, Ильич, дубина гуевская! – клеила ярлыки супруга. – А вот американцы прагматики. Потому так хорошо живут, а мы, идиоты, Достоевским гордимся, хотя никто его уже давно не читает. И правильно, что не читает. Умирает великая русская литература. Тихо, безсславно, как никому уже не нужный пенсионер, умирает… На смену литературному идеализму идёт великий век-прагматик.
– Он нас, голуба моя, и доконает окончательно, – смеялся, не вставая с любимого дивана, Игорь Ильич. – Что немцу хорошо, то русскому смерть.
Реплика мужа за живое задела жену.
– Дарвин утверждал, что человек разумный произошёл от приматов, – сказала она. – А человек успешный происходит от прагматов.
– Это что за неизвестный науке зверь?
– Прагмат – это тот, кто не будет тащить в дом все эти книги, которые захламили нашу квартиру, а будет делать ля себя и семьи полезное практическое дело.
Лаврищев рассмеялся:
– Я, ваша честь, тоже открытие сделал. Уверен, что человек стал человеком, когда научился писать и читать.
– А книжные магазины сегодня в стране, ставшей на прагматический путь, пачками закрываются! – парировала Мария Сигизмундовна.
Но следователь не сдавался.
– Поверь, душа моя, что криминал в обществе и все экономические кризисы начинаются с кризиса духовного, – сказал Игорь Ильич.
– Тут нет прямой зависимости! – упрямо стояла на своём заслуженный работник юстиции. – Нарушения закона случаются и в годы расцвета, и в кризисные времена. Всё дело, как относиться к закону.
Лаврищев давно понял, что судья Лаврищева-Семионова была из тех, принципиальных отечественных судей, давно усвоившая главный постулат нынешней юриспруденции – все равны перед законом, но некоторые всё-таки равнее…
«Равнее», считала она, всегда из рода прагматиков. Он, прагматик, ставит маленькие (тактические) и большие (стратегические) цели. Низкие и высокие. Но все – неизменно полезные. С реальным доходом. Потому, пассуждала Мария Сигизмундовна, побеждённые русскими немцы живут в несколько раз лучше самих победителей. Ведь немцы – европейские прагматики, а русские – неисправимые романтики. Как её увалень-муж, эта гуевская дубина стоеросовая.
Романтики, конечно, тоже ставят цели. Но какие-то нелепые и совершенно непрактичные, несмотря на их «высокость». Такие, как обещанный к 1980 году «коммунизм». В фантазиях далёких от «научного коммунизма» сограждан, начиная с объявленного всем года, из кранов на шестиметровых кухнях потечёт фруктовое вино и жигулёвское пиво. А в рот (на закуску) начнут с облупленного потолка падать засахаренные райские яблочки из бабушкиного варенья. И кругом – сплошной рай: РАЙисполком, РАЙком партии, РАЙонный суд.
Впрочем, чем бы занимался суд в раю, Мария Сигизмундовна так и не придумала. Хотя и последнему дурню в обманутой стране было ясно: в Раю земному суду места нет. Нет человеческих пороков – нет и преступлений. А коли так, то нет и работы для правоохранительных органов и законников всех мастей. Так что отсрочка в приходе «объявленного коммунизма» спасли в СССР тысячи судей, законодателей, следователей и в целом органы внутренних дел от неизбежной безработицы.
Лаврищев считал, что можно жить и без всяких там высоких и не очень высоких целей в жизни. Просто жить – это, считал следователь, не раз рисковавший своей жизнью, уже великий дар. Чего тут огород городить из высоких и частенько лживых слов…
– Знаешь, Маша, – как-то сказал он, выслушав лекцию жены о его полной неприспособленности к рыночной жизни, где человек человеку – конкурент. – Знаешь, Маша, для меня счастье в одном: был бы на свете человек, кому от тебя нужно только одно.
– И что же это такое – «одно»?
– Чтобы ты был жив и чтобы у тебя всё было хорошо.
– И у тебя такой человек, конечно, есть, – со злой иронией в голосе предположила супруга.
– Есть, – кивнул Лаврищев. – Это моя мать.
– Ах да! – воскликнула Мария Сигизмундовна. – Я совсем забыла, что раз в году вы пишите друг другу письма. Похожие друг на друга, как милицейские протоколы под копирку. Эпистолярный жанр, друг мой, – атавизм. Купил бы ей мобильный телефон и позванивал бы в своё Гуево или эсэмэски слал…
Лаврищев вздыхал:
– Там зона неустойчивого приёма. Да и не технического склада моя мать… Слова улетают, написанное остаётся. Письмо – документ времени, а СМС – иллюзия документа.
Супруга пожимала плечами:
– Я ещё раз убеждаюсь, какой ты раритетный экземпляр. Утопист по складу ума. Консерватор, короче.
Лаврищев улыбался:
– Консерватизм – это борьба вечности со временем. Горжусь, ваша честь, данной мне характеристикой.
Однако упрёк жены был явно не по адресу. Игорь Ильич ни о чём таком утопическом никогда не грезил. Он – «просто работал». Сначала в Судже, маленьком райцентре под Курском, потом за усердие в «деле поимки хулиганов и бандитов» пошёл на повышение – перевели в Курск. Женился он сразу же после армии, когда поступил на службу в суджанскую милицию. Ему шла к лицу милицейская форма. «Нашему молодцу – всё к лицу!» – всплеснула руками мать, когда Игорь в парадном кителе и новеньких хромовых сапогах приехал домой, в деревню Гуево. Сын тогда поправил: «В милиции, мама, говорят – нашему подлецу – всё к лицу».
В Судже, в Гончарной слободе (так этот район назывался спокон века), он встретил девушку Галю Деревянко. Красивая, фигуристая Гала, как её называли в районе, работала официанткой в единственном суджанском ресторане. Не прошло и трёх месяцев после их «торжественной росписи» в ЗАГСе, как Гала, забыв про свой новый статус жены и верной спутницы жизни, вернулась к привычной жизни, не отличавшейся целомудрием. Вдино, права была мать Лаврищева, не раз говорившей, что запретный плод всегда сладок. О той, прежней жизни Галы, сержант милиции Лаврищев ничегошеньки не знал: у молодого милиционера, впервые ощутившего сладостную близость с женщиной, просто не хватило времени, чтобы узнать будущую жену получше. А, быть может, он просто не хотел знать то