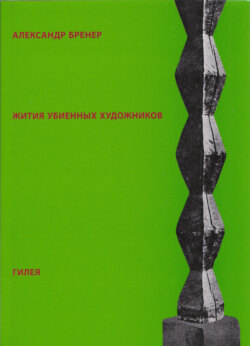Читать книгу Жития убиенных художников - Александр Бренер - Страница 4
Моя нестерпимая любовь к Сергею Калмыкову
Оглавление1.
Але-оп!
Мой первый любовный опыт с художником был и самый сладострастный.
Мне стукнуло лет семь.
Я вышел из дома и оказался перед храмом – Театром юного зрителя.
Меня страшно влекло к этому парфенону со смеющимися и плачущими масками на фронтоне.
И вот вижу: перед театром шевелится опьянённая толпа.
В центре её бесчинствует кто-то в разноцветных лохмотьях.
На нём – голубой берет со звенящими бубенцами, жёлтые штаны с алыми лампасами, зелёная пелерина с бахромой.
Перед ним – мольберт.
На мольберте – картина.
Художник дирижирует кистью и производит на холсте мазки.
Потом отбегает в сторону и глядит – хорошо ль получилось?
Снова подбегает и мажет.
Толпа следит за ним, затаив дыхание.
А живописец действует как паяц или демиург.
Лицо у него – обугленное.
Седины – сальные.
Жесты – колизейные.
Это был гениальный художник Сергей Иванович Калмыков.
Он почитал себя выше Кандинского – так оно и было на самом деле.
Кандинский был слишком занят своими цветовыми ритмами и композициями.
А Калмыков живописал План Маршалла на Марсе.
Или Инженера Эйфелевой башни на Вавилонской башне.
Или обнажённых Дочерей Великого Костюмера в гриме.
Или Человека с Орденом Мухи.
Или ливийскую одалиску в оренбургских снегах.
Или безголовую голую буфетчицу на античной колонне.
Или алма-атинский пустырь, а рядом – кусты.
Или трёхголового пса Цербера внутри вертящейся планеты.
Или нити спермы.
Сергей Калмыков был для меня лучше Тулуз-Лотрека и Михаила Врубеля. Лучше Густава Климта. Лучше Джеймса Энсора. Лучше Пабло Пикассо. Лучше Жоана Миро и Хаима Сутина. Лучше Жана Фотрие и Андре Массона. Лучше Джексона Поллока. Лучше Жана Дюбюффе. Лучше Сальвадора Дали. Лучше Энди Уорхола.
Лучше всех них вместе взятых.
Лучше – потому что он был мой первый святой художник. Божественный, по-настоящему сумасбродный, беспомощный. И власть его была не от мира сего.
В его творчестве сквозила одновременно невинная девица в тесных трусах и обалденная грязная блядь с сочащейся пиздой.
Он был соглядатаем парковых совокуплений, свидетелем коитуса на строительном пустыре.
Духовидец с начала до конца, он мне хрестоматиями не был навязан.
Калмыков Сергей Иванович родился в 1891 году в Самарканде. Он почти там не жил, а всё-таки впитал в себя излучение самаркандских изразцов и заоблачные формы самаркандских мечетей. Как, впрочем, впитал он позднее и персидскую миниатюру. И Дионисия. И Джотто. И Пизанелло. И Дюрера. И Домье.
И Курбе, и импрессионистов.
И Ван Гога.
И Сёра.
И Мунка.
И ещё много чего: стиль модерн, фовистов, сюрреализм… Как он умудрился сделать это в советской Средней Азии? А вот так: тоска по мировой культуре…
Он изворачивался, гримасничал. Затевал тайные оргии с эпохами и титанами.
Он – оборванец и бомж в искусстве – танцевал животом, плечами и бёдрами.
Он – хвататель объедков и открыватель мусорных гротов – трясся в трансе.
Он, оса, высасывал из лужицы мёда всё: от пещерной живописи Ласко до Одилона Редона и Клее.
Как он умудрился это в сталинской провинции?
А так – настоящий босяк, скоморох, изображающий Саломею, бурлак духовного Ганга, блаженный.
Голодный и ненасытный птенец птицы Феникс.
Калмыков – подзаборная Майя Плисецкая, ненаёбная птица, а не фальшивка в лофте!
Болтали, что ему в пятидесятые годы Пикассо послал письмо с предложением обмениваться работами.
Скорее всего, брехня, а может и нет.
В любом случае Пикассо по сравнению с ним – пузатый, гладкий и умный хомяк, держащий за щекой весь Лувр.
А Сергей Иванович висел пушинкой в воздухе, дрожал стрекозой. Облетал одуванчиком. Блеял и вонял козой. Дрочил на Данаю и Лукрецию – и они ему по утрам живьём являлись и все свои щели показывали!
А сам он был похож на старую ведьму – кисть вместо метлы.
Обтруханным калмыком и стоптанным каблуком он был.
А всё равно: одалиски райские его, вонючего дервиша, веерами опахивали.
Всю свою жизнь Калмыков оставался парашей и парией.
Зато он якшался в парковых сортирах с сатирами, а на азийских базарах – с Агарями.
А «реальность»?
В 1910-е годы Калмыков С.И. учился в Москве у К.Ф. Юона. Потом в Петербурге – у Добужинского и Петрова-Водкина. Его учителя были занудными домашними доброжелателями рядом с ним – юным бездомным факиром.
Он самозабвенно припадал к филигранному соску югендштиля в пику папаше Репину.
Впрочем, у него все стили модернизма переплавлены в его собственное рукоблудие. Он – гримасничающий, дурной, с ломающимся голосом, резкими жестами, сутулый и смутный.
А стили брал, чтоб над ними куражиться и извиваться в экстазе и самозабвении.
В начале 20-х годов он в Москве увидел Маяковского с полированной тростью в руке, вскочившего на извозчика.
Ему понравился этот люмпен-денди, он им залюбовался (и писал об этом в своём дневнике).
А жил он тогда в захолустном Оренбурге и малевал афиши для цирка.
Как и Владимир с его флейтой-позвоночником, Сергей явился в мир жонглёром и канатоходцем, но пролетарским певцом не стал. Зато шёл по невидимой, но отчётливой линии, проведённой для него Рафаэлем – не автором «Сикстинской мадонны», а героем «Шагреневой кожи».
Шёл по ниточке, приплясывая.
И куда, как вы думаете?
А как всякий настоящий художник: за своим Образом, который вёл его к неминуемой катастрофе.
А какой же это был Образ?
А такой: смутный, блудный.
Женственно-насекомый.
Смертельно опасный образ – богомол этакий с горбом лобка и комком кудрей. Стрекоза-егоза с тонким торсом и острым ворсом.
Длинноногая тощая Незнакомка с мутными каплями из промежности, с глазами осы, с запахом лисы, с сиськами козы – в соломенной шляпке с терракотовыми фруктами: вот калмыковский образ.
В дневниках его много воплей в честь этой красавицы, словно сошедшей с листа Фелисьена Ропса, с узким мучительным следком Аполлинарии Сусловой, которую наш кавалер де Грие лобызал издалека, при явлении которой стыл и ныл, как старик Карамазов, и молился, как Бердслей пред иконой Лисистраты, и мычал, как дворник Герасим…
Потом эту Муму поглотили воды вечности…
В 30-е годы Калмыков попал в Алма-Ату, столицу Казахстана.
Нанялся декоратором в Театр оперы и балета имени Абая, где и кормился лет двадцать.
Здесь он по ночам перешивал себе костюмы из театрального гардероба, добиваясь особой яркости и пышности, чтоб его заметил из космоса Леонардо да Винчи и пригласил на ужин.
Калмыков мало общался с современниками, зато тайно обнимал Тинторетто, залезал пальцем в промежность Сусанны.
Он сгрёб весь духовный хлеб себе в склеп и радовался, как анахорет.
Он пребывал в СССР на планете Венера.
А однажды потерял работу в театре и стал жить на крошечную пенсию, опьяняясь нищетой и заброшенностью, ибо верил, что так и подобает гению.
Он и был им, он – не вы.
Говорят, питался этот старик в основном молоком да хлебом, а ютился в комнатёнке, где вместо мебели лежали кипы газет. То он из них соорудит кресло, то кровать – почище всякого конструктивиста.
Рисовал же на мятой бумаге, попорченных холстах, старых клеёнках, найденных на дворе картонках, картах, обёрточной бумаге, и доводил свою живопись до состояния пузырчатого клея, сгнившего йода, жжёного сахара, засохшей крови, застарелой зелёнки, втёртой в ладонь полыни, больничных помоев, змеиной кожи, старушечьих трусов, жабьей икры.
Образы создавал потешные, кромешные, обольстительные, мучительные, похабные, дряблые, иссохшие, заглохшие, искусственные, насильственные, раболепные, непотребные, кликушеские, исходящие малафьёй и святым духом, паршивые, избыточные, мускулистые, очаровательные, любительские, запутанные, изощрённые, театральные, девчачьи, любострастные, взвинченные, издёрганные.
Жизнь и искусство Калмыков не различал и в обеих сферах предпочитал иллюзорное, вздорное, экстравагантное, распоясанное, кладбищенское, лунное, голое, экзальтированное, недодуманное, смехотворное, старушечье, фантазматическое и подростковое.
Был он, одним словом, как Игитур или Фаустроль, как Плюм или Лоплоп, как Щелкунчик или как гоголевский ублюдок: подвержен брехне, хвастовству, самоопьянению, многословной бессмыслице, возгласам, блеянью, скрытности, безмолвию, животности и бескорыстному артистическому паясничанью.
Ну а вы, нынешние…
Ну какие вы-то артисты?
Вы – со своими опасениями и оглядками… Со своей осторожностью, мобильными телефончиками… Со всеми вашими мягкими кончиками, коммуникационными сетями, проторёнными путями… Со своей этой похабной международной инфраструктурой, журнальной макулатурой, документированными перформансами, бонусами, конкуренциями и конкурсами…. Со всеми этими коммерческими граффитистами, литургическими пиздами, смертоносными кураторами, интернетовскими навигаторами…
Вы – со своими тусклыми интригами и в кармане фигами… С трусливыми печёнками, зарубежными гонками, вежливым жлобством, непроходимым холопством…
Вы – с вашим послушным остолопством, тоскливыми сборищами, тощим остроумием, блядским скудоумием, отсутствием воображения, недостатком кипения, взрослой недоброжелательностью, позорной старательностью…
Вы – с базарной хитростью, чванством и куриным приличием…
Какие вы, к чёрту, художники?
Посмотрите-ка лучше на эту блаженную тень: вот!
Сергей!
Иванович!
Калмыков!
Из пыльной Алма-Аты.
Бешеный эклектик, дважды-два-эпилептик…
Говна летописец, древнегреческий вазописец (на осколках вазы)…
Сновидец, сочащийся липкими мутными струями.
Востроносый маньерист и служитель Аполлона Опустошённого.
Балбес и кудесник!
Ну? Ясно теперь?
Можете вы у него хоть чуть-чуть поучиться?
Нет? Не можете?
Он ведь странный был, а вы – нет.
На него детям хотелось смотреть во все глаза, а на вас – нет.
В конце концов он, не спавший с женщинами, но изнурённый вечными сношениями с образами, впал в сумеречное состояние и потерял всякое чувство реальности.
Изголодался, износился окончательно, состарился, высох, стал похож на грязную мумию.
Заболел дизентерией и загадил свои холсты и газеты.
По одной версии, так и умер на этих газетах – в нечистотах, в одиночестве.
По другой же, попал в местную психиатрическую больницу, уже снабжённую музейчиком душевнобольных.
Там и скончался.
После его смерти соседи выкинули его творения на помойку, откуда их забрал в своё собрание главврач психбольницы профессор Гонопольский.
Прямо-таки образцовая историйка об отверженном нищем художнике, не правда ли?
Сейчас из него, калмыка безземельного, делают великого русского художника, а на деле он – мучительнейшая и сладчайшая нить беспризорной падучей звезды: творчества-в-запустении.
Он не удосужился создать свою «манеру», «поэтику», «эстетику», «метод».
Он питался отбросами систем и ценностей и из них творил божественную чепуху.
Бабочкой он был в искусстве, мотыльком с чешуйчатыми драконьими крыльями и паршивой пыльцой – бабочкой, а не музейным работником.
Идите вы отсюда на хуй, торговцы признанием и государственными прозвищами.
И оставьте Сергея Калмыкова, кавалера ордена Мухи, нам – мальцам и антидельцам, которые лучше в нём разбираются и не испоганят собственной важностью.
Он подарил нам, деткам, узор бухарского уленшпигеля и памфалона.
Он оставил нам свою безвременную ошибку.
2.
А вот второе моё воспоминание о любимом художнике.
В Алма-Ате на широкой асфальтовой площади стоял могущественный и подлый Дом правительства. Он был с византийскими колоннами.
А по бокам его били струями в небо четыре гранитно-бронзовых фонтана. Окружены они были кустами благоухающей сирени.
И всё это – под васильковым небом, в солнечной тёплой атмосфере, в незапамятные Средние века в Средней Азии.
В один из этих фонтанов граждане пристрастились бросать мелкие монеты – на счастье.
А мальчишки эти монеты из фонтана вылавливали и прикарманивали. Это составляло ихнее счастье, тоже ненадёжное.
Как-то в жаркий полдень я в полном одиночестве залез в тот счастливый фонтан и увидел в нём медные копейки – на крем-брюле.
Но тут я поднял голову, и вот: Калмыков в тяжёлом промасленном плаще и засученных штанах стоит предо мной в воде и тоже ищет.
Древние бархаты его поникли, набухли, а лицо было тёмное, исхудалое.
Показался он мне в первый момент страшен, как прокажённый.
Однако заметив моё чрезвычайное волнение, он приосанился и скинул с плеч свою хламиду, бросил её на край фонтана.
Теперь он стоял передо мной голый по пояс, нисколько не смущаясь своего тощего бледного тела. А я в те времена страшно стеснялся своего, да и сейчас стесняюсь.
В следующую минуту гений искусства уже лез на каменное возвышенье фонтана – прямо туда, откуда взвивались в синеву роскошные струи.
Он был ловок и проворен – я и сейчас вижу его рёбра, хребет.
Вскоре старик стоял наверху в патрицианской позе, с чеканно поднятым к солнцу профилем Вельзевула.
Мощная струя, извиваясь, почти сбивала его с ног, но он держался.
Это было великолепное, архаическое видение – водяной Лаокоон!
И всё только для меня!
Таким и должно быть истинное Событие.
3.
А теперь третье и финальное воспоминание.
Я забрёл в сосновый парк и сел на скамейку.
Калмыков умер в 1967-м году, значит, мне никак не больше десяти.
И я сижу, погружённый в незрелую грёзу.
И тут опять вдруг вижу его, художника моего новобрачного, на соседней скамейке.
Он рисует что-то на бумаге графитным карандашом.
А рядом с ним лежит странная круговидная лоскутная сума, которую он носил на перевязи через плечо, совсем как странник из книги схимонаха Илариона «На горах Кавказа».
И тут вдруг, как в сахарнопудренной сказке, идут мимо две чернобровые цыганки – большая в шали и крошечная цветастая девочка.
У большой тоже есть сума на боку, а в руке – бутыль.
Молочная то была бутылка – стеклянная, литровая.
И обе цыганки пьют на ходу молоко из горлышка.
И солнце светит.
И приближаются эти цыганки к скамейке оборванца-гения, которого ни НКВД не прикончило, ни Союз художников не изнасиловал, ни слава пошлая не сгубила.
И тут Калмыков тоже увидел эту бутыль. И вот бросил он рисовать, залез рукой в свою холщовую сумку и достал из неё не что иное, как резиновую длинную соску – были такие когда-то: жёлтые, вроде презерватива.
И он протянул эту соску большой цыганке: мол, надень на бутыль – будет удобнее пить.
А она взяла её и бросила в траву.
И вместо девочки эту соску стали сосать муравьи.
Так они друг друга признали – калмык и цыганки.
Тут сладкой сказочке и конец.
А сейчас я вот что подумал: какой же он был несчастный, этот гений!
Куда же завёл его этот Образ длинноногой мухи-блядушки, стрекозы-девчушки, мучивший его с младых ногтей?
Как беспросветны его картины!
Как беспощадна и злорадна судьба!
Голова его превратилась в нечто вроде стеклянной затуманенной тары, где образы и символы мировой культуры замариновались, скукожились, иссохли, превратились в коричневые крендельки и пропитанные хлороформом отходы!
И эти-то образы кромешные он таскал в себе, вынашивал и выхаживал, а потом страстно и уныло переносил на холсты, силясь вдохнуть в них жизнь цветуще-поникшего сада, тенистого парка-склепа, чудесного закоулка-погоста, катакомбы-бомбоубежища, захоронения тайного и постыдного!
А лучше бы он не силился, не бесновался, а спрятался, мальчишка, в жасминовых кустах да глядел на муравьёв и на пятнистых волосатых гусениц, и сосал мёд из цветочков махровых, и кушал пушистые незрелые персики, сорванные воровской рукой.
И пусть бы опасные образы остались на внутренней стороне его морщинистых век, а глаза бы всё смотрели на снежные хрящеватые горы, на верхушки пирамидальных тополей, на цветущие яблони да в журчащие арыки!
И пусть бы не было конвульсий изломанных линий на картоне, толчеи слов в дневниках, лихорадочных жестов на площади – всего этого тошного озноба искусства, страшной и пустоватой враждебности, исходящей из сырой пещеры одинокого испепеляющего творчества!
Но нет, всё уже случилось и закончилось.
Век-живодёр заживо рвал кожу с боков и ляжек, судьба била головой об стену, истоптались в скитаньях и бегствах подошвы и пятки, театр оперы и балета извалял мозги, тело изворочилось на лежанке из старых газет, смерть-афродита показала стариковский анус, врач Гонопольский расстелил простыни в психушке, картины-клеёнки попали в мавзолеи-музеи, искусствоведы строчат грубые, непристойные абзацы…
Так?
Так, да не так.
Ведь не всё ещё потеряно: ведь увидит же какая-нибудь ласковая и стойкая девочка холст обалдевшего мастера, обязательно увидит – и встрепенётся её воображение, и полетит она на крыльях обожания к новой вольности, и оживут, преобразятся образы поруганной красоты и замаранной непокорности, эти вот смутные образы, которые склеивал Сергей Иванович Калмыков в своей комнатёнке…
И станут эти образы в голове мальчишки или девчушки первозданно прекрасными и совершенно, умопомрачительно непокорными.
И будет мальчишка жив этими образами, и жизнь его будет артистична и неуправляема до великолепия.
Да?
Или – нет?