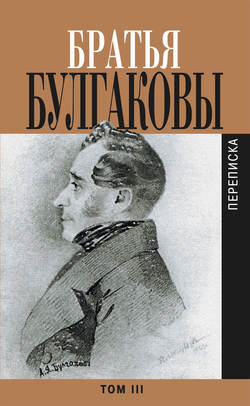Читать книгу Братья Булгаковы. Том 3. Письма 1827–1834 гг. - Александр Булгаков - Страница 1
1827 год
ОглавлениеАлександр. Москва, 1 января 1827 года
Проснувшись ранее обыкновенного, начинаю тобою. Как стукнуло 12 часов, поцеловал я Наташу за нее, а также за тебя и всех твоих. Будьте, мои любезные, все здоровы. Детям посылаю игрушку парижскую, обманку, о коей и в журналах писано было.
Бедная Сарачинская (дочь Кутузова, бывшая Кудашева) с годом кончила и жизнь, оставя множество детей. Вчера также хоронили графиню М.А.Толстую; везли ее мимо Фавста в Донской монастырь, и он сказывал, что похороны были великолепны.
Губернатор оренбургский Нелидов умер и оставил, кроме имения, 600 тысяч деньгами, кои, пишет Эссен, завещал Кириллу Нарышкину. Нашел, кому отдать, тогда как родная его сестра, вдова княгиня Голицына, по бедности живет в монастыре.
Благодарю тебя за костюмы турецких войск регулярных. Очень глупы и смешны, и понимаю, как они должны быть ненавистны народу, столь суеверному и привязанному ко всему старому, не только в одежде, но даже и к предрассудкам.
Александр. Москва, 3 января 1827 года
Вчера княгиня Зинаида забавляла своего сыночка[1]. Много было смеху и фарсов. Я был в костюме капуцина и ужасно мучил приехавшего только что Петрушу Бутурлина. Вообрази, что в полночь въехали вдруг в залу (во втором этаже – NB) Дон Кихот и Санчо Панса, верхом на живых лошадях. И насмешили, и напугали всех. Никто еще не знает, кто это был. Сама княгиня прекрасно была одета Жанной д’Арк. Все были в масках, даже старухи.
Был я у графини Чернышевой. Она разрыдалась, увидев меня. Жаль несчастную эту мать! Муравьева[2] страшна, точно тень. Вчера должна была уехать в ссылку произвольную.
Александр. Москва, 8 января 1827 года
Вчера в «Семирамиде» пошел я в ложу к Юсупову. Старик тотчас начал поздравлением и прибавил, что никогда не бывал в Архиве, но теперь поедет непременно посмотреть, а между тем Малиновский всем рассказывает, что мне дали Шульцево место. При первой с ним встрече объясню ему, что ошибается, и вообще с этим поповичем поставлю себя на холодную ногу.
Не я один, вся Москва в восхищении от великой княгини Елены Павловны. Как мило то, что она изволила тебе сказать! Но как и справедливо! Очень для меня лестны слова государя. Дай Бог, чтобы никогда мысли царские не переменились, а мое дело – никогда ничем не давать к тому повода.
Вот и Метакса в горе: его княжна Голицына (племянница графини Ростопчиной), коей имением он управляет, постригла себя в монахини. Увезла туда 60 тысяч рублей, кои надобно через 7 лет выплатить из доходов, а там имение отдаст братьям своим. Вся эта семья помешалась на католичестве.
Александр. Москва, 11 января 1827 года
Фавст явился вчера в большом смущении. Что такое сделалось? «Чего, братец, дом мой в Слободе сгорел, да не весь!» – «Так ты об этом жалеешь?» – «А почему нет? Ведь его нанимает Демидов: по контракту должен мне заплатить 35 тысяч. Я бы не стал делать глупости, строиться так далеко, а лучше долги бы этими деньгами заплатил». Вышло, что сгорел только мезонин Плетешковского дворца[3].
Демидов не хотел впустить полицию, говоря: «Пусть горит дом мой, а вы приехали только грабить». Частный пристав заметил ему, что не беда, ежели бы и все его дома сгорели, да зачем страдать соседям от его прихоти? Стало быть, отстояли дом против желания и Фавста, и Демидова. Однако же, ежели не исполнилось желание наемщика, то страх его оправдался, ибо у него украли в этот пожар богатый серебряный сервиз для завтрака. Фавст посылал своего архитектора освидетельствовать дом, а Демидов его прогнал, говоря: я исполню все по контракту, отделаю и сдам дом, как его принял. Уж подлинно, сошлись два чудака; только боюсь я, чтобы Демидов не попал наконец в Мамоновы. В прошлом году он своего управителя, молодого француза, изранил шпагою и убил было за то, что тот купил ему лошадей, кои понесли первый раз, что их заложили. Не всегда и богатство делает нас счастливыми.
Александр. Москва, 12 января 1827 года
Я тебе писал о странной бумаге Апраксина. Он просит у клуба 50 тысяч заимообразно, за кои дает себя порукою и берется выписать славную французскую труппу. Ему отвечали, что ежели она будет хороша, то между 600 членами, верно, многие охотно поедут слушать актеров; что же касается до 50 тысяч, то клуб на подобные издержки и спекуляции капиталов не имеет. Не может этот Апраксин жить без затей.
Александр. Москва, 17 января 1827 года
Ты пишешь об Уварове то, что мы знаем. Скажи, пожалуй, стоило ли труда заварить кашу, начать процесс, и от того только, что велено ему дать законный ход, посягнуть на себя[4]. Своим гнусным концом он завершает мнение, которое должно иметь об его нравственности. Жил, поступал дурно, а умер еще хуже.
Княгиня Зинаида сказывала мне вчера, что Риччи просит «Танкреда» отложить на несколько дней, будто для этого траура 9, или 12, или 20 дней не равно. Да главное то, что нет удостоверения в смерти Уварова: он исчез; это так, но мог и дать тягу куда-нибудь, сесть на корабль в Кронштадте; после года или двух можно ручаться, что он умер, а не после недели; тело его не найдено; Аменаида вместо пятницы будет отличаться в понедельник. Здесь все заняты были этой историей, но теперь заговорили о Татищеве Алекс. Ивановиче, отданном будто под суд и который сознался в страшных взятках по комиссариату. Сказывают, что вчера в клубе только и говорили, что об этом. Вот и Щербинин попался. Спасибо государю; конечно, трудно все злоупотребления вдруг искоренить, но такие примеры заставят бояться виновных и удержат распространение зла.
Вчера я опять Малиновского не застал, а Анна Петровна приняла меня только что не в передней и провожала также, радовалась, что мужу ее дан такой товарищ, и проч., ругала немилосердно графа Шереметева. Я слышал, будто Малиновского опять туго считают по больнице, что очень ему не нравится. Ну, брат, какой дом у Малиновского! Это дворец, огромные комнаты, и убрано хорошо. Дешево купили, за 60 тысяч, да, я чаю, дорого стал[5].
Александр. Москва, 18 января 1827 года
У Шепелева на балу сели ужинать, а мы с Фавстом дали тягу домой, мой милый друг. Я закурил трубку и, покуда курится, стану тебе писать. Бал был славный, но я не раз вспоминал Девонширского и тебя. Как мы тут ходили, ели, пировали! На молодого Шереметева скалили зубы и пялили глаза наши мамзели; но он только показался и, не танцевавши, уехал. Наши кумушки выдумали уже, что Шепелев для того и бал давал, чтобы дочь за него выдать. Можно подумать, что для сего один бал и надобен.
Этот Закревский, право, бесценный человек! Ржевская эта[6] в нищете. Для нее этот пенсион, что он ей выходил, великое благодеяние.
Александр. Москва, 19 января 1827 года
Вчера был я в маскараде в Собрании, было весело и много разных масок. Одна между прочим меня мучила; должен быть мужчина, все говорил о тебе, что приехал из Петербурга, что имеет письмо о тебе, которое сегодня хотел ко мне привезти, знает всех нас и общество твое хорошо. Много было также дам, но я узнать мог только княгиню Вяземскую и Зинаиду Волконскую. Я все сидел со стариком Юсуповым, который очень был весел и любезен. (Сегодня свадьба сына его.) Была пресмешная нянюшка старая, толстая такая, что насилу ходила, с нею ребеночек, в детском платье, ростом с графа Панина. Это очень было смешно.
Александр. Москва, 23 января 1827 года
Вы не только все здоровы, но и повеселились в Эрмитаже. Ежели даст Бог быть в Питере, то, я чаю, ключ отопрет и нам вход туда; а я не имею понятия, что такое эрмитажный спектакль, только желаю, чтобы дурно делалось актерам (ежели пьеса того требует), а не зрителям. Маркову [престарелому графу Аркадию Ивановичу] пора бы дома сидеть в шлафроке. А Уварова тела так и не нашли. Положение его жены странно: вдова и не вдова. Не приняли ли тело казначея за камергерское тело? Чего доброго, один другого стоит. Жаль, что не буду на свадьбе Криво-шапкина[7]; скажи ему, что я заочно на ней пляшу и желаю ему всякого благополучия и сыночка. Надеюсь, что все обошлось хорошо, не как у Юсупова. Бореньку посадили, повезли к венцу, у почтамта вспомнили, что уехали, забыв благословение отцовское; для этого надобно было, по требованию барынь (и весьма, впрочем, справедливому), воротиться. В церкви, как стали разменивать кольца, то невеста свое уронила, и оно закатилось так далеко, что никому в голову не приходило, так что искать надобно было очень долго; уверяют, будто и не нашли, а подсунули другое, чтобы сделать конец остановке. Иные говорят, что это очень худо для невесты, другие – для жениха, а третьи – что не годится для обоих. У необыкновенного жениха должны быть необыкновенные происшествия. Все говорят, что она была очень весела, а Боренька задумчив и нахмурен.
Александр. Москва, 26 января 1827 года
Вчерашний спектакль у княгини Зинаиды продолжался очень долго, почти до двух часов. Все было великолепно. Я уехал, так и не угадав слово шарады, но в восхищении от «Танкреда». Можно иметь голос красивее княгининого, но трудно лучше выразить мысль музыканта: она произносит и декламирует чудесно. Вместо того чтобы заниматься зрителями, что обычно случается с женщиной, когда она играет комедию, княгиня была вся в своей роли. Барбьер и был очень забавен в «Фанатике». Костюм уморительный, вместо шиньона, подвязанного лентой, у него была сзади маленькая скрипочка, подвешенная к парику, а его ночной колпак был барабаном. Акулова прекрасно спела, у нее красивый голос. Во второй пьесе Сталыии, очень смешной, Аллар был прелестен. Он представлял моряка, который только ругается да рассказывает о своих походах, а его все обманывают, чтобы принудить выдать дочь за молодого любовника, тогда как он обещал ее какому-то матросу. Мадам Дюмушель играла жену, Акулова – дочь, Мещерский – любовника, Ричша – субретку, а малютка Александр – слугу моряка. После была сценка из «Мещанина во дворянстве», где он берет урок, а после – второй акт из «Танкреда». О нем и говорить нечего, Риччи была прекрасна, так сильна, что ее и не сравнивали с Танкредом. Барбьери отменно сыграл Алжира. Молодой граф Михаил Бутурлин (только что приехавший из Флоренции, где, кажется, родился) исполнял маленькую роль Арбасана; у него красивый голос, и он прекрасно произносит по-итальянски. Все было отлично, но очень уж долго. Даже восхищению трудно длиться более шести часов кряду.
Меня восхищает милость государева и внимание его. Мог ли я льститься тем, что ему угодно будет вспомнить обо мне? Я постараюсь быть сколько можно полезным на этом месте. До сих пор я все наводняем визитами и поздравлениями архивских; не могу нахвалиться их ласкою, и будем жить, кажется, ладно. То самое не предвижу с Малиновским. Ох, дай Бог сил государю! Горячо за все принимается, были бы только хорошие сотрудники. Иные говорят: не искоренить зла! Почему нет? Уж то хорошо, что оно возрастать не будет.
Александр. Москва, 28 января 1827 года
Лунин уехал опять в Рязань к откупам; он очень согласен на мировую с Уваровой, но она должна утвердить завещание брата, тем более, что сим признает она, что он постановил и для нее самой. По поводу смерти. Вчера в большом новом театре был бенефис Синецкой, битком было набито; только вдруг в креслах повалился и умер некто Краснопольский. Сделался шум, полиция было унимать, но соседи покойника громко сказали: «Здесь умер человек!» Опустили среди пьесы занавес, пришли жандармы, потащили тело (что нелегко было сделать, ибо проход довольно тесен в креслах). После подняли занавес, и пьеса продолжалась, однако многие уехали, и Обресков долго возился с мертвым телом; не было ни человека, ни кареты – видно, отослал; не знали, где он живет. Умереть в театре – вещь незавидная, признаться.
Негри теперь от меня. Мамонов, катавшись, заехал вчера в его лавку, вышел, был там с полчаса, рассматривал все подробно, изъявлял нетерпение, что не было дома Негри, все его спрашивал и велел ему быть к себе завтра до обеда; но я велел ему просить согласия Маркуса и опекунов. Граф взял одну табакерку, любовался ею и положил ее в карман, сказав сыну Негри: «Надеюсь, вы мне сделаете кредит на эти 300 рублей, ибо вы знаете, что в моем распоряжении нет ни копейки, меня содержат под надзором, как узника; но ежели я вам не заплачу, то верну табакерку. Скажите Негри, чтоб пришел ко мне сим вечером или завтра утром, и что мне хочется посмотреть гравюры». Иные входили в лавку; граф не дичился и не убегал их.
Александр. Москва, 2 февраля 1827 года
Получа доверенность графини, я первым долгом почел быть у опекунов, долго толковал с велеречивым Арсеньевым. Он все оставляет опеку и радуется, что мне все сдаст. Не знаю, почему думает, что без воли государевой нельзя ему отойти. «Да ведь вы не по высочайшей воле назначены, указ не на лицо ваше; а воля государева была учредить только опеку, а вы уже избраны были дворянской опекою, так ею и уволены быть можете». – «Не думаю», – отвечал. А ежели так, то тем лучше. Г-да эти сенаторы ужасно важничают; а между тем идут в правители канцелярии и даже в управители. Завтра предъявляю опеке свою доверенность. Немного же у них в приходе: ломбардными билетами 59 тысяч, да наличными тысячи три, а расход невелик, кажется. После все это подробнее исследую. А граф опять баламутит: написал Негри предлинное письмо на четырех страницах, в коем говорит о мятежном правительстве, которое нами управляет, что Голицын шалопай, а опекуны бездельники и проч. Не бывать проку от него; но все хорошо, что он тих и что бешенство миновало.
Слава Богу, что государь к тебе милостив; но такому государю как не благоволить к усердным своим подданным? Князю Павлу Голицыну бью челом, а не забуду никогда ласки его и милой его жены, когда были мы с Волковым в Дрездене. Спроси у Сашки, уж полно – не влюблен ли он был в княгиню; а князь также и Фавстов приятель.
Меня все еще тормошат, все приезжают архивские на поклон. Вчера был племянник твоего князя [Александра Николаевича Голицына] рекомендоваться; бедный, так говорит, что едва его поймешь: рот обезображен. Не мог застрелиться, а женился-таки. Теперь приезжал граф Валериан Зубов, только не Александрович с того света, а сын его брата Николая; и этот служит в Архиве.
Вчера объявлено банкротство князя Михаила Петровича Голицына, по прозвищу Губан, на три миллиона с лишком. Многих пустит по миру. Его князь Сергей Михайлович берет на хлеба в дом к себе. Его не жалеют: дурак умел дойти до этого с 10 тысячами душ, из коих 7 продал. Жалеют о его трех побочных детях; сын уже майор, да две девицы; по несчастью, дано им было отличное воспитание; останутся на улице; странно, что эти Голицыны или скряги, или моты.
Александр. Москва, 7 февраля 1827 года
Все, что имеет нужду до опеки Мамонова, все ко мне хлынуло. Граф М.А. [Матвей Александрович Мамонов] вчера сочинил в стихах послание Богу; есть прекрасные строфы. Видно, читая оду «Бог» Державина, воспламенилось его воображение. Он спрашивал: кто опекуны? Сказал Зандрарт, что Арсеньев, Фонвизин и Булгаков. «Какой Булгаков? Тот ли, что был у меня не так давно?» – «Нет, это его брат, почт-директор». На что он расхохотался и прибавил: «Боже мой, как они глупы! Подопечный в Москве, а опекун в Петербурге». Он и прав. Пусть себе графиня переводит опеку к себе, ежели хочет, от чего, однако же, последует большая медленность во всем; но покуда, ежели хотят, чтобы все шло плавно, надобно и тебе дать мне доверенность действовать вместо тебя. Многое мелочное не кончено, потому что нет твоего разрешения и графининова. Последнее устроено теперь [то есть графиня Марья Александровна, сестра умоповрежденного, дала А.Я.Булгакову доверенность заниматься делами ее брата]; надобно бы и тебе развязать меня: это не помешает мне в случаях значащих отписываться и с тобою, и с нею, и требовать совета и разрешения.
Александр. Москва, 8 февраля 1827 года
Вчера проехал здесь Дибич. Он остановился в Москве только 8 часов и никого не видал, кроме князя И.А.Шаховского, коменданта и обер-полицеймейстера. Не знают, ни куда, а еще менее – зачем едет. Все полагают важную причину, да и кажется, что начальнику Главного штаба мудрено оставить столь важное место без важных причин.
Много делает шуму болезнь Степана Степановича Апраксина, который очень плох; и подлинно, в его лета не шутка нервическая горячка. Вчера он исповедовался и причащался и сам просил, чтобы его маслом соборовали, что он и исполнил ночью, нарочно, чтобы никто об этом не знал. У твоего петербургского соседа, Ланского, был вчера детский маскарад, на который мои, однако же, не попали, хотя и были званы; тут видел я С.А.Волкова. Он приехал от Апраксина, где он друг дома, а потому и сообщил мне достоверные подробности; он мне сказал, что Апраксин его не узнал и лежал как в забытьи в ужасном поту, что доктора признавали хорошим признаком. Он недавно был на ногах. Душевное огорчение его сразило: есть у него побочная дочь, которую выдал он за какого-то генерала, ныне пожалованного в генерал-майоры. Надобно сдавать полк, а при сдаче оказалось 120 тысяч недоимки. Степан Степанович желал спасти зятя от беды, но не было средства, ибо сам весь в долгу; нашла тоска, скопилась желчь, и он слег, отказывая лекарства. Старик-князь Ю.В.Долгоруков всех удивил. Хотя насилу сидит и скуп до бесконечности, велел себя везти к Апраксину, начал его утешать, наконец ему выговаривает, что он, имея скорбь, оную от него скрыл; кончил тем, что положил ему на стол 120 тысяч.
Апраксину стало лучше тотчас, но так как было упущено несколько дней, то болезнь усилилась между тем. В консилиуме доктора иные отчаивались, а другие еще надеются. Не знаю, каков он сегодня утром. Пошлю спросить. Дочь Щербатову не пускают к нему, потому что она все плачет и расстраивает больного. Что более делает вреда больному, это видения; их было уже несколько у него, а последнее его поразило. Он не объясняется, но когда Волков ему заметил, что находит его лучше, то он отвечал таинственно: «Мне будет лучше, когда ты пришлешь спросить обо мне, и тебе скажут, что меня нет в доме». Впрочем, он очень тверд, дал разные отпускные и награждения людям, вчера велел себя перенести в другую комнату, говоря: «Не хочу тут умереть, а на постели». Послана эстафета к сыну в Петербург. Для жены его будет это большой удар. Она его любит чрезвычайно.
Другое приключение, занимающее Москву, есть следующее. Оно вроде того, что было с Зосимою, коего роль играет один известный скряга и богач, престрашный князь Гагарин, бывший в Коломне предводителем дворянским, а Севенисову роль взял на себя некто Ник. А. Норов, женатый на княжне Голицыной. Он подвернулся к этому Гагарину, начал рассказывать о старой истории, в то время замятой, то есть что этот старый хрыч засек мальчика. Норов начал его пугать, что дело это возобновляется будто и что один он, Норов, принадлежащий к тайной полиции, вновь учрежденной, может его спасти от беды. Стали торговаться; на первый случай кащей дал в 26 тысяч заемное письмо; только Норов опять явился просить денег, а между тем Гагарин так был напуган разными безымянными письмами, кои приносили ему почтальоны будто из Петербурга и кои все были составлены Норовым, что он согласился выдать ему в 250 тысяч ломбардный билет с надписью своею. Когда Норов явился за деньгами, то Кушников [сенатор Сергей Сергеевич], остерегаясь, велел узнать у Гагарина, точно ли он дал право на сии деньги Норову, на что получа ответ утвердительный, велел деньги выдать. Все бы тем и кончилось, Норов был доволен, и скряга также радовался, что, по словам Норова, избегал Сибири, заплатя только, может быть, двадцатую часть своей фортуны. На беду, Обольянинов [губернский предводитель московского дворянства], узнав об этой истории глухо, захотел все объяснить, поехал к Гагарину и начал его допрашивать. Были две очные ставки. Не знаю, чем это кончится; только Гагарин все твердит, что он волен в своих деньгах, может их дать кому хочет, что они у него не украдены, а дал он их Норову по дружбе. «Какая же тут дружба к человеку, – спрашивает Обольянинов, – коего вы два раза в жизнь вашу видели?» Норова требовали к Шульгину, но и он то же отвечает, что и напуганный Гагарин.
Я тебя попотчевал банкротством князя Михаила Петровича, но ваша Лобанова-Безбородко перещеголяла нашего Губана. Можно ли с 500 тысячами дохода привести себя в такое положение?
Александр. Москва, 9 февраля 1827 года
Апраксин скончался вчера в пятом часу пополудни. Когда я печатал к тебе письмо, то читали над ним отходную. Гуляя пешком, я зашел проведать и нашел в передней всех людей плачущих; ему тогда было уже очень худо. Вчера только и разговора было, что о сей смерти. Доктора уверяют, что главная болезнь была моральная и пораженное воображение. Степан Степанович давно уже иначе не ездил со двора, как с кем-нибудь в карете. Он имел два видения в разные эпохи жизни; второй раз старик, который ему представился, сказал, что в третий раз явится объявить ему о кончине, и подлинно, старец дней десять тому назад явился Апраксину для сдержания слова своего, и это чрезмерно испугало и встревожило больного. Хозяин дома умер, а за стеною пели итальянцы оперу; это бы ничего, но театр был набит приятелями покойного, иные почитали себя обязанными делать печальную рожу. Апраксин был, конечно, самый пустой человек, но в столицах такого рода люди нужны. Москва лишилась большого дома, где всех принимали и часто забавляли. Нельзя не жалеть о бедной Катерине Владимировне, которая мужа очень любила и не приняла последнего его вздоха. Вчера послали эстафету с объявлением о кончине. Княгиня Зинаида должна была дать еще раз «Танкреда», но за сим печальным случаем спектакль отменен.
Александр. Москва, 11 февраля 1827 года
Ну, брат, настает прощание с Италией. Ох, жаль! А Кокошкин едет в Петербург за лентою, то есть везет, сказывают, с лишком 200 тысяч накопленных экономией своею денег. Это значит, что везде отрезывал он самонужнейшего содержания бедных актеров. Г-да эти всю пользу службы обращают на одно свое лицо. Все это толковал мне вчера Юсупов. Норов не арестован, но Шульгин сказывал, что он обо всем донес государю прямо.
Долго сидел у меня воронцовский Вигель и рассказывал о крае том. Он малый умный.
Александр. Москва, 12 февраля 1827 года
Ну, запрягла и меня также Наташа! Почти целое утро рыскал, и теперь отправляет с разными комиссиями. Княгиня Зинаида изъявила желание быть на нашем маскараде и привезти сына; очень будем рады, только, право, не знаю, где это все поместится. С двух часов гонят меня со двора, чтобы не мешал приуготовлениям. Поеду обедать в Английский клуб.
Удивляет меня тщеславие графа Маркова. Может ли оно идти за пределы гроба? 75 тысяч назначает на свои похороны! Какая глупость, малодушие! Лучше бы ему душой своею заняться, а после смерти какая нужда до тела (по крайней мере тому, кто умер)? И без того съедят черви.
Александр. Москва, 14 февраля 1827 года
Вчера был я на двух вечерах, мой милый и любезнейший друг; но подобает начинать сначала. Увы, расстались мы с итальянцами. Мы слышали вчера в последний раз «Семирамиду». Пели нельзя лучше на прощание. После начали вызывать; сперва вышли Анти, Тегиль и Този. Хлопали, кричали «браво», «счастливого пути» и т.п. Вызвали Перуцци, он был уже во фраке; его заставляли в опере два раза спеть арию его во втором акте. Потом вызвали Замбони, не игравшего даже в «Семирамиде», а там мадам Перуцци; долго ее ждали, ибо ложилась уже спать. Она, так как не кокетка, то явилась в дурном капотце, растрепанная, с зеленым платочком. Ей очень кричали и аплодировали. Когда я уехал, то вызывали суфлера, коего и труппа, и публика очень любят: он нам всем списывает все арии и любимые пьесы. Такой суфлер клад, ибо не только суфлирует слова, но бьет каданс и даже поет сам иной раз хористам при двери своей. Имея почти всего Россини, стану теперь мучить жену, чтобы все мне проигрывала, а то перезабудешь все. Я купил жизнь Россини, стану писать на нее свои замечания, ибо англичанин этот (имя в книге этой выдуманное) часто и неправду говорит. Оттуда поехал я к Зинаиде Волконской, где нашел маленькие танцы, а от нее – к Марье Ивановне Корсаковой, где нашел большие танцы. Бал был хоть куда. После ужина Софья Александровна [Волкова, супруга А.А.Волкова, дочь М.И.Корсаковой] и меня заставила танцевать. Сказывала, что получила от Сашки письмо, что он велит ей принять Попандопуло как можно получше и ласкать новую чету[8]. Скажи ты это эскулапу, о коем она и понятия не имеет. Я поехал с бала в три часа и оставил всех танцующими взапуски.
Ну, сударь, наш маскарадец очень удался. Было с 50 человек, а, право, не было ни жару, ни тесноты. Дети раза три переодевались. Зинаида мне сказывала, что давно и она, и сын ее так не веселились, ибо все было без претензии. Танцевать не переставали. Сначала дети были в розовых домино, как донна Фиорелли в «Турке в Италии», Клавдинька и немка наша турками, а я, как Замбони, с Гваренгиевым носом; после Лелька была в костюме Реро (Гаццы-Ладры), а там крестьянкою швейцарскою, а Катя жидовкою. Обе они были прелестны, и все на празднике ими восхищались. Были Саковнины, Брокеры, Обресковы, Волконские, Хрущовы, Фавстовы дети, дочь Алек. Ник. Бахметева и проч. Ужин был славный. Негри нас уморил, был в костюме старой дамы в фижмах. Дети по сю пору в восхищении от этого праздника. В городе о нем говорят как о порядочном празднике, а вчера мне приходилось только принимать комплименты красоте детей наших. Кавалеры были все архивские и славно отличались: мазурки, французские контрдансы, вальсы – всего было довольно. Честь и слава Наташе, она одна все сделала; я, право, не воображал, что так удастся.
Вяземский звал к себе ужо на вечер. После ужина княгиня с Зинаидой Волконской едут в Калугу к жене Михаила Орлова [Екатерине Николаевне, урожд. Раевской, правнучке великого Ломоносова]. Что за мысль? А за другою Зинаидою, то есть Юсуповой, волочился Вяземский. Муж очень косился; он, кажется, ревнив; а за ужином возле нее уселся наш слепой князь Фарфанон Аморозович. Вот все, что знаю. Пора в Архив, где надобно привести к присяге Бартенева и быть при торгах на перестройку каменного худого флигеля.
Александр. Москва, 15 февраля 1827 года
Сегодня хоронили Апраксина. Все было очень великолепно, но не так-то много было на похоронах, как бывало на балах покойного. Так-то всегда бывает на сем свете!
Александр. Москва, 16 февраля 1827 года
Сегодня не думал ехать в Архив, но князь Юсупов просил меня сделать некоторую выправку царствования царя Алексея Михайловича. Нечего делать, надобно угодить старику, а в этот холод хотелось было просидеть дома.
Александр. Москва, 17 февраля 1827 года
Посылаю тебе бумагу, написанную намедни Мамоновым после спора, который он имел с Зандрартом. Этот ему доказывал, что он никогда не получит свободы, ежели не будет повиноваться власти, всеми признаваемой. «Ступайте, – сказал он ему, – граф, в церковь к обедне; вы увидите, что повсюду молят Бога за императора Николая; он признан не только его подданными, но и всеми земными державами. Ваши права только у вас в воображении. Кто их поддерживает, кто признает? Никто! Вы один упорно держитесь за химеру. Что вы можете мне возразить?» – «Я вам отвечу письменно», – отвечал граф, сел и в минуту написал галиматью, которую тебе посылаю[9]; я сам списал это с подлинника, выставив все его поправки, как они в оригинале. Этот документ очень важен: он заключает в себе эссенцию Мамонова сумасшествия и может сильно опровергнуть мнение тех, кои утверждают, что он не помешан. Меня только то удивляет, что столь сильное помешательство на одном пункте не имеет никакого влияния на его умственные способности в рассуждении всех других предметов. Замечания, кои делает он на книги, кои читает, очень умны и основательны, например, на книгу Мирабо о Пруссии. Он очень много читает и пишет. Бильярд бросил совсем.
Александр. Москва, 19 февраля 1827 года
Норов, коего знаешь и мой знакомый, – прекрасный малый; мы как сойдемся, все говорим об Сицилии; он написал, кажется, путешествие, которое намерен был напечатать, а тот Норов дядя его. Кстати сказать, о родственниках сего рода. Есть некто подполковник Протопопов, хорошо служивший в гренадерском корпусе. Шульгин, зная его там, переманил в полицию и сделал его частным приставом в Таганскую часть. У него молодая, прекрасная жена, дворянка, видно, щеголиха; только намедни в городе, в лавке одной, рассматривая да разговаривая, украла она кружев, материи и всякой всячины и все привешивала к поясу, который был для того нарочно устроен; большая шуба все это прикрывала. Не знаю как, только всю эту контрабанду обнаружили, и в минуту была она окружена ужасной толпою купцов и проходящих, кои начали плевать ей в глаза, ругать воровкою… Приехав домой, эта несчастная имела удар, язык отнялся, и теперь умирает; очень это весело для мужа! Экий срам!
Сегодня едет в свою Керчь Вигель, вчера вечером был у нас; очень приятный малый, и этот тебя превозносит до небес[10].
Александр. Москва, 21 февраля 1827 года
Был у меня Зандрарт, долго сидел, толковал про Мамонова. Он опять свихнулся. Я писал тебе о пожаре, который так нас напугал. Поскольку Тверской совсем близко от забора (стены), ужас в доме графини[11] должен был быть, разумеется, куда большим. Зандрарт тотчас побежал вниз, находит графа в волнении. «Быстро сани!» – говорит он. «Зачем?» – «Хочу ехать на пожар». – «Но это далеко, за валом, г-н граф». – «Мне надобно туда ехать». – «Да зачем же?» – «А кто же будет командовать, ежели я не поеду, раз я главный фельдмаршал?» Тут начал ему Зандрарт выговаривать, что он выдает себя то за одно лицо, то за другое. Граф ему, наконец, сказал: «Вы сатана, надобно с этим покончить, берите саблю и будем биться; мы решим, кто я есть, ибо я Цезарь. Да, у меня все пороки Цезаря, но зато и все его добродетели». После чего принимается составлять портрет Цезаря, описывая все его беспутства и низости и прибавляя: «И я также…» Картина эта была столь грязна, что Зандрарт его оборвал, прибавив: «Раз так, то вы не поедете на пожар, ибо вы можете позволить себе там действия, кои я могу от вас претерпеть, но за кои на улице вас арестуют». Тот сдался на сии доводы, замолчал и спросил только дозволения спуститься на улицу, чтобы посмотреть на пожар, что ему и было дозволено.
Назавтра он был довольно покоен, но груб с Зандрартом. Этот дорого покупает хлеб свой. Он меня просит побывать сегодня у графа и умоляет сделать ему маленькое наставление. Никто, кроме Зандрарта, не говорит ему правды, поэтому граф может думать, что Зандрарт врет; надобно, чтобы другие еще подтвердили ему те же истины. Мои товарищи не хотят даже его видеть теперь, не только говорить с ним; поеду, попытаю, желая истинной его пользы и вывести его из его несчастного заблуждения. Завтра тебе напишу, что выйдет из этого. Литературные его занятия идут хорошо, много пишет и читает.
Александр. Москва, 22 февраля 1827 года
Учитель детей, чудак Лоди, вчера умер крепко уверенным, что его отравила одна петербургская барыня, которая была ему должна и которой он писал, что принужден будет жаловаться государю. Я его навещал, бедного, и не мог его разуверить; но он плакал и благодарил, что я его навестил. Он, говорят, сын побочный славного корсиканского Паоли. Фавст имел с ним странное условие. Он давал ему только половину платы за уроки детские, но заплатил ему за год (или еще два, кажется) вперед, с тем условием также, что ежели Лоди не будет ездить аккуратно, то он, Фавст, вправе его бить. Долго Лоди не соглашался, но наконец решился.
Ну, сударь, вчера был я у Мамонова и весьма длинную имел конференцию, в продолжение коей были основательные суждения, но и много вздору. Сперва был я у Зандрарта, который меня анонсировал. «Желаете ли спуститься, ваше сиятельство?» – «Охотно». Хочу я из передней идти далее, мне люди говорят: граф здесь. Я удивился видеть его тут у окна, курившего сигару. Подошел к нему, поклонился. «Что вам угодно?» – был первый вопрос. «Ваше сиятельство мне объявили, что посещения мои не будут вам противны». Видя неприличие с ним говорить в передней между лакеями, я прибавил: «Не угодно ли вам идти в те комнаты?» – «Это все равно», – отвечал он, но Зандрарт сказал: «Это недостойно вас и его превосходительства г-на Булгакова – беседовать с вами здесь». Тогда пошел он в гостиную. Слова «его превосходительства» его поразили и как будто были ему неприятны. «В каком же вы состоите чине?» – «Я действительный статский советник и в коронацию получил камергерское звание». – «Все это вздор, вы не можете быть действительным статским советником». – «Когда я вам говорю это, то вы можете мне верить; я служу 25 лет, и неудивительно, что я мог дослужиться до этого чина. Вы меня гораздо моложе сами, а генерал-майор». – «Я все и ничего», – отвечал он. Стал спиною к стене и начал, положа руки назад, качаться. Заметь, что мы оба кашляем. Я начал говорить о медиках, стал ему хвалить Маркуса. «Я ни в чем не нуждаюсь, – сказал он, – ни в Маркусе, ни в медицине, ни в ком; я себя чувствую преотлично». Тогда Зандрарт прибавил: «Да, граф, ваше физическое состояние превосходно, но мы говорим об умственном». Тогда граф отвечал с улыбкою: «Ах так? А вы тот мел, та высшая субстанция, которой надлежит вернуть мне мои умственные способности!» – «Я этого не говорил, г-н граф». А граф тотчас с насмешкою спросил меня: «В какой вы приехали карете, в четырехместной или двухместной?» Я усмехнулся сам и спросил, не хочет ли он, может быть, ехать прогуливаться со мною? «Я узник, – отвечал он, – содержащийся под надзором, мне все запрещено». – «Вовсе нет, вы выходите на воздух и могли бы пользоваться всей вашей свободою, ежели нельзя было бы опасаться, что вы ею злоупотребите; есть вещи, в коих вы упорно держитесь противоречия со всеми, это нехорошо и только бессмысленно продлевает для вас меры, кои мы вынуждены принимать». – «Почему вы не хотите открыться его превосходительству? – спросил Зандрарт. – Говорите с ним откровенно». Тут отвернулся он и, пойдя в залу большую, начал там ходить.
Я вошел туда также. Он опять поклонился, как будто не видел меня прежде, спросил, кто первый член в Архиве. «Малиновский, сенатор, а я второй». Тут вошел он в подробности о бумагах архивских, говоря: «Там должны храниться любопытные хартии», – а там опять, вспомнив, видно, мой чин, спросил цугом ли я езжу. «Это вывелось, – отвечал я, – даже и государь, и вся царская фамилия ездят в четыре лошади». Замолчал и вдруг прибавил: «Вы все утверждаете-таки, что вы генерал?» – «Я не генерал, ибо не служил в военной службе, а действительный статский советник. Зачем вас это удивляет? Мой младший брат – тайный советник; вы знаете, что он избран государем вашим опекуном. Я собираюсь ехать в Петербург, не угодно ли вам что-нибудь приказать?» – «Я, – отвечал он, – не хочу с вашим братом быть ни в письменных, ни в словесных, ни в каких сношениях». – «Послушайте, граф, с терпением: ежели уже решена необходимость опеки над вами и имением вашим, то не лучше ли, чтобы опекуном был человек честный, благородный и всем, даже государю, известный, как брат мой, нежели другой кто?»
Как я ни настоял, он все упорствовал в молчании и смотрел на меня пристально, а когда Зандрарт сказал: «Поговорите с его превосходительством, изложите ему ваши доводы откровенно», – то граф вдруг спросил: «Будете ли вы на дороге ночевать?» Меня это кольнуло, и я сказал ему: «Конечно, я ничего не сделал, чтобы заслужить вашу доверенность, но ежели бы вы знали меня короче, я смею ласкать себя мыслию, что вы иначе принимать стали бы мое предложение. Если вы меня судите слишком сурово, меня не зная, дайте мне, по крайней мере, какие-нибудь простые поручения в Петербурге. Разве у вас там нет знакомых? Так, значит, вы забыли, что у вас там сестра?» – «Говорят, будто у меня есть или была сестра». – «У вас есть сестра, графиня Марья, она, по правде, часто болеет, и отчасти это из-за вас; я, разумеется, собираюсь навестить ее в Петербурге». – «Ежели вы ее увидите, я прошу вас поцеловать ее от моего имени». Но в словах сих было такое отсутствие всякого выражения, что я не сумел разгадать, произнес ли он их из любви или в насмешку; ибо чужой человек не может получить позволения, особливо от него, целовать его сестру.
Когда увижу Маркуса, то спрошу у него, не хорошо ли было бы, ежели б графиня написала письмо брату с благодарностью за то, что он ее помнит. Словом, я был первым, кто решился напомнить ему о существовании у него сестры, ибо Арсеньев утверждал: «Ему не надобно и напоминать о сестре, а то он взбесится». В другой раз поговорю с ним подробнее, ибо в этот раз он был в дурном настроении. Зандрарт говорит, что это оттого, что, когда обо мне объявили, он писал, и бросил перо, чтобы идти меня встречать, и, найдя меня в первой комнате, принялся болтать. Может быть, со временем он ко мне привыкнет. Было бы слишком долго пересказывать тебе всю нашу беседу, я сообщил только основные черты. Когда я у него спросил: «Не встревожил ли вас намедни пожар?» – «Меня ничто ни встревожить, ни испугать не может».
Я закончу одной особенностью, которая ничтожна сама по себе, но доставила мне случай вставить слово, которое, кажется, графа смутило. Окидывая взглядом залу, я сказал: «Сколько я веселился, видал танцев и пения слышал в этой зале! Здесь жил граф Чернышев». – «Какой Чернышев? Это что выдает себя за генерал-адъютанта?» – «Нет, не тот; но тот не выдает себя, а точно генерал-адъютант императора, а я говорю о графе Григории Ивановиче». – «Это обер-шенк, – отвечал граф, – а какой присваивает он себе чин?» – «Он не присваивает себе, а имеет точно чин действительного тайного советника». – «Где он теперь?» – «Он приехал из Петербурга». – «Зачем ездил туда?» – «Прощаться с сыном». – «Сын, верно, едет в Грузию?» – «Нет, он, по несчастью, осужден следственной комиссией за участие в некотором заговоре».
Граф стал часто посматривать на Зандрарта, а между тем спрашивать стал, какой имел чин Чернышев (и все его смешивал с генерал-адъютантом), против кого был заговор, на какое осужден наказание Чернышев, куда сослан, показывал довольный вид и вообще говорил с жаром, какого я не примечал в прежних разговорах. Ежели он подлинно был замешан серьезно в сем заговоре, как некоторые думают, то, верно, заметил бы я какое-нибудь смущение, а тут заметно было только любопытство знать все. Я, однако же, прервал разговор. «Оставим, – сказал я, – этих несчастных; надобно все это предать забвению, а буйным головам это уроком должно служить». Я говорил, что довольно хорошо играю в бильярд, предлагал сразиться когда-нибудь; граф отвечал: «Я не могу играть с вами, ибо только что в шар попадаю».
Надобно бы мне все это отписывать графине, но, право, недосуг сегодня. Прошу тебя, милый мой, прочитать все это графине и передать это прилагаемое при сем сообщение Зандрарта. Это подлинный козел отпущения, он дорого покупает свой хлеб, ибо граф обходится с ним либо презрительно, либо с крайней холодностью. Однако бывают минуты, когда он с ним мягок. Я же, милый мой, всегда буду говорить, что Маркус и Эвениус оказывают ему выдающиеся услуги; они привели больного в спокойное состояние, безумие его сосредоточилось в единственном пункте безмерной гордыни, от чего он никогда в жизни не вылечится. Навещу его еще раз и, поскольку объявил ему о своем праве, буду говорить с ним еще тверже в будущем. Графа одевали во все новое и опрятно, но он сказал, что бретельки его стесняют, галстук тоже, а также и сапоги, и что, будучи у себя дома, он может одеваться, как хочет; на это нечего было возразить, так что он вернулся к своему прежнему наряду.
Александр. Москва, 28 февраля 1827 года
Какое же сомнение, что Мамонов помешан? Графине посылаю я его стихотворения, о коих она меня просит; тут нет признаков сумасшествия, все плавно и хорошо; зато тебе посылаю бумаги совсем в другом роде. Не знаю, ей приятно ли читать их; не думаю; впрочем, оставляю на твою волю, казать ей или нет. Я списал их с оригиналов. Первое. Ты помнишь пожар, о коем я тебе писал. Мамонов хотел непременно туда ехать, Зандрарт не позволил; граф, войдя в кабинет, написал протестацию. Полюбуйся титулами, кои себе присваивает; смешно, что ко всем сим почестям прибавляет он титул полицейского офицера. Второе. Разговор в Царстве Мертвых его доктора Маркуса с Марком-Аврелием, в кои жалует он себя. Это очень замечательно, ибо он тут сознается, что он безумный и что Маркус ему грозит холодной ванной и велит связать ему руки. Этот диалог совершенно уморительный. Третье. Это беседа между Ангелом и Ангелом-Императором (опять он будто); не давали ли ему это имя в какой-нибудь ложе масонской или другом обществе? Он что-то часто называет себя ангелом. Покуда пишу тебе о нем, приходили уже трое требовать деньги по счетам графским. Право, срам, что заставляют кричать и жаловаться, тогда как деньги эти признаны законными, а деньги у Арсеньева лежат. Я жду только указ свой из опеки, чтобы напасть на моих товарищей.
Александр. Москва, 5 марта 1827 года
Лодер был у меня более часу вчера, рассказывал мне предлинную рацею, как он покойному государю подносил какую-то славную книгу медицинскую, над которой работает 20 лет и коей одни доски стоят ему более 10 тысяч; как он эту книгу огромную хотел царствующему императору поднести, как государь велел ему через твоего князя [то есть Александра Николаевича Голицына] написать, что желает, чтобы посвящение оставалось покойному государю, хотя сам и приемлет книгу, и проч. и проч. Да полно, не рассказывает ли он сам тебе в письме своем, здесь прилагаемом, всю эту историю? Дело в том, чтобы покончить с этим, что он просит тебя убедительно посылки сии (распечатав их, найдешь книзу надпись в Лондон, как следует) отправить надлежащим образом в Лондон; тут доски или оригинальные рисунки, кои должны быть выгравированы в Лондоне. Возьми на себя этот труд.
Александр. Москва, 7 марта 1827 года
Побранил я молодого Соболевского, который осмелился сюда [то есть в Архив, где Булгаков начальствовал вместе с Малиновским] приехать в сюртуке. «Архив не постоялый двор, сударь». – «Но я думал, что вы сегодня не приедете». – «Да ведь речь не обо мне, вы должны иметь более почтения к портрету императора, который здесь висит, чем к моей особе; я вас скорее простил бы за приезд ко мне домой в сюртуке, чем сюда». Извинялся и сам почувствовал свою ошибку. Ему товарищи прежде уже говорили, что это не годится, но он не послушался, и потому я его не поберег, а то сказал бы ему то же, но с глазу на глаз. Надобно молодчиков проучивать.
Александр. Москва, 10 марта 1827 года
Ты, я думаю, помнишь молодого Свербеева, бывшего при швейцарской миссии с Крюднером; он только что женился на молодой княжне Щербатовой. Он занемог горячкою, и говорят, что болезнь берет дурной оборот.
Я оканчиваю письмо это в Архиве, куда сегодня и Малиновский явился: есть бумаги от графа [то есть от графа Нессельроде] и Блудова, по коим надобно рыться и сделать исполнение. Сенатор очень меня благодарил за старание твое о Егорове и предлагал мне взамен свои услуги, в чем ему можно будет.
Вяземский пишет мне узнать через Маркуса о состоянии Свербеева и прибавляет: «Сделай одолжение, напиши брату, чтобы он мне прислал через тебя книги, ему для меня из Дрездена от Жуковского и Тургенева присланные. Мне эти книги нужны по моим журнальным занятиям» [князь Вяземский в то время сотрудничал с Н.А.Полевым в издании «Московского Телеграфа»].
Александр. Москва, 11 марта 1827 года
Зима наша хоть куда, то есть новая. Мороз, и снегу более теперь, нежели когда-либо, а были дни такие весенние, что я поэта Пушкина видал на бульваре в одном фраке; но правда и то, что пылкое воображение стоит шубы.
Александр. Москва, 12 марта 1827 года
Вчера было совещание по делам князя Михаила Петровича Голицына; миллион 400 тысяч долгу обозначены на залогах, это все уплатится, а миллион 800 тысяч без обеспечения, этим достанется по 15 или 20 копеек на рубль. Голицын имел бесстыдство показать, что разорен был французами; ему доказали, что он после 12-го года продал имение на два миллиона почти; он отвечал, что сделал это для заплаты долгов. Как же, без особенных несчастий, долги не только не истребились или уменьшились, но вдвое возросли? Никто не понимает этой загадки, и думают, что он перевел капиталы в чужие края. С нашим Бравурою нехорошо он поступил; он у него просил 6300 рублей по 40 на сто на 4 месяца, а Бравура отвечал, что он не жид, а очень рад, что может князя ссудить сею суммою, взяв с него 6 процентов, и дал; теперь он, бедный, за свою честность должен терять свои деньги.
Александр. Москва, 16 марта 1827 года
Здесь слух, что в Париже умер князь Тюфякин. И не верится, скажет Губан Голицын, ибо этот обанкротившийся князек – наследник тюфякинского материнского имения, а оно составляет 2000 душ. Между тем его согнали из дому, и он живет у князя Сергея Михайловича Голицына, который определил ему по 2000 рублей в месяц пенсии. Это прекрасная черта со стороны князя Сергея. Пусть и говорят, что он богат, да ведь мог иначе употребить сии деньги. Другой бы затаил зло на князя Михаила, коего князь Сергей наследник.
Александр. Москва, 17 марта 1827 года
Не знаю, писал ли я тебе о странной ссоре, бывшей в клубе? Некто Щукин подает мнение, чтобы члены имели право не платить за целый ужин, а требовать только одного такого-то блюда и платить за одну только порцию. Против сего восстало большинство, и возражение писано было профессором Давыдовым. Слушая оное, профессор Каченовский был поражен слогом, спросил, кто писал, и узнает, что это Давыдов, друг его, с коим в университете они всегда одного мнения. Тут начал он ему выговаривать, что таил от него мнение свое, стал убеждать, чтобы отступился от оного; но Давыдов не согласился, и теперь два профессора, бывшие друзьями, поссорились за порцию кушанья. Этот вздорный спор вооружает одну часть Английского клуба против другой, как важное какое-нибудь дело, и вчера еще был большой шум, а в субботу станут баллотировать вздор этот, и я тебя этим вздором потчую, не имея ничего лучшего писать.
Александр. Москва, 18 марта 1827 года
Вяземский писал биографию графа Аркадия Ивановича Маркова и просил меня достать ему некоторые справки из Архива; надобно было рыться почти целое утро, но наконец исполнил его комиссию[12]. Перебрал множество старых календарей и бумаг.
Александр. Москва, 23 марта 1827 года
Вчера был у нас Малиновский и сидел более часу. Очень и он, и все жалеют о преждевременной кончине бедного Веневитинова. Прекрасный был молодой человек. Мать, сказывают, в ужаснейшем положении. Княгиня Зинаида объявила ей о несчастий, ее постигшем. Незавидная комиссия! Все архивские товарищи, любившие очень покойника, плачут как о брате.
Александр. Москва, 29 марта 1827 года
Спор в клубе кончился, и не в твою пользу: ужин остался по-прежнему, порции одной требовать нельзя, кроме бутерброда, размазни и жаркого. Последнее, видно, тебе в угодность. Выбрали новых старшин, а именно: губернатора Безобразова, Ивана Ивановича Дмитриева, Масальского, Ивана Дмитриевича Нарышкина, князя Сергея Ал. Волконского, князя Павла Павловича Гагарина и Горяйнова. Были интриги для избрания некоего Гейера (бывшего любовника княгини Варвары Юрьевны Горчаковой), да не удалось.
Как скоро статья Вяземского о графе Маркове выйдет в «Телеграфе», я тебе сообщу. Желательно бы что-нибудь подробнее, но и это хорошо.
Видно, Дибич все дело сладил, что Паскевич едет оттуда, да и его самого сегодня ожидают в Москву. В Комиссариате и госпитале военном все приготовлено на показ ему.
И поэтому надобно полагать, что Долгоруков [князь Алексей Алексеевич, министр юстиции] у вас останется, что переводит сына из Архива в Коллегию. Все его товарищи сенатора крепко добиваются, что будет с ним; иные любят его, иные – нет, третьи, а может, и все – завидуют!
Скажи графине, что брат ее говеет, ездил к обедне в свой приход; все это хорошо, увидим, что будет, как дойдет до причастия. Духовник и прошлого года после исповеди объявил, что не может его допустить до причастия. Булгарин расписал в «Пчеле» своей концерт Шимановской довольно надуто. Вчера в клубе читал громко Вяземский, а Иван Иванович Дмитриев и Пушкин Александр смеялись, делая критические замечания.
Александр. Москва, 4 апреля 1827 года
Ну, брат, поездил я вчера с визитами; слушай и считай: у князя Дмитрия Владимировича, Филарета, Обольянинова, Корсакова, Чернышевых, Обресковых, Малиновского, Ростопчиной, Нарышкиной и Милашевичевой (которая не на шутку слегла), Курбатова, князя Сергея Михайловича Голицына, Юсупова, Арсеньева, Фонвизина, графа Мамонова (но не видал), Глебовой, Черткова, княгини Катерины Ал. Волконской, Л.А.Яковлева, тестя; кажется, все, да, кажется, и довольно.
Только в городе и разговору, что о Ермолове, с разными толками. Он имеет сильную партию, но ежели судить беспристрастно, не по прежней его репутации, то что же сделал он в 10 лет и страшными способами, которые были ему даны? А как было ему не предвидеть, не предупредить это дерзкое вторжение в наши пределы такого человека, каков Абас-Мирза? Я сужу, впрочем, как слепой. Всякий спрашивает, что с Ермоловым будет? Как не попал ни в Совет, ни в другие назначения, как не смягчено удаление его и проч.? Может быть, и было ему предложено; но он по нраву своему все отказал, предпочитая отставку. Иные говорят, что он здесь остается; другие – что купил уже дом где-то в Крыму. Слух здесь носится о войне с турками. Ты знаешь, что Москва не может жить без вестей и предположений.
Александр. Москва, 9 апреля 1827 года
Ну, брат, как обрадовал ты Волковых! Получив приказ, я тотчас к нему; нет дома ни его, ни славной женщины. Досадно! Сажусь, пишу записку и приказываю жандарму отыскать его, где бы ни был, а нельзя его, то Софью Александровну. Воротясь домой, Наташа говорит: «Иди на качели, они, разумеется, там». Я под Новинское, это недалеко. Первое лицо в толпе – Волков, в синем своем мундире. Я ну его целовать и поздравлять. «Милый мой, я не поверю, пока приказ не увижу». – «Да брат пишет». – «Брат пишет; да кабы было верно, то прислал бы приказ». – «Экий ты неугомонный, ну вот тебе и приказ». Взял меня за руку. «Ну, пойдем искать жену», – искать, искать, – наконец видим идущую, летящую к нам славную женщину с радостной улыбкой. Я спрятался. «Милый друг, я должен объявить вам хорошую новость». – «Что такое?» – «Пашка – офицер». – «Вздор!» – «Право, вот читай записку Булгакова, мне ее привез жандарм сию минуту». – «Да вздор! Сколько раз нас обманывали, ведь приказа нет? Нет!» Уж тут я не стерпел: «Вынимай, варвар, жандармская душа, приказ; дай прочесть офицерской матери патент родимого сынка».
Оба, особливо Софья Александровна, были вне себя от радости. Тотчас схватили с улицы жандарма и отправили верхом к Марье Ивановне Корсаковой с приказом и поздравлениями, меня потащили насильно к себе обедать, и пили шампанское за здравие господина офицера.
У тестя был пир на весь мир, как и всякий год; ты знаешь, что в пятницу бывает гулянье на Пречистенке. Я тут обрадовал также княгиню Долгорукову, которая не знала ничего о ленте мужа ее. О боже мой! Видел я тут, что это – свет! Это женщина (простая и тихая), с которой прежде и говорить никто не хотел; теперь все вились около нее, а сенатор Кашкин сбил было другого сенатора, Каверина, с ног, промчась мимо него, чтобы идти дать руку и вести за стол княгиню Долгорукову, потому что Обольянинов объявил, что его знакомый читал рескрипт государя к князю А.А. о бытии его на место Лобанова. Князь Дмитрий Владимирович меня спрашивает, правда ли это; я отвечал, что это дело сбыточное, но что по последним письмам из Петербурга от 4-го этого еще не было, и что князь А.А. тебе сказал, что ждут просуху, чтобы ехать в Москву. «Я вас уверить смею, – сказал Обольянинов, – что Долгоруков министром и сюда не возвратится». – «А я думаю, – отвечал я ему, – что ежели князь и будет министром, то все-таки приедет в Москву, чтобы раз навсегда устроить свои дела». Весь этот вечер прошел в спорах за и против. Я желаю, чтобы это было для пользы службы, да и с князем А.А. был я всегда в хороших очень отношениях.
Александр. Москва, 12 апреля 1827 года
Кривцов и в Нижнем несдобровал. Его жена здесь и все не ехала. «Подожду, – сказала она Исленьевым, – того и гляди, что муж что-нибудь и тут напроказит, и его отставят»; так и вышло. Экий чудак! А все говорят, что человек честный и благонамеренный. Ты пишешь, что на его место вице-губернатор, но не говоришь, какой; видно, забыл ты прибавить слово ваш, ибо точно Храповицкий назначен в Нижний: ему пишет это генерал-адъютант и кузен Храповицкий. А наш бывший вице-губернатор взял дилижанс и скачет в Петербург отговариваться от губернаторства этого, желая быть в Орле или Смоленске.
Это, видно, Лиза Строганова выходит за Салтыкова; а я с другим его братом, что женат на княгини Горчаковой дочери, играл намедни в мушку у княгини Волконской. Какой он тщедушный! Зато она плотна и, вероятно, пойдет по матушке.
Александр. Москва, 13 апреля 1827 года
Волков[13] разворачивает обширную деятельность и беспрестанно занят комиссиями, кои все стремятся к искоренению злоупотреблений и воровства. Недавно обыграли молодого Полторацкого [Сергея Дмитриевича], что женат на Киндяковой, на 700 тысяч рублей; тут потрудились Американец Толстой и Исленьев, а теперь известный разбойник Нащокин обидел какого-то молодого человека, коего увез играть в Серпухов. Как накажут путем одного из сих мерзавцев, то перестанут играть.
Александр. Москва, 19 апреля 1827 года
Моя жена как ребенок радуется. Ты помнишь, что старичок Нечаев, недавно умерший, оставил завещание; но оно так бестолково и противозаконно, что нельзя оное исполнить. Об имении будут долго спориться разные претендаторы. Между тем, в завещании сказано также было: Наталье Васильевне, ее превосходительству Булгаковой, – перстень. Это было ясно выражено; итак, г-н Полуденский, душеприказчик, просил меня зайти этим утром в Воспитательный дом; он принес мне шкатулку покойного, в коей находились все драгоценности, кои тот оставил, и дал мне выбрать из шестнадцати перстней (всех полученных от щедрот императрицы-матери) тот, что мне более всего понравится. Как в таком случае всегда самым красивым станет тот, что будет самым богатым, то я выбрал монстра, лишенного изящества, но оцененного Кабинетом в 4000 рублей. Он по-прежнему стоит более 3000. В нем изумруд посредине, а вокруг довольно большие бриллианты. Наташе очень понравился даровой конь, а потому и в зубы ему не смотрела, а надела на палец; полруки закрыто от перстня, и она ходит, как павлин. Это хорошо, но что еще лучше перстня, это то, что ей лучше да лучше самой: показался славный аппетит и цвет в лице.
Я получил пренежную записку от нежного Малиновского, который спрашивает, каково здоровье ее превосходительства Натальи Васильевны, и когда я еду? Я нашел «ее превосходительство» очень смешным в его устах. Ответ – что ее превосходительству лучше, а я скоро еду и приеду с ним проститься[14].
Александр. Москва, 22 апреля 1827 года
Новосильцев сказывал мне, что есть указ Сенату судить Витберга, к которому приставлен часовой, а также и к Руничу, и трем другим, в комиссии сей заседающим. Никто о Витберге не жалеет; он был очень дерзок в обхождении своем со всеми. Сим теряет он право на участие и снисхождение.
На Кокошкина все косились. Он лишил публику удовольствия [то есть учреждения в Москве французского театра]. Вчера поутру был он у князя Дмитрия Владимировича; видно, оправдываться. Новосильцев доложил. «Скажите, что меня нет, скажите что хотите; не желаю видеть эту рожу», – отвечал князь. Новосильцев, выйдя из кабинета, пустил Кокошкину каламбур, сказав ему: «Князь видеть вас не может!»
Все на этом обеде наполнены были новостью, написанной Дегаю из Петербурга, что князь Дмитрий Иванович Лобанов болен и что наш Арсений правит его должность. Это было бы не секрет, и, верно, ты бы мне написал, тем более, что ты говоришь мне о Закревском в последнем письме твоем. Да и с какой стати Закревскому, который не переставал быть финляндским генерал-губернатором, занимать другое место? Все со мною спорили, я им позволял говорить. Тут нет ничего дурного для нашего общего приятеля.
Александр. Москва, 23 апреля 1827 года
Когда будешь писать доброму Каподистрии, ото всех нас поклон дружеский. Я отнял у Свербеева портрет его литографированный и довольно похожий, с простой надписью внизу: «Каподистрия». Не знаю, есть ли он у тебя. По этому портрету – он очень состарился и похудел.
Намедни как я удивился! Иду с Фавстом пешком к Николевой; вижу – вдали идет к нам навстречу женщина одна-одинешенька, в вуали, без человека, разряжена. Фавст говорит: «Посмотри-ка – верно, это девка?» – «Нет, это, должно быть, иностранка», – отвечал я. Только как поравнялись, вышло, что это княгиня Зинаида, с коей я остановился и говорил. Фавст отчего-то не одобрил этого. Как можно, говорит он, ходить так одной! Ну, как нападет собака? Кому до чего, а Фавсту все до собак, как будто собака не может укусить и гренадера; опаснее гораздо молодчики и хваты. Как схватит эдакий в объятья да станет целовать и к себе прижимать, так не прогневайся, Зинаида: у нее на лбу не написано, кто и что она.
Умер известный богач и скряга, князь П.И.Гагарин, тот, коего Норов обдул. Он оставил бездну денег и большое имение. Большая часть достанется князю И.А.Гагарину, что живет с Семеновой. Думают, что теперь он на ней женится и сим узаконит детей, коих от нее имеет. Теперь Гагарину придется возиться с Норовым. А старик умер, имея под головами ломбардные свои билеты. По уверениям иных, остается 3 миллиона денег, а другие говорят, что чистых только 750 тысяч, да на столько же векселей, из коих большая часть с залогами. Это годится, особливо многодетному князю Ивану Александровичу.
Александр. Москва, 27 апреля 1827 года
Покража у Полетики довольно странна, и кажется, вор должен отыскаться. А меня у Зинаиды как душил Волконский-заика: поймал меня на лестнице, да все провожал и держал полчаса, рассказывая. «Какая со мной беда, ты не слышал?» – «Нет!» (Хотел сказать «да», чтобы избавиться от длинной, скучной реляции.) – «Вообрази (я стану чрезмерно сокращать), вообрази, что ложусь спать, по обыкновению, сплю, просыпаюсь, иду в кабинет – ничего, иду в сад, гуляю, возвращаюсь в кабинет – ничего, иду к жене, завтракаю – ничего, возвращаюсь в кабинет – опять ничего, одеваюсь – хвать! Что же? Вообрази себе – не нахожу своих часов и… двух полуимпериалов! Куда девались? Просто ук-ук-кккрали!» Насилу фатальное слово выговорил. Стоило труда так долго рассказывать? Я думал, что миллион пропал. Увидав тут Шульгина [московского обер-полицмейстера], я пожалел о нем, и подлинно, мой заика впился в него и не дал ему и «Танкреда» послушать. Ох, куда тяжел этот князек!
Вообрази, что старику-богачу Гагарину было 114 лет. Это видно по купчей, которую у него нашли. Какая-то тетка отказала ему имение, когда он был еще малолетний, шести лет, а акт написан в 1719 году. Каков же молодец! А на лицо глядя, нельзя было дать ему более 80. Нам, брат, до этого не дожить, но он целый век жил без забот.
Александр. Москва, 28 апреля 1827 года
Мамонову гораздо лучше: сам забрал Маркуса, который возвратил ему свободу, перья, бумагу и книги; очень желает скорее переехать на дачу. Вчера мы осматривали Васильевское с Фонвизиным, а сегодня он едет в Дубровицы, чтобы перевезти оттуда библиотеку; а то она совсем там сгниет, будучи в большой, холодной, сырой зале. Граф сам заговаривал о сестре своей, называя ее сестрою, а мне тогда говорил: «Говорят, будто у меня есть или была сестра». Совершенного излечения не надобно ожидать, это невозможно, но успехи очевидны: он все-таки в лучшем положении, нежели был. Арсеньев подал в отставку. Фонвизин без меня или другого опекуна порядочного оставаться не хочет. Я пересматривал все бумаги, касающиеся до управления имением, и могу тебя уверить, что хозяйственнее, порядочнее и полезнее для опекаемого управлять имением невозможно. Время, впрочем, все это покажет, и ежели графиня не возьмется сама за управление (и бог знает, лучше ли будет тогда), то очень умно сделает, оставя все, как оно есть.
Александр. Москва, 2 мая 1827 года
Такого 1 мая никто не запомнит. Точно лето! Я на своем термометре в тени после обеда видел 21 градус теплоты. Гулянье было прелестнейшее, только пыль ужасная. Я ездил один с детьми; нас затащил к себе в палатку Шепелев, у коего был весь бомонд. Он познакомил своих дочерей с моими. Потчевание было превеликолепное, только как мало хороших экипажей! То ли бывало в старину! Слова эти доказывают, что и я становлюсь стар, ибо молодые не в праве говорить о том, чего не видали. Заметил я также то, что много было безобразных костюмов, особенно мужских; также посмеялись мы и над щеголихами. Я так устал от зевания и пыли, что в одиннадцатом часу лег спать, прогнав Попандопуло с женой, а они было приехали на вечер, но в это воскресенье не было у нас ничего. И эскулап [то есть доктор Константин Анастасьевич Попандопуло] также катал свою чету в коляске.
Есть прекрасный молодой человек Бахметев, сын заводчика хрустального Николая Алексеевича, а он сам Алексей Николаевич [кончивший жизнь попечителем Московского учебного округа] и был адъютантом графа П.А.Толстого, едет лечиться в чужие края. Я хотел его ввести к тебе в дом, но боюсь, чтобы он не уехал, не дождавшись меня, а потому и пошлю ему рекомендательные письма: первое – к тебе, а второе – к приятелям моим в чужих краях. Он прекрасный молодой человек и один сын у богатого отца.
Александр. Москва, 3 мая 1827 года
Я получил твои несколько строк о назначении Долгорукова и отставке князя Якова Ивановича. О последнем сказал я его племяннику, бывшему губернатору рязанскому. Он обрадовался и прибавил: «Давно этого хотелось дядюшке, теперь он приедет в Москву и здесь поселится, а мы станем его обыгрывать в бильярд». Много было споров о Долгорукове, что будет и не будет. Волков мне сказывал, что князю Дмитрию Ивановичу не хотелось его иметь товарищем, а Долгорукову не хотелось быть на одном ряду с Блудовым и Дашковым; видно, все это согласилось. Здесь в Сенате много наделает это шуму.
В Клину, в деревне, мужики убили своего помещика, какого-то князя Сергея Михайловича Оболенского; предводитель, воротившийся со следствия, сказывал мне, что все мужики плачут, называя его отцом своим, а сделал все это бурмистр, и вышло все за какую-то девку, по ревности. Несчастный князь не скоро умер и мучился несколько времени.
Александр. Москва, 4 мая 1827 года
Юсупов возится все с комиссией, бывшей в руках у Витберга; только все его чиновники отказываются. Однако же Гедеонову вверено управление имениями, купленными в казну для храма, князю Цицианову – деньги и материалы, прочее еще не распределено. Немало будет тут работы.
Князя Андрея Петровича Оболенского дочь, что за Волковым Николаем Аполлоновичем, очень больна, так что послали за отцом в подмосковную. Она всегда была слабенькая и тщедушная.
Александр. Москва, 5 мая 1827 года
Ты мне не писал ничего о Костакиевой истории с Сушковым[15]. Куда как эта фамилия несчастлива, и как часто достаются ей оплеухи! Старик Варлам уже очень стар, а более хил, нежели стар. Сын его все еще при Воронцове или нет? Жаль, ежели лишится своей виною столь прекрасного начальника. Ты сделал для всех членов этой семьи все, что смертному только возможно.
Не имея, о чем тебе говорить, сообщу смешной анекдот, случившийся 1 мая на гулянье. Юсупов пошел в лесок, взяв с собою Савельича, наряженного в глазетовый кафтан и распудренного. Возвращаясь оттуда, встречают они какую-то женщину, мещанку или купчиху. Юсупов ей говорит: «Ударь его (Савельича) в щеку, я дам тебе целковый!» – «Ах, батюшка, как я смею, ваше превосходительство». – «Да ведь это шут Иван Савельич!» – «Ах, батюшка, да вы меня обманываете; целковый бы мне и годился, да это, я чаю, барин, как вы: вишь, у него золотой кафтан». А Савельич ей в ответ: «И, ма шер, что ты его слушаешь, он все врет; я – князь Юсупов, меня все знают, а ты лучше его (указывая на Юсупова) ударь, так я тебе дам три целковых». Видно, Савельича голос более ее убедил, потому что она чуть было не заехала старого татарского князя по шее.
Александр. Москва, 9 мая 1827 года
Я все вожусь со швейцарами. Приходил умирающий с голоду швейцар покойного графа Ростопчина: пятеро детей, жена четыре года больна, места лишился, просится хоть в дворники; жаль бедного! Графиня съехала с Лубянского дома, наняла дом Караса за Масальским в переулке, а тому дому станут делать опись, по коей Брокер должен за все ответствовать. Много она накутерьмила, и конец ее будет незавидный. Она попалась в руки к Крюкову, или, лучше, Крюковой, заявленной бестии (хотя она и теща Лонгинова), граф Федор Васильевич в дом ее не пускал. Графине вбили в голову скупать векселя графа Сергея Федоровича. Я знаю, что одному моему знакомому отдавали в 60 тысяч вексель, данный Ростопчиным Сабурову, за 3000 рублей, а теперь графиню заставили купить этот вексель за 14 тысяч. Ей кажется, это находка, а это спекуляция только для советчиков ее. Мне сказывал предводитель Вырубов, что с тех пор, что существует опека, не выдано еще таких удовлетворительных отчетов, как те, что подал Брокер об управлении своем имением малолетнего. Такого порядка и соблюдения польз малолетнего не видали мы, говорит он, ни от одного отца или матерей, не только от неродственного опекуна.
Вчера подходит ко мне в клубе некто Хомяков, коего знаю только с виду, и говорит, что имеет долг благодарить меня за твою ласку, и что ты, зная его мало, способствовал его помещению, кажется, за обер-прокурорский стол. Человек, кажется, порядочный, и тесть мне его хвалил. В клубе нашел я также неожиданного хромого Кривцова. Я и не спросил, здесь ли он думает поселиться.
Александр. Москва, 16 мая 1827 года
Вчера купил я славный телескоп у Пристлея для Мамонова. Он ведет себя нельзя лучше, обрил усы, уменьшил бакенбарды, одевается опрятно, очень учтив. Одним словом,
Маркус так им доволен, что на днях будем у него обедать, и даже хочет, чтобы Наташа поехала туда с детьми; но я прежде желаю знать от графа самого, не будет ли это ему неприятно. Арсеньев отошел решительно, вчера сдал он мне все книги, счета и деньги, коих всего-навсего тысяч одиннадцать, семь ломбардными билетами, а остальное деньгами. Было до 60 тысяч, но уплатили все долги графские; теперь не должен он ни гроша. Арсеньев пустой человек, с Фонвизиным лучше можно ладить. Только, все-таки, признаюсь тебе, что неприятно мне брать хлопоты на себя, без малейшей пользы для себя. Делаю это, любя графиню, а буду ее просить меня уволить. Жаль, если не будет кто-нибудь серьезно заниматься особою брата ее. Я все одного мнения, что вылечить его нельзя, но можно очень облегчить участь его. Перевод опеки в Петербург для меня непонятен; граф здесь, имения около Москвы, сама графиня сюда же собирается и на житье. Все это объяснится, когда буду с вами.
Александр. Москва, 19 мая 1827 года
Волков возвратился из Вязьмы, очень доволен, весел и здоров. В субботу имел он счастие обедать у государя. Император очень был доволен войсками, а они все в восхищении от царя своего. Великий князь все Москву хвалит. «Сделай мне одолжение, – сказал он Волкову, – упроси князя Голицына, чтобы он взял меня к себе в частные приставы». – «Потише, – отвечал Волков, – извольте-ка, ваше высочество, прежде послужить хожалым или, по крайней мере, квартальным надзирателем». Михаил Павлович очень этому смеялся. Ничего особенного не было в Вязьме. Дибич вступает в свою старую должность, а граф П. А. Тол стой собирается завернуть в Москву. Бедный Сухозанет упал с лошади и вывихнул себе спину, ужасно мучился, но было лучше, как Волков уезжал. В Вязьму поехала бездна народу из окружностей и много очень дам. Волков сказывал мне под секретом, что государь изволил писать Аракчееву, что воля его величества есть, чтобы он взял свои меры не находиться никогда там, где изволит быть государь, и избегать с ним всякую встречу. Надобно думать, что это последствие какого-нибудь письма или домогательства Аракчеева видеть государя.
Александр. Москва, 20 мая 1827 года
Зандрарт вчера у меня был. Кажется, что у графа начало горячки; вчера был жар сильный, и он из комнаты не выходил. Его отец духовный был очень доволен беседою с ним. И ему граф говорил, что чувствует в себе перемену, что ему кажется, что у него была белая горячка, что он желал бы видеть людей, опять войти в общество, а когда священник стал его к этому ободрять, то он сделал следующий достопамятный ответ: «Как мне быть опять с людьми? Я их от себя отвратил холодным своим обращением и чрезмерною гордостью». Удивителен этот переход от прежних его понятий и мечтаний к такому признанию. Теперь он говорит даже об опеке, находя, что она была необходима и что он не мог ничем заниматься; Зандрарта ласкает, часто его спрашивает, говорил ему обо мне, и Зандрарт воспользовался случаем, чтобы ему сказать, что я заступил место Арсеньева. Граф спросил: «Почему же г-н Булгаков не приходит ко мне обедать?»
Что-то скажет ужо Маркус? Да надобно теперь спросить у него, не хорошо ли бы было графине написать брату письмо ласковое. И это может иметь хорошее влияние на возникающую его чувствительность.
Александр. Москва, 24 мая 1827 года
Наконец явился наш любезный сенатор-ревизор-вояжер. Очень я обрадовался Полетике, мой милый друг. Вчера прихожу вечером к Волкову, к коему привезли его. Софья Александровна, увидев меня, взяла за руку и тащит в спальную: посмотри-ка, кого я вам представлю! Гляжу – сидит мой малютка, а он было ко мне собирался оттуда. Сели мы и проболтали до часу. Все такой же оригинал.
Александр. Москва, 25 мая 1827 года
Полетика мне вскружил голову, отнял меня от своих здесь и от тебя, мой милый и любезный друг: все вожусь с ним и именно тебя любя. Конечно, приятно мне к тебе писать, но еще приятнее было и говорить о тебе с человеком, который тебя всякий день видал и пользовался твоей дружбою. Право, не наговорюсь с ним. Вчера были мы с ним целый день: ходили пешком, были с визитами у Потоцкого, Дмитриева, Зинаиды [Волконской], князя Дмитрия Владимировича, Рушковского (этот показывал ему все экспедиции, так что в почтамте приняли сенатора нашего почти за ревизора), ездили по лавкам, лазили на Ивана Великого. Обедали у меня добрые все люди: Волков, Фавст, Новосильцев, тесть. Метакса готовил ризи [итальянское кушанье], в беседке курили трубки, говорили, спорили, к вечеру ходили по бульвару. Он захотел рано лечь спать. Сегодня смотрим Оружейную и все в Кремле, обедаем в клубе, ввечеру в Большом театре, покажем ему «Ричарда» и балеты, завтра покажу ему свою команду, Архив, а там у Фавста обед. Вот как мы нашего дорогого гостя тормошим, и он очень рад. Полетикин приезд доставил мне большую отраду и утешил меня несколько от отсрочки поездки к вам.
Ну, брат, большую весть тебе сообщаю; вчера явился вдруг Мамонов к нам. Наташа храбро и ласково его приняла; меня не было дома. Он был очень мил, хорошо обошелся с Наташей и детьми, особенно с Ольгой, которая около него ухаживала. Я уверен, что он будет к нам ездить, ибо ему не показали ни малейшего страха, а обошлись с ним просто, как бы со всяким другим. Говорено о многом, он любовался очень Фавстовой Богородицей Брогелевой и о многом говорил; сказал, что будет опять, и звал жену и детей к себе в Васильевское. Я описываю все подробнее графине; чтобы не повторяться, прочти мое письмо к ней, запечатай и отдай ей. Как ни было все хорошо, но все-таки видно сумасшедшего человека (этого не пишу я сестре его): как подали завтракать, то Мамонов взял руками кусок телятины, рвал его пальцами, обмакивал в горчичницу и ел также руками; жена говорит, что тут было что-то не человеческое, а львиное. Сестры чему-то постороннему засмеялись между собой, он на них посмотрел злобно (не подумал ли, что над ним смеются?), они нимало не сконфузились, продолжали смеяться и громче заговорили, тогда и он стал улыбаться. Нет сомнения, что он лучше, нежели был, гораздо; но на совершенное его излечение я нисколько не рассчитываю.
Александр. Москва, 13 июня 1827 года
Вчера был я все утро у Мамонова и, право, очень был доволен им. Мне кажется, что он начинает ко мне привыкать. Все эти дни спрашивал обо мне Зандрарта и говорил, что я давно у него не был; вчера хотел, чтобы я непременно остался с ним обедать, я извинился, что меня будут дома ждать, он предложил послать человека верхом сказать Наташе; но я поблагодарил и обещал завтра у него обедать, если время будет хорошо. Я не знаю, о чем не было у нас речи; даже были рассуждения о сумасшедших. Он заговорил о Бернадоте, а там о шведском короле, полковнике Густавсоне. Я ему рассказал об его образе жизни в Лейпциге, и что он проедает по шесть грошей в день. «На это, – сказал Зандрарт, – нельзя и крестьянина прокормить». Граф улыбнулся и возразил: «Ваше рассуждение неверно; крестьянину надобно гораздо более, нежели королю». – «Не понимаю, граф, почему?» – «Почему! Как почему? – отвечал граф, улыбаясь. – Потому что у крестьянина, который трудится в поте лица своего полдня на свежем воздухе, аппетит всегда больше, чем у короля-бездельника!» Это хоть и не сумасшедшему сказать. Потом требовал у меня истолкования весьма подробного, почему я почитал Густава не совсем в уме своем, и признаюсь, что часто делал мне возражения, которые приводили меня в затруднение. Говорили о шарах аэростатических, о Жуковском, о Наполеоне, о 1812 годе, о Риме, папах, о египетской кампании англичан и французов, о чуме и проч. и проч. Я тебя уверяю, что я провел приятно три часа и не еду к нему, как прежде, с отвращением.
Александр. Москва, 22 июня 1827 года
Волков в мае просил у меня коротенькую записку о болезни графа, его действиях, упражнениях и проч. Я ему составил маленькую заметку. Бенкендорф ее показывал государю, который изволил ее взять к себе, приказав от времени до времени извещать его подобными записками, что с Мамоновым происходит. При хороших переменах, последовавших в здоровье его с переезда его в Васильевское, я счел нужным сделать теперь новую такую заметку. Она Волкову очень понравилась, и он отправляет ее в Петербург. И подлинно, любопытно было видеть, как обошелся во дворце, в Оружейной, видя царские украшения, корону, трон и проч., человек, мечтавший, что он император, уступающий одной силе беззаконного правительства, человек, приговаривавший письменно князя Дмитрия Владимировича и коменданта то к виселице, то к палочным побоям. Все это обошлось нельзя лучше, и ежели обошелся он неучтиво с Юсуповым, то этот сам виноват: зачем было ему приходить со всей своей свитою в Оружейную? Когда я стал графу выговаривать после в коляске, что он не обласкал Юсупова, то он отвечал: «Он пришел поглазеть на меня как на диковинку». Последний раз Мамонов, говоря со мною о Мавре Ивановне, которую знавал, спрашивал даже о дочери ее Елизавете Васильевне и князе Сергее Ивановиче, где он служит, и проч. Он начинал говорить о графине, но переменил разговор. Теперь напишу ему и пошлю книги, потому что он не раз говорил Зандрарту: «Почему это Булгаков пишет все только вам, и никогда – мне?»
Александр. Семердино, 12 июля 1827 года
Благодарю тебя за сообщение касательно Каподистрии. Я не щеголяю болтливостью, ты это сам знаешь, и тайну верно сохраню, ежели бы и в городе был, а здесь с кем говорить, кому делать доверенность? Развязку эту можно было предвидеть. Что меня радует, это то, что все делается с одобрения императора, который может только отдать справедливость чувствам, кои направляют нашего добрейшего друга. Он выйдет из сего ложного, неприятного положения, в коем пребывал на протяжении стольких лет. Он не был свободен от России и не принадлежал своей родине. Не говоря уж о его уме и талантах, одно его имя придаст другой оборот греческим делам. Он может обессмертить свое имя в истории. Да сохранит его Бог и да защитит превосходное дело, к коему он примкнет! Я вижу впереди только доброе; но жена моя, не найдя, что сказать, опасается, как бы какой-нибудь недоброжелатель или подкупленный негодяй его не отравил[16]. Эта мысль преследовала ее все утро. Ожидать буду указа с нетерпением. Право, будь я холостой, я бы последовал за добрым этим человеком и стал бы ему помогать по силам моим. Я чувствую, что меня гречанка выкормила – не по ненависти к туркам, но по любви к грекам.
Александр. Троиц-Сергиев Посад, 22 июля 1827 года
Меня поразило известие о жалкой кончине Костаки; вишь, судьба его какова была: один раз разлучили с соперником, а дуэли таки не избежал. Жаль несчастного, слепого отца! Дико[17] так весел, доволен, что я не могу решиться его огорчить. Я ему только намекнул, что Сушков поехал в Тирасполь искать его брата, чтобы драться на пистолетах, что говорят даже, что и дрались, но неизвестны последствия. «Этот каналья Сушков, – отвечал Дико, – верно, все это время учился стрелять», на что я сказал: «Боже сохрани, а долго ли до несчастия!» Дико был целое утро задумчив, теперь опять весел по-прежнему. Я ему скажу о несчастий на Петербургской дороге; более будет тут рассеянности для него.
Александр. Москва, 28 июля 1827 года
Вчера так я затормошился, что тебе не писал вовсе, милый и любезный друг, да и был я очень не в духе и опять было занемог, по милости Мамоновой и ее братца. Вот тебе ее письмо и мой ответ; прочитай, запечатай и тотчас ей доставь. По его приглашению ко мне и Фонвизину, поехали мы к сумасшедшему, где были более трех часов; принял славно, ласково, особенно меня, только когда я назвал слово «государь», то он взбесился, говоря: «При мне не называйте никогда и не упоминайте о государе». Я не оставил это без возражения, и пошла потеха; но только я вижу, что, скаля зубы Мамонову, можно его и угомонить. Он успокоился, потом изложил многие жалобы, более вздорные и неосновательные, нежели важные, говорил о делах преосновательно, желал иметь отчеты, очень был доволен тем, что могли мы ему сказать в общих чертах. Он меня почитал поверенным твоим, а не сестры, ее не ругал, но сухо говорил о ней и сказал: «Она не наследница после меня, потому что я могу еще иметь детей». Я тебе все это подробно расскажу. Не мог я равнодушно говорить с ним и, будучи уже слаб, домой приехал изнурен, с маленькой лихорадкою; сегодня мне обметало губы, стало быть, проходит.
1
Князя Александра Никитича Волконского.
2
Александра Григорьевна, урожденная графиня Чернышева, поехала в Читу к своему ссыльному супругу Никите Михайловичу Муравьеву и повезла туда стихи Пушкина «Во глубине сибирских руд».
3
Дом этот в Плетешковском переулке принадлежал позднее Дмитрию Фавстовичу Макеровскому.
4
Это был Уваров, женатый на сестре декабриста Лунина и затеявший тяжбу о незаконности его завещания, написанного раньше заговора.
5
Это дом на Мясницкой (некогда графа П.И.Панина, который из него отправился на Пугачева), позднее Липгарда. Анна Петровна – супруга А.Ф.Малиновского, урожденная Исленьева, родственница и воспитанница княгини Дашковой.
6
Племянница графа Каменского, которого Закревский считал своим благодетелем.
7
Этот Кривошапкин позднее управлял витебским имением братьев Булгаковых.
8
Врач Константин Анастасьевич Попандопуло перед тем женился на двоюродной сестре Булгаковых Любови Андреевне Мартыновой.
9
Этого приложения у нас не имеется. – Дмитриевы-Мамоновы действительно происходят от Рюрика, о чем, конечно, знал несчастный граф Матвей Александрович, в голове которого действовала и мысль о близости его родителя к царскому престолу. Он рано осиротел. И.И.Дмитриев (одного с ним родословия), будучи министром юстиции, назначил его, еще совсем юношу, в Московский Сенат прокурором, чем и возбуждено было его славолюбие. Затем 1812 год и полк, набранный и содержимый на собственные средства.
10
Впоследствии, в «Записках» своих, Вигель отзывался о К.Я.Булгакове совсем иначе.
11
То есть сестры графа Мамонова.
12
Когда пишущий эти строки служил в Архиве, директор оного князь М.А.Оболенский (племянник графа Маркова по матери) поручил ему заняться бумагами этого деятеля. Отсюда вышла биография графа А.И.Маркова, напечатанная в «Русской Беседе» 1857 года, то есть через 30 лет после статьи о нем князя П.А.Вяземского.
13
А.А. Волков был в Москве первым начальником незадолго перед тем учрежденного жандармского управления.
14
А.Я.Булгаков собирался к брату своему в Петербург, где и прожил довольно долго.
15
Н.В.Сушков убил на поединке Константина (Костаку) Варлама, брата жены К.Я.Булгакова.
16
Женское предчувствие!
17
Кто этот Лико? Не брат ли убиенного Варлама и Марии Константиновны Булгаковой?