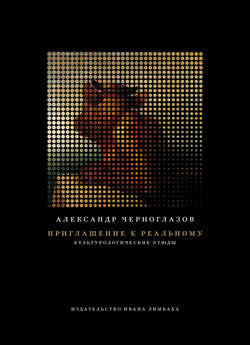Читать книгу Приглашение к Реальному - Александр Черноглазов - Страница 4
I
Граф желания. Опыт иного прочтения
ОглавлениеHe may entreat, aspire,
He may despair, and she has never heed.
She drinking his warm sweat will soothe his need,
Not his desire.
George Meredith. Earth and Man[3]
Милость Твоя лучше жизни.
Псалом 62
Христианская этика, и аскетика прежде всего, остро нуждается в обновлении, в обосновании. Для того чтобы быть современным обществом принятой и понятой, чтобы в его жизнь оказаться вписанной, она должна отвечать его потребностям на его языке, стать инструментом для решения его проблем. Если проблема современной цивилизации формулируется как «кризис желания», то аскетике приходится, отмежевавшись от «религиозного морализма», доказывать свою благотворность для «интеллектуального здоровья общества» и культурного его процветания. Но важно не просто привить современному обществу потребления толику аскетизма или дать новый рецепт против пресловутой «неудовлетворенности цивилизацией», а сделать своего рода усилие перевода, шаг в создании нового языка христианской керигмы[4], которая невидима, подобно уэллсовскому герою, без одеяния, без словесного облачения, – того облака, что становится, по словам английского поэта Ричарда Крэшо, для нас солнцем, а для нее сенью. Христианин печется не о здоровье общества, а о спасении души. Этой цели подчиняются все прочие виды деятельности, ею одной определяется их прагматический и этический статус. Но сопоставить различные области «жизни деятельной» между собой, выстроить их иерархически решительно невозможно, пока нет между ними общего языка, пока не будет создан и выработан языковой универсум, пока Другой не возникнет как некое пусть обладающее изъяном, но целое.
Интересный подход к этой проблеме намечен в работе греческого православного священника и психиатра Василиоса Термоса «Кризис желания. Размышления о точках пересечения психоанализа Жака Лакана со святоотеческим Богословием», опубликованной в № 4 «Московского психотерапевтического журнала» за 2002 год. Именно Лакану, считает о. Василий, удается разработать предпосылки, необходимые для построения богословия, не боящегося желания (что в большинстве случаев ему было свойственно), а его поощряющего и высвечивающего. Доказывается это «согласованностью» используемых Лаканом понятий с употреблением этих же понятий и терминов у цитируемых о. Василием Святых Отцов. В ряде случаев, однако, – особенно там, где речь идет о желании, – нельзя не отметить некоторых натяжек. Так, в текстах Ареопагитик и святого Николая Кавасилы желание вполне в платоническом духе предстает как желание жизни, поскольку эта последняя причастна Благу, то есть в конечном счете – как желание Блага, понятого во вполне онтологическом смысле. «Онтологическая субстанция объектного либидо и эго-либидо – пустота», – пишет о. Василий. Либидо эти в цитируемом затем тексте святого Максима отождествляются со страстями. Онтологическая полнота становится, соответственно, уделом и предметом желания.
Далее, в тексте святого Николая Кавасилы желание выступает как бесконечность, насыщаемая лишь бесконечностью Блага, евангельскими водами жизни вечной. Подобно глазу или уху, это своего рода особое, шестое чувство – чувство для восприятия и усвоения Божественного. В обоих случаях, как в Ареопагитиках, так и у Кавасилы, желание предстает как нечто принадлежащее человеку по естеству, как нечто, не побоимся этого слова, софийное, как выжженное на твари клеймо божественности.
Обратившись к текстам Лакана – даже тем, что сам о. Василий цитирует, – нетрудно убедиться, что образ желания у этого автора отнюдь не столь лучезарно-розов. И хотя в целом мысли о. Василия мне представляются верными, в частностях пути его, похоже, несколько спрямлены – спрямлены в попытке возможно ярче высветить момент совпадения, согласования лакановского анализа с патристической мыслью. Не исключено, однако, что как раз противоречия, как раз различия и окажутся для построения богословия, о котором говорит в резюме статьи о. Василий, наиболее плодотворными.
В самом деле, как явствует уже из приводимых о. Василием текстов, желание отнюдь не причастно у Лакана какой бы то ни было онтологической полноте. Скорее наоборот – целью и причиной его является ничто, пустота, нехватка. Оно – феномен чисто структурный, зазор между бессознательным и безусловным требованием любви, с одной стороны, и потребностями, нуждающимися в удовлетворении, – с другой. Все наши требования, как бы мы их ни формулировали, направлены на те предметы, реальные или же фантазматические, что удовлетворяют те или иные – реальные или, опять же, фантазматические – потребности. Однако, с другой стороны, все, что мы от Другого требуем, нужно нам лишь как знак – как знак и свидетельство Его к нам любви. Отказ от удовлетворения ими, аскетический жест, служит, таким образом, доказательством того, что мы не обмануты. Что все «блага» эти, в чем бы ни заключались они, на самом деле вовсе не то, что нам в действительности от Другого нужно. Лишь отказываясь эти «блага» принять, утверждаем мы и признаем их ценность как «знака», как свидетельства любви. «Не бери то, что я приношу тебе, потому что это не то», – вот, по Лакану, молчаливо подразумеваемая подоплека каждого дара.
Но свидетельство это всегда остается сомнительно – ведь любой дар всегда, напротив, можно истолковать как стремление откупиться, как своего рода оброк, как, одним словом, некий «эрзац» любви. Единственным приношением, подобного истолкования не допускающим, был бы дар самого себя. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Но для того, чтобы себя отдать, Другой, субъект требования, чьей любви мы взыскуем, должен стать всецело объектом. Другими словами, он должен воплотиться и умереть. Единственной жертвой, заверяющей любовь, является, таким образом, жертва собственной жизни, смерть.
Хотим ли мы смерти того, кого любим? Разумеется, нет. Можем ли мы потребовать от него такой жертвы? Сама мысль об этом звучит кощунственно. Но поскольку мы существа, «погруженные», как говорит Лакан, в означающее, нам нужно от Другого не благо, а знамение. Между любовью, которой мы от него требуем, и любым благом, которое он может нам дать, существует зазор, избыть который способна лишь его смерть. Именно этот зазор между тем, что мы требуем, и тем, что служит нашим потребностям, и называет Лакан желанием. Мы не можем его «высказать». Более того, мы не можем его «испытать». Это лишь следствие нашей языковой природы, способ нашего устроения, подоплека, оборотная сторона требования любви. Субъект, погруженный в восполняющую недостаток его инстинктов символическую, языковую среду, расщепляется на субъект потребности, стремящийся Другого эксплуатировать, и субъект желания, требующий у Другого любви и взыскующий Его смерти.
Языком этого требования является отказ, аскетический жест. Но поскольку требование это оборачивается, как мы видели, желанием Другому смерти, аскетический подвиг сопровождается, как это многократно в аскетической литературе и засвидетельствовано, усилением чувства вины, сознания греховности. Чем решительнее мы подавляем свои потребности, тем ближе оказываемся к желанию как таковому – желанию смерти Другого, его плоти и крови. «In the womb we are fitted for works of darkness, all the while deprived of light; and there in the womb we are taught cruelty by being fed with blood; and may be damned though we be never born»[5], – пишет в своей знаменитой проповеди «Поединок со смертью» английский поэт и проповедник Джон Донн. Единственным возможным ответом на наше желание, единственно возможным, поверх и помимо любых наших молитв, его исполнением, является евхаристическая жертва. Она и есть для нас «единое на потребу» – то, о чем мы никогда не просим, но без чего никакие блага нас удовлетворить не в силах. Именно поэтому христианство, как признает в Семинаре XX, не веря в Христа, Лакан, – единственная истинная религия. Исполняя наше невысказанное желание, Другой становится Сыном человеческим и от нас, ради спасения нашего совершая то, без чего все блага для нас заведомо обесценены, принимает смерть. «He’ll have his teat ere long, a bloody one, / The mother then must suck the son»[6], – говорит о Христе современник Донна, поэт Ричард Крэшо, хорошо чувствуя тесную связь между греховностью, жаждой крови, с одной стороны, и жаждой спасения, с другой. «Я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю», – вторит этой мысли, хотя и в не столь парадоксальной форме, лесковский Памва из «Запечатленного ангела».
В Семинаре VII – семинаре, посвященном этике психоанализа – Лакан сам делает попытку увязать категории психоанализа с традиционными христианскими понятиями греха и закона. Начинает он со скрытого цитирования Послания к Римлянам святого апостола Павла (Рим 7:7–14), заменяя в нем слово «грех» словом «Chose», «Вещь» – словом, знаменующим у него изначально утраченный и находящийся вне означения предмет желания: «Неужели от Закона Вещь? Никак. Но я не иначе узнал Вещь, как посредством Закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай. Но Вещь, взяв повод от заповеди, произвела во мне всякое пожелание, ибо без Закона Вещь мертва. Я жил некогда без Закона. Но когда пришла заповедь. Вещь вспыхнула, вновь вернулась, в то время как я – я нашел смерть. Так заповедь, которая должна была вести к жизни, послужила мне к смерти, ибо Вещь, взяв повод от заповеди, обольстила меня и обратила меня в желание смерти». Итак, желание вовсе не устремлено к благу – оно, напротив, вожделеет ко греху, едва ли не тождественно ему. Ниже Лакан действительно дает понять, что отождествляет их. «Диалектическое соотношение между желанием и Законом таково, что желание вспыхивает лишь в связи с Законом, благодаря чему и становится желанием смерти», – пишет он. Но уже в следующей фразе грехом названа, наоборот, «непричастность Вещи». Так что, собственно, выступает здесь как грех – желание или же непричастность ему? Противоречие? Да, но вспомним, что настойчиво повторяет апостол далее в ст. 17 и 20: «не я делаю то, но живущий во мне грех». Да, желание есть грех. Но грех оно лишь постольку, поскольку я «непричастен» ему, поскольку я отрицаюсь его, от него отпираюсь, запираюсь в нем, отказываюсь его усвоить себе, поскольку он предстает как Оно, как нечто мне чуждое, постороннее. На том месте, где было Оно, грех, должен стать Я, грешник.
Грех, одним словом, должен быть исповедан. Почему это принесет избавление? Да потому, что греховное желание наше есть не что иное, как оборотная сторона требования любви – желание Другому смерти. Исполнением этого желания является добровольно принесенная за нас крестная жертва и таинство евхаристии. И лишь приблизившись к желанию в таинстве покаяния, осознав его, его исповедав, сможем мы в таинстве евхаристии полноценно участвовать, сможем мы вкусить плоти и крови, сможем мы напиться и насытиться принесенною за нас крестною жертвой. Освобождение от власти желания достигается не отказом от него – таковой, как свидетельствует апостол, и невозможен, как невозможна любая мюнхгаузеновская попытка вытащить себя из болота за волосы – а наоборот, усвоением его, его бескомпромиссным обнаружением. Не поступаться своим желанием – вот максима лакановской этики субъекта в анализе. Аскетизм не связан с отказом от желания, с «исправлением» человеческой природы собственными силами. Движущей силой, сокрытой пружиной его служит не трансцендентное нам и влекущее нас к себе благо, а имманентное нам и толкающее нас на грех зло – та тайная сладость желания, jouissance, которая и удовлетворяется крестной жертвой «Иисуса сладчайшего», то желание Другому смерти, без которого мольба Ему о спасении так и останется навсегда звучащим кимвалом и звенящею медью. В перспективе этой грех и спасение предстают, таким образом, не как преступление и прощение, а как желание и его удовлетворение. Евхаристия не спасает нас, делая нас «лучше», она делает это, удовлетворяя наше желание, то есть совершая то, без чего никакое благо не способно послужить нам во благо. Смерть Христа – условие сошествия подателя всех благ, Духа. Собственно этические и аскетические требования получают свое место и обоснование в культе как подготовка к участию в таинствах. Вне культа они лишаются смысла. Лишь в культе, там, где мы символически (а порой, как в чине погребения, и реально) уже не принадлежим миру, где отдаем мы собственный голос Церкви, дано нам свое желание и исполнение его, свою греховность и свое спасение неложно в своем покаянии и в своем благодарении засвидетельствовать.
Итак, желание отнюдь не отмечено, как видим, для Лакана печатью софийности и божественности. Оно не устремлено к бесконечности, для понимания его нет нужды прибегать к метафизическим построениям и отсылкам. Более того, «желание поддерживать желание неудовлетворенным» является для Лакана истерическим симптомом. Значит ли это, однако, что о. Василий неправ, что все построение его основано на натяжке и подтасовке? Отнюдь. Скорее наоборот – именно это служит его мысли наилучшим обоснованием. Лакановское описание расщепленного, расколотого субъекта, субъекта, витающего между неврозом навязчивости и истерией, субъекта, по самой природе своей, в силу погружения его в символическую среду, обреченного на противоестественность, как нельзя лучше отвечает христианским представлениям о человеке как о существе не на поверхности только, а в самом корне, в самом желании своем пораженном и извращенном. И в этом атеист Лакан является, пожалуй, в наше время на новой ступени наших знаний о человеке, лучшим и достойнейшим продолжателем французских мыслителей-атеистов XVII столетия с их бескомпромиссной, богословски безупречной картиной человеческого эгоизма. «Культивирование» желания, его, говоря словами о. Василия, «promoting and highlighting», в культурном отношении действительно своевременно, а для общества и душевного здоровья его членов действительно благотворно – здесь правота о. Василия несомненна. Но благотворным оно оказывается не само по себе, а лишь в рамках христианского общежития, лишь в связи с местом, которое занимает оно в домостроительстве православного культа.
Для того чтобы нагляднее увязать сказанное с лакановскими построениями, обратимся к так называемому «графу желания» – графическому построению, которое Лакан неоднократно в своих работах приводит и комментирует. Граф желания представляет собою построение алгебраическое. Недаром Лакан использовал его в совершено разных контекстах. Все символы его суть переменные величины, допускающие, следовательно, подстановку. Попробуем дать ему религиозное содержание и прочесть его как диалог с Богом.
Обращаясь к Другому, субъект пользуется языком, оказываясь в регистре требования. Если любое требование, согласно Лакану, это, независимо от конкретного содержания своего, требование любви, то ответ на это требование, обозначенный горизонтальной линией первого уровня, идущей от m (message, сообщения) к А (Другому, месту кода, в котором это сообщение задним числом прочитывается), являет собой – независимо, опять же, от конкретного своего наполнения и звучания – не что иное, как признание в любви, уверение в нем: я тебя люблю. Уверение это должно, однако, быть, как и любое высказывание, удостоверено. Да, но чем? Речь может удостоверяться другой речью, та – другой и далее до бесконечности. Поэто-му и говорит Лакан, что у Другого другого Другого нет. Сами условия речевого общения заставляют субъекта искать за речью Другого чего-то такого, что бы ее мотивировало. Зачем говорит он мне то, что он мне говорит? Зачем говорит он мне, что Он меня любит? Идя выше, линия этого вопрошания поднимается вопросительным знаком над точкой, что обозначена у Лакана как место фантазма. Субъект, тщетно пытаясь неразгаданное желание Другого удовлетворить, желая, иными словами, сделаться Другому желанным, перечеркивает себя, мимикрирует, обращаясь в тот гипотетический, неясный ему предмет, которого желание Другого, ему неведомое, взыскует. Предмет этот призван понравиться Другому, соблазнить его – недаром даже иконе приписывает Лакан в Семинаре XI именно это значение. Притвориться мертвым – вот предел, к которому желание субъекта может здесь устремиться, если в фантазии субъекта Другой ищет его смерти. Однако Другой этот, не будучи, разумеется, как на нижнем этаже графа, зеркальным двойником субъекта, остается на этом уровне фигурой чисто фантазматической. Религия действительно выступает здесь неврозом навязчивости. Для атеиста верхний этаж графа остается плодом фантазии, а Бог, как и говорит Лакан в Семинаре XI, предстает не мертвым, а именно бессознательным.
Действительный ответ Бога на требование любви вписан в верхний этаж графа. Доказывая незаинтересованность своей любви, отсутствие стоящего за ней и не вписанного в речь желания, Бог умирает: в верхней правой точке, соответствующей у Лакана коду, то есть элементу, задним числом сообщающему предшествующей речи значение, находится перечеркнутый субъект, смерть. Для меня, взыскующего Его любви, смерть предстает означающим смерти Другого, обозначенным на графе большим неперечеркнутым S перечеркнутого А. Слова «сие есть тело Мое и кровь Моя» получают значение ретроактивно, задним числом, после смерти. Для Другого Другого нет, смерть субъективации не подлежит – вы не можете сказать «я умер», не отделив автоматически акта высказывания от его содержания (точно такая же логика продемонстрирована Лаканом на примере высказывания «я лгу»). Удостоверив смертью Свою любовь, Господь перечеркнул Себя, обратился в объект, ставший теперь, как писал Лакан, «предмет а, а точнее в помёт, то, что выскажется, когда я уже буду мертв, время, когда меня наконец услышат, перв(а)причину его желания»[7].
Не случайно стрелка нижележащего этажа поднимается сюда, к перечеркнутому Другому. Теперь, когда Другой умер ради нас, ясно становится, что именно смерть эта, навсегда утверждающая нас в Его любви, и является – всегда являлась – для нас предметом желания – предметом, который, по самому определению лакановского маленького а как нехватки, совпадает с отсутствием. Это желание смерти не воспринимается на уровне переживания как тяга, стремление, хотение, она вытеснена не в силу какого-то динамического воздействия. Это просто другая сторона требования любви – нельзя требовать любви, не требуя удостоверить ее, а значит, нельзя требовать любви, не желая тем самым – в лакановском смысле вытесненного желания – смерти любящего. Пользуясь излюбленной лакановской моделью можно сказать, что требование и желание располагаются друг против друга на ленте Мёбиуса – будучи на одной стороне, выводимые одно из другого, они предстают как противоположности, как лицо и изнанка. Течение литургического цикла, будь то суточного или годового, а в особенности великопостного, и есть не что иное, как движение вдоль этой ленты из одного, лицевого пункта, в изнаночный и обратно, как дискурс, который не может быть воспринят и субъективирован человеком как единое и непротиворечивое целое, но разыгрывается драматически. Так, для примера, подвиг поста, требуемый от верующего в течение великой Четыредесятницы, отменяется в Светлое воскресенье задним числом как ненужный – приглашением всех, постившихся и непостившихся, к святой Чаше. Суждение о необходимости поста является, таким образом, функцией литургического времени, сценарием литургической драмы, так что внецерковные дискуссии на эту тему оказываются на поверку пустым морализирующим фарсом.
Существовало ли это желание смерти Другому до того, как было удовлетворено? Да, но не где-то внутри, а именно на поверхности, находя проявление свое в отказе, аскетическом жесте: я не беру того, что ты даешь мне, потому что это не то (чего я желаю). Чем строже аскеза, тем ближе, асимптотически, приближается аскет к своему желанию и потому тем сильнее в нем, несмотря на видимое его совершенство, чувство греховности. И только осуществившись, только задним числом получает желание «собственную» свою форму, заявляя о себе в том jouissance, наслаждении, которое переживает субъект, удостоверяясь в Божественной к нему любви. Наслаждение здесь, таким образом, это наслаждение смыслом, знанием – в полном согласии с лакановской псевдоэтимологией этого французского слова, производящей его от соединения слов «наслаждаюсь» и «смысл» (jouis-sens).
Наслаждение знанием напоминает ситуацию других лакановской притчи – о выборе между кошельком и жизнью, свободой и смертью. Выбравший кошелек и свободу лишается, тем не менее, того и другого. Удостоверившись в любви, я теряю ее, ибо теряю самого любящего. Но без удостоверения этого жизнь мучительна, как мучительны, в предыдущих примерах, рабство и нищета. И грех желания смерти, это живущее невидимо во плоти жало, останется неизбывен. Для меня здесь выбора нет – он принадлежит Другому (именно со слов «время сотворити Богови», то есть «теперь дело за Богом», начинается православная литургия). Умирая, Он отвечает на мое желание, и смерть Его становится источником моего наслаждения, «сладости». Его добровольная смерть дается нам задним числом как предмет, как литургическая чаша. Место перечеркнутого большого А, место Святого, заступает, в определенном смысле, а маленькое, Святыня. То, отказ от чего был ранее знаком нашего желания, мы теперь – под видом Его плоти и крови – признательно (то есть признаваясь, исповедуясь в своем желании – именно поэтому так тесно связана литургия с исповедью) принимаем. Не случайно Святые Дары «истинная есть пища и истинное есть питие» – только «под видом» слова, только в качестве святыни могут земные блага быть восприняты.
Но являя и «исполняя» наше желание, вино и хлеб являют его прикровенно. Описанное в некоторых житиях чудо – явление в чаше эмпирически осязаемого тела Христова, то есть встреча нашего желания с его Реальным, – вызывает то, что именует Лакан тревогой, angoisse, невозможной встречей с Реальным. В этом смысле и невозможна «встреча» с Богом помимо церковных таинств, в каком-то личном, мистическом переживании. Подлинная встреча с Богом – это знание о Его любви, знание, засвидетельствованное Его смертью и приобщаемое в Святых Дарах, это свет истины, сообщаемый лишь ценой разлуки с Ним. Но это не простое знание, а знание радостнотворное, знание-наслаждение. Знание, которое дано нам в обмен на все прочие блага мира, жемчужина, купить которую можно, лишь продав все, что имеешь, – лишь отказ от удовлетворения потребностей, аскетический подвиг позволяет выделить желание в чистом виде. Пользуясь лакановским термином, это plus-de-jouir, выражение, означающее одновременно «избыток наслаждения» и его «пропажу» (буквально: «наслаждению пришел конец»). Дело в том, что, уверившись таким образом в любви Другого, получив объект, который нас в этой любви удостоверяет и становится для нас источником радостнотворного знания, мы теряем тем самым Другого как такового. Драматизм ситуации состоит в том, что выбор делается между знанием о любви и субъектом ее, самим любящим нас Другим. Уверенность в любви заступает место самого любящего как подателя благ. Но именно это освобождает от необходимости умирать, доказывая свою друг другу любовь, нас самих. Ведь умереть «за» означает не только умереть «ради», но и умереть «вместо» нас, беря «доказательство» любви на себя. Став в причастии телом Христовым, именно каждый из нас стал тем любящим субъектом, который «ради» Христа, то есть «за», «вместо» него призван к тому, чтобы творить дела любви. Мы живем и творим благие дела, дела любви, ради, вместо, за нас, вместо нас, умершего. Это, собственно, и делает нас членами Церкви.
Противоречивость двух значений jouissance, напряжение между обретением любви и утратой Любящего и приводит в движение литургический год. Насладившись избытком, мы тем самым теряем все; получив Воскресением все утраченные было блага, вновь аскетическим жестом отвергаем их, взыскуя единого на потребу.
Что же происходит на графе далее? Теперь, пройдя через верхнюю левую вершину графа, линия попадает наконец в точку m (послание, сообщение). То «я тебя люблю», что порождало ранее вопросительный знак фантазма, оказывается ныне на верхнем этаже графа ценой смерти удостоверено. Линия, завершив петлю, идет дальше – туда, где человек, уверенный теперь в любви Бога, идентифицирует себя как Сына, что и соответствует читаемой в конце литургии всеми верующими молитвы Господней, где они обращаются к Богу, именуя его Отцом (Отче наш…) – как того, кого, по слову апостола, ничто уже – ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь – не может теперь от любви Божией отлучить.
3
Он может умолять, надеяться, / Может отчаиваться, но она не внемлет. / Впитывая его теплый пот, она утолит его нужду, / Но не его желание. Джордж Мередит. Земля и Человек (англ.).
4
Проповеди, благой вести (греч.).
5
В материнской утробе, лишенные света, приучены мы к делам тьмы, и там, в утробе, научены мы жестокости, питаясь кровью, и осуждены проклятию, еще не родившись (англ.).
6
Он протянет тебе свой сочащийся кровью сосок / И придет черед сыну стать кормилицей матери (англ.).
7
Lacan J. … ou pire // Scilicet. V. 5. 1975. P. 8.