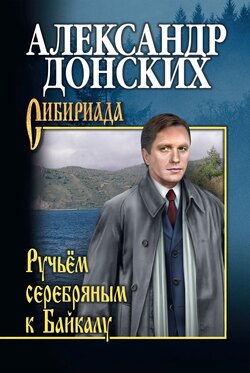Читать книгу Ручьём серебряным к Байкалу - Александр Донских - Страница 3
Ручьём серебряным к Байкалу
Вторая часть
Дом
Оглавление26
Как-то раз Лев случайно повстречался на улице Иркутска со своим приятелем однокурсником – Павлом Родимцевым, Пашкой-Рубашкой с ласковой насмешливостью величали его в той, студенческой, молодости. Он, симпатичный, рослый, здравый, был успешен у девушек, лёгок с ними в обращении, и тяжёлый в завязывании знакомств Лев слегка тогда завидовал ему. Кто-кто, а Родимцев всегда будет доволен жизнью, полагал в те годы Лев.
Наступили после дождливого, но тёплого бабьего лета заморозковые, льдистые дни сентября. Лев остановил свой джип и вышел из салона, поражённый внезапно и жутко открывшимся перед ним из-за поворота закатом: западное полотнище неба красно-яростно, с нарастающим раскалом пылало. Рдяные набухшие лучи, точно капли, стекали в жухлую, но сырую листву, расползались по застывшим лужам и, представлялось, обагряли окрестность.
Закат и восхитил, и насторожил Льва. Пытливо всматривался он в горящее небо, однако не понимал, что же нужно ему увидеть ещё, разглядеть глубже, до каких таких подробностей, а может, и смыслов.
Задумался настолько, что не услышал и не заметил – невдалеке с хрустом и взвизгом затормозил заезженный, вылинялый жигулёнок. Из него вылез молодой, но до неопрятности располневший мужчина и, устало покачиваясь, ссутуленно направился к подъезду жилого дома – неказистой малиново-серой (и не малиновой, и не серой, а показавшейся Льву грязноватой, запылённой) железобетонной хрущёвки, иссечённой щелями на блочных стыках, с оборванными водосточными трубами, а потому в уродливых, заплесневелых подтёках.
– Лёва, ты ли?!
Слова прозвучали для Льва странно и вроде бы как издали и из глубины. Издали и из глубины какой-то другой жизни, несоизмеримой с величием и трагедийностью небесного зрелища. Душа Льва полыхала вместе с этим закатом и ему трудно было отвернуться от неба: оно стремительно багровело, наливалось, и мнилось, что свет кроваво липок и густ.
«К чему бы всё это?»
Лев слабо, но не растерянно улыбнулся Павлу.
– Здорово, здорово, дружище, – с невольной и перехватывающей голос хрипотцой произнёс он.
Пожали друг другу руки, слегка приобнялись, можно было подумать, что с недоверием, даже с опаской. Они отличались друг от друга разительно. Лев – сбит, прям, свеж; был одет неброско, но добротно, влито. Павел – сжатый, пригнутый, серый; скорее, подсгорбленный, чем сутулый, к тому же плешивый и седой. На нём, точно бы на подростке, мешком висла линялая синтетическая куртка. «Уже старик», – подумалось Льву.
Павел не сразу догадался, чей стоит рядом с ними этот роскошный, вальяжно густо-синий, но тоже багрово отливающий джип. А когда понял, то изменился вмиг: Льву показалось, что он пониже склонил голову, приосел весь, сконфузился.
– Наслышан: размахнулся ты, Лё… Лев. Не думал, что до такой степени. Твой «коняга»? – с нарочитой небрежностью махнул он головой на автомобиль.
Лев не ответил, прикусил губу. Спросил, неохотно отводя свои глаза от страшного закатного солнца:
– Как ты живёшь, Паша?
– Да так. Живу, хлеб жую. Как все. А ты, вижу, – ого-го: на таких-то тачках разъезживаешь…
Но Лев, поморщившись, с досадой прервал его:
– Давай, Паша, посидим в том баре. Вспомним молодость, что ли.
Ему хотелось поговорить с Павлом: узнать, или, наверное, скорее всего, выведать, как он, что он. Они одногодки, даже почти что, кажется, день в день родились, один и тот же вуз закончили, выходит, должно быть что-то похожее, однолинейное в их судьбах. Может, и Павел тоже какой-нибудь несчастливый, вывернутый человек. Если же доволен вполне жизнью и судьбой – что сделал, важно понять Льву, так, как надо было.
Лев по сотовому позвонил в офис – отменил встречу; в трубке стали возмущённо урчать, но он, не дослушав, отключил телефон вовсе.
– Я, Лев, вот в этом домке живу – айда лучше ко мне, – скованно мотнул Павел головой на эту непрезентабельную, если не сказать, что безобразную, пятиэтажку.
– Неудобно, Паша. Ввалимся – твоих семейных потревожим. Пойдём в бар, а к тебе я как-нибудь зайду. Честное пионерское, – зачем-то пошутил Лев, ощущая прилив к сердцу каких-то молодых, уже забываемых им чувств. – Пойдём. Чего задумался? Вспомни: ты же всегда, что бы ни случалось, оставался весёлым и лёгким на подъём. Нашим заводилой был!
– Понимаешь, деньжат я с собой не захватил. А дома и выпить чего-нибудь найдём, и закуска имеется.
Павел покраснел и, показалось Льву, что самолюбиво, нахохлился, по крайней мере, вскинулся плечами, распрямился насколько мог.
– Сразу видно: каким был ты славным человеком, таким и остался. Как мальчик зарумянился, – улыбнулся Лев, с непривычной для себя торопливостью закрывая и ставя на сигнализацию джип. – Пойдём, пойдём! – нетерпеливо потянул он за собой Павла. – О деньгах не думай: я плачу.
Они прекрасно посидели, о многом поговорили. Но больше Павел рассказывал, а Лев радостно и печально слушал. Павел рассказывал о своём житье-бытье, честил и местные, и высшие власти: мол, не дают, сволочи, нормальному человеку нормально жить. Лев понял, что Павел был из тех, кто всё ещё не мог влиться во всеобщий поток этой новой, совершенно уже другой и уже давно другой русской жизни.
Пили великолепное, невообразимо дорогое для простого человека вино. Оно было бархатисто лёгким на вкус, однако, на удивление, быстро и надолго пьянило. Лев всматривался в посоловелые голубовато-дымные глаза Павла, радуясь, что можно смотреть в эти глаза, напоминающие молодость и юные задиристые и легковесные мечтания. Молча покачивал головой и чуть улыбался: пусть выговорится человек.
Небо за окном уже стало обыденно фиолетовым, не пугало, по нему своим привычным и неизменным порядком рассыпались звёзды. Город ласково и приютно засиял домашними огнями окон. «А может, что бы ни случилось, – оно к лучшему в этом мире?» – зачем-то подумалось Льву. Он давно не был так свободен и лёгок внутри, столь приятен самому себе и дружелюбен. Будто судьба что-то обещала ему сейчас, куда-то подзывала, подманивала.
Павел был, помнил Лев, человеком на первый взгляд несложным, зачастую отчего-то весёлым, суетливо-оживлённым, хотя не сказать, что простаком. Затеять вечеринку, разыграть вредных преподавателей, горячо выступить на собрании, ввернуть в разговоре свеженький анекдот, подтрунить над зубрилой-сокурсником – Павел всегда и всюду закопёрщик. Выглядело, ему хотелось, чтобы всем вокруг жилось хорошо, славно, по крайней мере – не скучно и не серо. Однако жизнь, понял Лев, здорово прошлась по Павлу каким-то утрамбовывающим катком. Закосев от двух-трёх бокалов, в хмельной навязчивой откровенности, с досадой, но неозлобленно Павел признался Льву, что хотя семья у него всего-то жена да дочка, а прокормить её тяжело.
– Обидно мне, Лёва. Я – здоровый, неглупый мужик, а живу – калека калекой. Безобразно! Немощный я перед нынешней жизнью! – ссаживая голос, выдохнул он и стиснул кулак. – Все только и думают о деньгах. А моя душа там, в нашей молодости. Помнишь, как мы куролесили в стройотрядах? Ух, была житуха! Та жизнь видится понятной, чистой и весёлой. А теперь попробуй-ка разберись: где хорошо, а где погано, где негодяй, а где друг, когда смеяться, а когда рыдать? Эх, чего уж! Гиблый, наверное, я человек.
– Ну уж – гиблый! – натянуто усмехнулся Лев и потрепал Павла за плечо.
Льву хотелось сказать Павлу, что, оказывается, оба они неисправимые идеалисты и мечтатели: чего-то ждут от жизни, а она в своих лучших проявлениях мимо них катится; и хотелось сказать не о всякой жизни, а о настоящей, большой, как судьба. Но промолчал, потому что совестно и обидно было бы признаться, что тоже слаб, и не так, или совсем не так, удачен, как хотелось бы.
И женился, признался Павел, вроде как ненормально. Был видным парнем, девушки вились возле него, и сам влюблялся, однако унимал и гасил в себе чувства, женился поздно, уже когда под тридцать было. И причину не скрыл от Льва: потому что мучительно долго не было своего угла, квартиры, достатка. Стыдливо ютился у престарелых родителей. Держался за инженерную должность: думал, в рост пойдёт, зарплату набавят. Жить семьёй абы как и абы где – гордость противилась, зазорно было бы. Копил деньги на жильё, да никак не мог накопить со своей прорабской зарплатой в жилищно-эксплуатационном тресте. Родители умерли, и теперь он с семьёй живёт в их квартире. Но жилище тесное, две комнатки с низкими потолками, с прогнившей сантехникой. Своё прорабское, инженерное дело оставил: зарплату месяцами не выплачивали, повышения в должности не обещали. Подался в торговлю, мотался с баулами из Китая и Турции. Обычная история миллионов и миллионов.
Лев уже затомился и заскучал, слушая Павла, да тот, мрачно помолчав и выпив залпом полный бокал, неожиданно улыбнулся, помотал головой и заговорил о своих близких: о жене Елене – что красавица, умница, хозяюшка, какую поискать, о дочке Машеньке – что ангелочек, что гордость и надежда его, единственное богатство. И Лев понял и порадовался, что у Павла, несмотря ни на что, есть какой-то просвет в душе, что жена и дочка – его плотики и зацепочки в этом мутном и беспощадном половодье современной русской жизни.
27
В ближайшую субботу Лев пришёл к Родимцевым. Ему хотелось увидеть счастливую семью, удачливых в браке людей и, погревшись возле чужого костерка, возможно, самому начать наконец-то жить правильно, как-то, может быть, ровно, с лёгким дыханием и ощущением высоты неба.
Познакомился с Еленой. Она несколько лет назад родила Машеньку и теперь сидела с ней. Елена была действительно недурна собой, если не сказать, что красавица: девчоночьи тонка, изящно бела, с высоким открытым лбом. Глаза у неё большие, яркие, но представились Льву странными, диковинными и даже диковатыми: смотрит она несколько вразлёт; можно подумать, что хочет увидеть в человеке сразу и то, и другое и что-то невидимое покамест для неё. Глаза беспокойные, ненасытные, вероятно, не способные насмотреться и напитаться. Яркие они не цветом, а насыщенностью и закипанием чувств каких-то, догадывался Лев, придавленных переживаний, неизведанных, но желанных эмоций. Щёки Елены откровенно запылали, когда она увидела вошедшего в квартиру сановитого, облачённого изысканно, с иголочки Льва. И она в присутствии мужа вглядывалась, точно бы въедалась глазами в этого постороннего мужчину. Лев не выдержал – первым отвёл взгляд: он был раздосадован и даже сердит.
«Ух, рыскает глазищами!» – был он в себе немилосерден и беспощаден.
Посидели за столом в крохотной, но чистой кухонке, выпили, поговорили о разном, но незначащем, необязательном, и через полчаса-час Лев уже отчётливо понял, что его Паша несчастен в этом доме, с этой женщиной. А потому – делать Льву здесь совершенно нечего, надо поскорее убираться восвояси. Направился к двери, однако хозяева не отпустили: позволительно ли – не посмотрел на их доченьку. Что ж, почему бы и не посмотреть; но более он в этом доме никогда не появится.
На цыпочках вошли в полуосвещённую, загромождённую, показалось Льву, тенями комнату. Маша спала или дремала. Лев заглянул, слегка склонившись, в опрятную, украшенную кружевами кроватку, но тут же отвернулся: а что, собственно, было смотреть? Просто спит ребёнок, не по возрасту маленький, худенький, бледненький. На стене тускло розовел пушистый коврик с зайцами, на полу и диване разбросаны игрушки, у стены кособочится старый платьевой шкаф; ещё – пожжёная гладильная доска и изрядно подержанные столик со стульчиком да горшок, чуть задвинутый под кровать. Комната с низкими хрущёвскими потолками, не комната – железобетонная коробка, наполненная призраками. Всё тут, как у многих, ничего примечательного, интересного, особенного, подчёркивающего изюминку в хозяевах. Однако только Лев отодвинулся от кроватки и хотел было направиться к двери, чтобы, несомненно, навсегда покинуть этот неприятный и не уютный для него дом, эту несчастливую семью, как неожиданно увидел – девочка открыла глаза и открыла каким-то внезапным распахом, широко, совсем несонно, и смотрела на гостя совершенно бодро, свежо и лукавенько.
«Славная, однако, девчонка», – тотчас подумал он. Похоже, она всё же не спала, а притворялась, может быть, сквозь ресницы наблюдая за вошедшими и склонившимися над ней родителями и гостем. Что бы там ни было, но Льву представилось – в комнате стало светлее, просторнее, уютнее, и он, сам не зная отчего, даже улыбнулся, сбрасывая свою сумрачную раздражительность, раздвигаясь сердцем. Пристально, заинтересовано всмотрелся в девочку: приятно, что глаза у Маши отцовы – дымчато-расплывчатые, мечтательные, однако уже немало в них какой-то недетской зоркости и даже строгости. «Здравствуйте, – разобрал Лев в её чутком, умном взгляде. – Кто вы? Я Маша. Почему вы хмуритесь и морщитесь? Или, не пойму, – усмехаетесь? Вам скучно со мной? Я вам смешна? Что ж, я повернусь на другой бок, а вы поступайте, как хотите». И она, дивя и обескураживая гостя, в самом деле повернулась на другой бок, лицом к стене, к резвившимся на поляне зайцам. «Какие мы, смотрите-ка, важные и самолюбивые!» – веселел Лев, и веселел, по-видимому, оттого, что втягивался в какую-то игру, детскую, но, возможно, непростую.
– Здравствуй, Маша.
Девочка, притворяясь занятой, касалась пальчиками зайцев и не отзывалась на приветствие гостя. Однако Лев приметил, что она краем глаза следила за ним и родителями, была напряжённо затаена, чего-то, возможно, ожидая или вызнавая. Он взглянул на Павла и Елену: очевидно за поддержкой.
– Она у нас с характером барышня, – предельно приятно улыбалась Елена, при том с отчаянной нежностью всматриваясь в глаза Льва.
«Да какого чёрта, в конце концов, она пялится на меня?!» – закипел Лев и, удручённый, злящийся, отвернулся и от Маши, и от её матери, и от Павла, который упоённо улыбался то товарищу своей молодости, то любимице-дочери.
– Моя наследница, – зачем-то приподнявшись на носочках, пояснил сияющий отец. – Ангелочек. Ради неё и стоит жить-быть.
Елена тоже отвернулась ото Льва, зачем-то опёрлась рукой о плечо мужа и стала смотреть, едва улыбаясь, только на дочь. А Лев неподдельно порадовался, что Елена и Павел, хотя бы рядом с дочерью, способны быть душевно едины.
Он протянул к девочке руки, не ясно осознавая, для чего: погладить ли её, взять ли на руки или просто хотя бы так выразить ей своё расположение. Она, неожиданно тотчас, потянулась к нему – словно бы к очень близкому человеку. А он вдруг смутился, даже растерялся, потому что никогда раньше не держал на руках столь маленького ребёнка. Неловким ёрзающим движением, но предельно легонько, просунул под её спинку ладони и потянул к себе. Она была до того легка и тонка, что Льву представилось – в его загрубелых руках, привычных к металлу, железобетону, громоздким монтажным инструментам, мужскому пожатию, очутился тончайший, воздушно-хрустальный сосуд, который может выскользнуть из таких малочутких ладоней, а то и лопнуть, чуть нажми, чуть не так шевельни пальцами.
– Вы её что, ребята, не кормите? – спросил он ворчливо и буднично, однако переживал невероятные чувства тихого тайного восторга и одновременно разраставшегося страха: только бы не нанести девочке никакого урона, не испугать её, только бы она осталась довольной им!
– Ага, эту принцессу заставишь кушать! – расслышал он Елену, но как будто издали. – Можно подумать, диету соблюдает. Боится потолстеть, что ли.
– Будущая фотомодель или балерина, знай наших, Лев! – горделиво молвил отец.
От девочки непривычно, но приятно пахло, и Льву вообразилось, что навеивалось от её порозовевших щёк. Конечно же, не щёками пахло, а, подумал он, детством, её детством. Детством, в котором сейчас пребывают и её чистая новорожденная душа, и её воздушные, безоблачные мысли, и её желание игр и веселья. А может быть, всего-то пахло молоком, манной кашей, яблочным пюре, конфетами, игрушками, накинутым на спинку кровати платьем, ещё чем-нибудь домашним, младенческим, детским. Но Лев не догадывался об этом, потому что мало знал жизнь маленьких детей и тех семей, в которых есть такие дети. Ему хотелось, чтобы запах был запахом её щёк, её детства и даже её души. Она тихо и степенно сидела на его руке, не вертелась, не разглядывала незнакомого человека, – казалось, уже наверняка поняла, что его не надо бояться, что он добрый, отзывчивый дяденька.
Принимая дочку из рук Льва, Елена настолько низко склонила голову к его лицу, что он почувствовал покалывание от её волос. Холодно попрощался.
28
Горемыке Павлу он позвонил через какое-то непродолжительное время и, хотя тот ни разу ни о чём не просил его, предложил ему приличную инженерную работу в своей компании. Лев понял, что не сможет навсегда, как поначалу намеревался, оборвать отношения с Родимцевыми: ему было жалко добряка и простофилю Павла, ему было жалко его дочь Машу – гордость и надежду его, единственное богатство, которым он, растерявшийся перед жизнью, не принявший ни сердцем, ни умом нынешнюю вздыбленную Россию, обладал. Иногда, как об очень близком, дорогом человеке, Лев отчего-то задумывался о Маше: как же она, такое болезненное и беззащитное создание, будет жить в этом мире, в котором столько повсюду расставлено и временами каверзно замаскировано ловушек, столько поджидает человека невзгод, изломов, потрясений; и, важно для Льва, сможет ли Павел вытянуть дочь, не сорвётся ли в какой-нибудь очередной провал судьбы, увлекая и дочь за собой. Мать у девочки, надо прямо сказать, скверная женщина, чего от этакой мамаши с рысьими глазищами ждать! Чуть что-нибудь блеснёт приманчиво впереди – бросит, уверен многоопытный и застарело недоверчивый Лев, незадачливого, простоватого Павла, а то и дочь заодно, побежит, красотка писаная, туда, где легче, сытнее, слаще. Неизменно подумается вслед и о том, что засиделся он в бобылях и ворчунах, что и ему уже пора бы иметь своих детей, стать отцом, если столь чутко и отзывчиво его сердце, если столь сильны и желанны позывы к тому, чтобы отдавать свою явно перезревающую нежность другому человеку, живя в радости и печали забот не только о себе, любимом. Воистину, надо, наконец-то, чтобы жила-была рядом родная душа, росли детишки, наследники. Что ни думай и как ни ряди, а дети – это прекрасно, это единственное, что навсегда поселяется в твою душу; а душа, говорят сведущие люди, бессмертна.
Однако погодя, по неизбывной привычке, всё же усмехнётся:
– Какими же мы сентиментальными стали: вот-вот слюни распустим до колен и ниже.
Но душа его, не взирая ни на какие его собственные или вычитанные, позаимствованные мысли, жила по-своему – прихотливо и взыскующе, но нежно и ранимо.
Павла определил прорабом на более денежные загородные объекты, обустроил ему офис; мужик он толковый, не забыл инженерного ремесла, работяги к нему потянулись – дело, может быть, не немедля, не с ходу, но пойдёт, потянется в горку. Зарплата у Павла теперь солидная, в своей профессии наконец-то вращается он, а не всякой бестолковщиной занимается, чтобы свести концы с концами. И Павел захотел отблагодарить Льва, чтоб щедро, но и с душевностью получилось, – пригласил к себе домой на ужин. Закатим, мол, пирушку, студенчество наше бесшабашное вспомним и всё такое прочее; а то и, выбирай, в ресторан можно или на природу. Передал, весь сияя и маслясь, что и Елена ждёт его, и Машенька, конечно же, будет рада. Однако Лев хотя и предельно деликатно, но решительно отказался: понимал – Елена будет добиваться его, а он, хорошо знал за собой, может, не совладав с напором черчатьих чувств, нагрубить, потом будет мучительно жалко её и до омерзения противно за себя. Ему хотелось, чтобы в доме Родимцевых прижилась душевность, добропорядочность, доверие, а может, и любовь, и, конечно же, хочется, чтобы Маша выросла хорошим человеком. Он обязательно когда-нибудь, через годы, узнает, что с ней, и если обнаружится, что нужна какая-нибудь помощь, содействие, – поддержит чем сможет.
Никаких встреч с отблагодарениями не состоялось и не могло даже намечаться, и скромный, настрадавшийся Павел более ничего не предлагал, не навязывался к Ремезову Льву Павловичу – генеральному директору, к хозяину и голове всех многочисленных направлений и проектов компании. Он был удовлетворён, даже вполне отныне счастлив, и то, что товарищ молодости, очевидно, сторонится, чуждается его, простого человека, – не беда, случается и чего похуже. А Лев, от времени до времени проводя совещания с инженерно-техническим персоналом, примечал, что мало-помалу спадала с Павла припылённость и мятость, – ясно и отрадно: расправляется человек, начинает дышать полной грудью, даже голосом покрепчал. Пусть он будет утешен в своём маленьком мирке, единится в любви и дружестве со своей женой и дочкой. Мавр, в несомненной радости сердца, сделал своё дело, мавр, простите, удалился. Ничего не поделаешь: у каждого, братья-люди, своя стёжка-дорожка, у каждого какая ни на есть, но своя жизнь.
Тем временем потихоньку достроился дом в Чинновидове, и Лев вселился в него незамедлительно, с охотой великой и подстёгивающей: нравилось ему любое освежение жизни; и стойче начинал он верить, что непременно что-нибудь да ещё доброе произойдёт. Новоселье растянул едва не на полгода: обустроит, обставит очередную комнату – везёт в Чинновидово братию знакомых и родственников. Гулянка им самая развесёлая, баня с бассейном, прогулки по лесу и даже охота и рыбалка. Не хотел он завершать этот праздник обновления и упования.
И по негласному порядку гости, не без подковырки, всенепременно осведомлялись у Льва:
– А где же, дорогой хозяин, твоя жена? В таком домине, дружище, и двух не грех бы иметь!
Знали, что нет у него жены, но зудилось у людей на языке. Льва порой хотя и обжигало внутри притиворечивое, нехорошее чувство, но внешне он оставался холоден, молчком усмехался или притворялся, что не расслышал.
Почти что забросил городскую квартиру. Можно было, конечно, продать её, но не продавал. Держал про запас с явной задумкой: а вдруг той, которая придёт в его жизнь, в его дом, понадобится ещё и жилплощадь квартиры? Ведь женщинам, в сравнении с мужчинами, полушутливо-полусерьёзно полагал он, отчего-то так много всего нужно по житейству. Ей-богу, тряпошные души они!
А дом удался великолепным, но без видимых, явных изысков. Великолепным и одновременно простым в нём было то, что внутри и снаружи он создался совершенно белым. Однако то, что дом вышел белым весь, Лев осознал полно и целиком лишь тогда, когда строительные и отделочные работы уже были докончены подчистую. Странно, но результат озадачил и, похоже, насторожил Льва, – его самого, проектировавшего и отчасти строившего, можно сказать, созидавшего дом. Что же такое белое? – нешуточно задумался он. Почему не розовое или какое-нибудь голубенькое? Или почему было не насытить облик дома разноцветием красок, тонов, полутонов? Но во время строительства, вспоминалось Льву, он даже и не попытался внести какого-нибудь хотя бы простого, тривиального разнообразия. Теперь ходил вокруг или стоял в сторонке – всё приглядывался к дому: и что же за такая за белая серость, белоснежно сияющая маловыразительность? Чудачество на уровне подсознания, Фрейд попутал?
Посмеивался, но невесело, в тяжёлой, погружённой задумчивости:
– Не иначе обеляю свою паршивую душу.
Раз за разом, точно бы заворожённый, обходил дом снаружи, строго, придирчиво разглядывал его издали с разных точек на общей серой волне старого посёлка и утверждался во мнении, что его дом, при внешней схожести с привычными или слегка отклонившимися от чего-то среднего, типового домами, у которых имеются обязательные фундамент, стены, окна и крыша, разительно отличается ото всех окружающих домов и от тех сельских жилых строений, какие он видел где-нибудь или строил сам. Что-то противоестественное ему виделось в своём доме, помимо того, что он сверкающе, торжествующе, быть может, нескромно белоснежный. Дом, думалось многим, и слухи о таких разговорах доходили до Льва, царил над округой. Он не походил ни на одно строение окрест.
– Я дом строил или какое-то святилище? – морщился Лев.
И он вправе был задать себе такой вопрос, потому что второй этаж получился несоразмерно вытянутым, зауженным и венчался овально-округлой, по верхушке опять-таки несоразмерно узкой черепичной кровлей, которая издали напоминала куполок.
Что он, горе-инженер, такое построил? Как этакое недоразумение могло получиться? Он же всего-то хотел иметь обычный дом, чтобы в годах жизни наполнить его душевностью и разумностью. Но выходит, что он, маэстро, белым цветом нарисовал-намалевал свою мечту. Похвально, конечно же, похвально! Однако теперь не помешало бы ответить самому себе: он собирается жить в своём доме, просто жить, как все люди, или молиться, выпрашивая и выцыганивая удачную судьбу? Запутался, что именно ему надо: просто жить или – святость?
– Что ж, буду заполнять святостью пустоту моей души. По крайней мере есть чем заняться в свободное от работы время.
Внутри дом тоже получился, по определению Льва, не совсем нормальным: все шесть спальных комнат первого этажа выходили в одну большую овальную залу с огромными окнами на три стороны света. С утра и допоздна зала всегда ясна и озарена естественным светом, а в погожие дни она до краёв залита и потоплена солнцем. И солнце, думалось Льву, тоже жилец его дома. Разве в таком месте кто-то может быть несчастным? И ему порой представлялось, как его близкие, родные люди выходят по утрам из своих искусственно освещённых комнат и, желая того или нет, – ныряют в море солнечного сияния.
– Не утонули бы, – тут же пытался он иронизировать, в уже становившимся привычным ворчливом тоне, но образы тем не менее были радостью и утешением для него.
29
Казалось бы, жизнь Льва должна теперь уложиться. Дом, квартира, деньги, самостоятелен до мозга костей, не болен, не урод, силён, умён – что, спрашивается, ещё надо человеку.
Но прожил он в доме год, минул и второй, набегал однозвучной волной уже третий – ничего не переменилось. Годы ощущались тишиной и сумерками. Он был по-старому одинок и душевно пуст. У него были компаньоны, родственники, соседи, какие-то женщины появлялись для необязательных и скучных романов, в нём также в избытке и крепе властвовало здоровье и не сдавалась чарующая женщин красота лица и тела, но ни в нём, ни рядом где-то не засияла любовь – его любовь, для него любовь, та любовь, единственная, к единственной и во имя единственной. Сердце – камнем – безмолвствовало. «Хотя бы в рай попади, а и он, наверное, омерзеет, если нет в сердце ничего», – тягуче и нудно думалось Льву его долгими одинокими вечерами вне сутолоки строительных площадок и офисов. И он уже был уверен, что всё же построил не дом, чтобы жить в нём и радоваться, «а храм, чтобы, – ёрничал он над собой, – христарадничать и выпрашивать у Бога милостыню – простое земное человеческое чувство».
Жительствовать одному в столь большом доме было невозможно, нравственно тяжело, можно, чуял Лев, помешаться, и он сначала поселил у себя мать, а потом разошедшуюся с мужем сестру Агнессу.
Мать поселил, потому что она попросилась сама. Полина Николаевна уже сделалась жалкой, больной и отчего-то быстро, с тревожным равнодушием замечал Лев, изредка навещая мать, старилась, дряхлела, грузнея, скрючиваясь, сморщиваясь. Встречаясь с сыном, она по-старушечьи оглохло-однообразно ворчала, кляня весь белый свет и за то, и за другое. Раньше она была сдержанной, холодноватой, ласково-строгой, соседки за глаза величали её Снежной королевой. Теперь что-то в ней растаивалось, расползалось. От её некогда гордой осанки ничего не осталось: спину сгибал недуг, а ноги безобразно налились венами, раздулись. Было трудно поверить, что когда-то Полина Николаевна была красавицей, блестящей домохозяйкой с медицинским образованием. Похоже, она невозвратимо невзлюбила жизнь и людей: все и всё было для неё скверным, неинтересным и даже отвратительным. И она, полагал Лев, не притворялась: видимо, и впрямь ей прискучила жизнь, в которой она не смогла и не сумела стать счастливой и как-то умиротвориться. Быть может, теперь высветилось нечто такое истинное её. Старость и болезни сдирают с человека, как кожу, фальшь и со всей жестокостью изобличают его перед всеми, холодно итожилось в нудных размышлениях Львом. Одиночеством и злостью на мужа, который лишил её удовольствия жить в благе супружества, семьи, отнял будущность довольной, дарящей радость своим близким домохозяйки, она расстроила свою душу и теперь чахнет и тлеет. И сможет ли она внятно ответить, если кто у неё спросит, зачем жила? – по-прежнему был неумолим в себе её вгрызающийся в смыслы сын.
«Так и я закончу?» – «Ну уж нет!» – «А почему нет? Очень даже да».
Но Лев понимал, что выше матери нет и не может быть ничего в целом свете, что мать надо, прежде всего, пожалеть, чем-то и как-то вдохнуть в её жизнь кислорода любви и сердечности. И потому он выделил ей лучшую комнату, обставил превосходной мебелью, завешал и устелил дорогими коврами, намонтировал разных электронных приспособлений. В её комнате был и биотуалет, и холодильник, и телевизор с дивным размером экрана, и ещё компьютер с выходом в паутину Интернета – и многое что ещё, лучшее, под боком, не надо никуда ходить, если что. Радуйся, казалось бы, коротая старость. Но сын всё также не называл маму мамой, а когда спохватывался, то стыда и жалости в себе уже не находил. Она же не напоминала ему, не обижалась, быть может, уже забывая, кто она для него. Лев понимал: этим нагромождением великолепных вещей в её комнате, этой лавиной нужных и ненужных удобств он отъединился от матери как никогда ещё или даже откупился от неё. «А надо просто-напросто пожалеть, сказать человечье ласковое слово», – урезонивал и упрекал он себя, но сердце его молчало и для матери. Они уже ни о чём друг с другом не спорили, не вспоминали отца, она не настаивала на женитьбе. Каждый жил как моглось, по-своему, отъединённо нравственно на большое расстояние друг от друга.
Если не попросилась бы – поселил бы он мать родную у себя? – спрашивала Льва его «подруга-тоска». Однако ответить прямо и открыто ему было противно: он чувствовал к себе напухающее и вроде бы чем-то садящее омерзение и гадливость. Но обманывать себя он не хотел – ответил: не предложил бы. Нет её рядом – пусто, но рядом она – всё одно пусто. Выходит, что он не может, не способен пожалеть даже родную мать.
– Эгоист. Конченый эгоист. Потому и сердце моё неживое, омертвилось раньше моей собственной смерти.
30
Агнесса однажды приехала в гости и как-то незаметно осталась жить в этом, как она выразилась, «суперном» доме брата, хотя у неё была в большом городе другой области приличная двухкомнатная квартира. Лев хотя и недолюбливал сестру, однако не возразил.
Агнесса была, на взгляд брата, странной, однако спокойной, уравновешенной, вполне благоразумной женщиной. Они были внешне схожи: та же породистость, телесная красота в ней наличествовали, что и в брате, выпуклыми, приманчивыми для сторонних глаз. Только она походила на отца, а он – на мать. Агнесса была помладше Льва, но выглядела старше, скорее утомлённо и придавленно. Она под влиянием матери закончила медицинский институт, но своей профессии терапевта, как, кажется, и мать, не полюбила: её тяготили люди со своими дурацкими болезнями, вечным нытьём. Уже на второй год работы в поликлинике она «умаялась сочувствовать им». Агнессе временами начинало чудиться – что ни больной, то притворщик, хитрец. Ушла в другую профессию, потом – в третью, в четвёртую, ещё во что-то. Домохозяйкой, о чём мечталось, побыть не довелось: мужья зарабатывали мало.
Когда Агнесса работала в поликлинике, Льву приходилось по сердцу, что его сестра медик, врач, доктор, ему даже сами слова эти нравились. Он ощущал и убеждал себя, что медицинский работник не только лечит людей, но и помогает исправиться человеку, вылечиться для новой, несомненно, более правильной, разумной, но и душевной жизни. А лечить, врачевать нужно всех, полагал он, с годами утверждаясь в этом суждении. Когда же сестру «закорёжило», он ни разу ни у кого не поинтересовался, где и кем она работает. Теперь Агнесса, кажется, и вовсе нигде не числилась, в город из Чинновидова выезжала редко и неохотно, и Лев понимал, что она, видимо, вывела для себя: к чему работать, если дом брата полон всего, чего душа пожелает. И, быть может, полагала: почему бы ей не пристроиться здесь в домохозяйки.
Замужем она побывала три раза и теперь любила поплакаться знакомым и матери, что бывшие её мужья – люди бестолковые, бессердечные, «да что там – скоты». Но брат однажды пресёк её:
– Скажи-ка, сестрица, а любила ли ты своих мужей? Молчишь, нечего сказать? Вот и молчи! И не ври ты, пожалуйста, – они все стоящие мужики! Сколько горбатился на тебя Пётр, твой второй? А ты ему поминутно талдычила – денег, денег, денег давай! Сбежал мужик, даже личных своих вещичек не взял. Ты любила и любишь только себя и выскакивала замуж единственно, чтобы брать, а не давать.
– Не правда! Не правда! Не смей! Молчи! – Агнесса с неестественной надрывностью зарыдала и убежала в свою комнату.
Мать, не шелохнувшись в кресле и вдавившись в него вся, молча смотрела мимо своих детей, но смотрела не в окно, которое находилось напротив неё и за которым торжественно и тихо сияло небо, а в угол комнаты, в пустой, набитый густой тенью.
Брат более никогда не встревал в жизнь сестры.
Жила Агнесса и в самом деле странно: могла сутками ненасытно читать и перечитывать на который раз модные журналы со всевозможными и всеядными рецептами – рецептами обольщения мужчин, приготовления блюд, кройки-шитья, зарабатывания какими-нибудь чудодейственными манипуляциями денег и рецептами всего другого, украшающего, полагала она, эту унылую, осточертелую, неудачливую жизнь. Но сама она варить не любила, не шила, не вязала, денег не зарабатывала. Умела ли обольщать мужчин, набравшись всяческой журнальной мудрости? Конечно, у неё, привлекательной, неглупой, случались встречи с кавалерами, с которыми она знакомилась по газетным объявлениям, по эсэмэскам, по переписке «мылом», но отчего-то давно уже у неё не получалось познакомиться вживую – случайно, нечаянно, невзначай, посмотрев в глаза друг другу. Почему-то не подходили к ней мужчины, не приставали на улице, не гнались за ней. И чем становилась она старше, тем короче и преснее бывали её любови. Четвёртым мужем, усмехался в себе Лев, уже и не брезжило.
Как околдованная, Агнесса могла сутками просиживать возле телевизора в своей комнате, отслеживая с десяток сериалов по разным каналам. Ей были интересны чужие, поднятые над её обыденной жизнью людские судьбы, невероятные повороты сюжетов. Она, вонзаясь в экран глазами, что-нибудь фантазировала на свой счёт: вот бы и у неё чего-нибудь красиво да гладко пошло бы, появился бы он, красавец, богач, как-нибудь безумно влюблённый в неё – его, несомненно, богиню. Однако что-то сделать самой, чтобы жизнь её изменилась, она, может статься, уже совсем разучилась. Её с годами меньше и меньше интересовала жизнь вокруг, жизнь будней, труда, волнений.
С ней жил ребёнок – изнеженный и, ворчал Лев, не растущий ни так ни сяк Миша. Он, разумеется, рос, но могло показаться, что на самом деле совсем не подрастал с годами, потому что был малоподвижным, диким, нелюбознательным, сутулым, полноватым подростком. На улицу почти что не ходил, жалуясь, что пацаны обижают, со Львом мужской работой по хозяйству не хотел заниматься, сетуя, что устаёт сразу или, мол, заболел, а чуть дядя заругается – хнычет, и погромче, чтобы, видимо, мать услышала. И она защищала его, жалела без меры и нужды. Мог Миша, подобно матери своей, на долгие часы упереться взглядом в телевизор; мультиками не мог насытиться. Или сгорбленно, сосредоточенно-мрачно трещал за компьютером «стрелялками» и «гонялками», мало-мало оживая и переваливаясь деревенеющим туловищем, когда попадал или обгонял.
– Ма, я опять замочил, – вяло сообщал он матери.
– Ма, смотри, я их всех облапошил, – иной раз прожимал он сквозь зубы «всех».
Лев редко слышал, чтобы мать и сын о чём-нибудь друг с другом говорили, словно бы живая жизнь была им взаимно обоим неинтересна, тосклива или даже непонятна.
31
Однажды Лев в одиночестве сидел в зале – как он любил считать – незаходящего солнца. Через боковое юго-восточное окно потоками лилось на него лазоревым светом небо воскресного утра, хотя само солнце ещё не добралось до оконного проёма и, похоже, не выбилось по-над сосновым бором. Небо блистало этим божественным цветом и точно бы полыхало. Он обожал и сами слова – лазоревый, лазурный, лазурь. Ему казалось, что небо сейчас греет его, приласкиваясь к левой щеке; не надо и солнца. А может, и малюет по его лицу лазурью. Губы Льва невольно растягивались улыбкой, и что-то детское рождалось в его душе: он мазнул пальцем по щеке и посмотрел на него – нет, не окрашен! Засмеялся, с притворной укоризной покачивая головой. Подумал: прекрасно, что зал получился, как и замышлялось в проекте, вместилищем – ему нравилось и это слово! – вместилищем света, радости, жизни, вообще чего-то естественного, природного. А ещё чего-то такого, что открывается сразу к небу, устремляется к высям.
Внезапно солнце вероломно и мощно прыснуло лучами – Лев вынужден был призакрыть веки. И уже сквозь волоски ресниц как бы подглядывал за солнцем. Оно властно затопило в золоте света разнеженную, беспечную лазурь. Лев был потрясён и вместе с тем очарован. Перед его глазами и душой, подумалось ему, родилась новая Вселенная, и он попал в свежий, очаровательный мир. Но чирикающие за окнами в палисаднике воробьи, начищавшие пёрышки на ветвях огрузневшей роскошным цветом персидской сирени, напоминали ему, что он на земле, что по-прежнему на той же планете.
В нём засияло ощущение – непременно и немедленно нужно рассказать кому-нибудь о какой-то своей личной большой радости. Но что за такая за радость, в чём её суть? А может, достаточно кому-нибудь улыбнуться? Но кому?
Из своей комнаты вышла заспанная, в тяжёлом, сходном с шубой, густо-лиловом, как чернила, халате Агнесса. Толкнулась, позёвывая, в дверь сына:
– Мультики проспишь.
Миша вышел и тоже зевнул:
– Фу, опять это чёртово солнце. Ма, глаза заболели.
– Не смотри на него, – ладонью поспешно прикрыла мать его глаза.
Вышла на голоса и Полина Николаевна, поморщилась, точно бы от кислого, но уже привычно промолчала.
Лев напряжённо смотрел на своих домочадцев: вышли они из своих тёмных, дремучих комнат в приветно, торжественно освещённый зал, однако все втроём отчего-то оставались темны, оставались тенями. Казалось, что лучи не дотягивались только лишь до них. Может, у Льва в глазах потемнело от яркой вспышки? Однако, как ни всматривался он в родственников, они не становились для него светлее и чётче. Возможно, легче жить, укутавшись сумерками.
Полина Николаевна скрылась в своей комнате, и Лев понял: чтобы солнце переждать. Пусть поднимется оно выше окон, уймётся. Миша шмыгнул в ванную: там наверняка нет солнца. Агнесса, прикрывая глаза и ладонью, и высоко поднятым воротником халата, прошоркала тапочками на кухню.
– Никому не нужно моё солнце.
– Что? Лёва, ты что-то сказал? – спросила сестра, с прищуренными глазами высовываясь в зал.
– Нет, – не сразу отозвался он, потому что чувствовал – даже его голосу не надо бы сейчас звучать.
Но ощущение восторга и света, недавно озарявшие и поднимавшие душу, уже перебилось, скомкалось, рассеялось куда-то вниз, и ничем не удержать, не восстановить его. Мысли задвигались привычными для Льва тоскующего серыми мутными роями. В который раз явственно осознал, что его самые близкие, родные люди ещё более одиноки и несчастны, чем он сам. Сызнова оказался он один на один со своей болеющей душой. Почти физически ощутил – уныние и отчаяние железобетонными плитами притиснули его. Инстинктивно, будто группируясь, чтобы не покалечило и не задавило насмерть, ужался в кресле и просидел в таком положении долго, не откликаясь на призыв сестры завтракать. Потом поднял голову, но не увидел солнца. Неожиданно чего-то испугался – рванулся с кресла. Нет: солнце на месте, горит и плещет светом призыва и жизни, – оно уже давно поднялось выше оконного проёма. Его солнце с ним, – утешился по-детски; и не отводил глаз от светила, хотя оно уже прижигало.
Лев стал всё реже находиться в своём доме: он страдал и злился, что здесь, в красивых, любовно обставленных комнатах, среди его родных людей, и в нём самом пригрелась и блаженствует пустота, и непонятно, как одолеть её, уже прогрессирующую, раздающуюся; она действует точно бы запущенный до последней стадии рак. Сердце своё он чувствовал холодным, омертвелым, называл куском изжёванной автомобильной резины, которая зачем-то валяется в сарае. Нередко вечерами, приезжая в Чинновидово, он спускался в комнату под гаражом и там, на диво, начинал чувствовать себя спокойно, легко, даже сердце оживлялось. Здесь, на глубине, он вроде как защищён. Спалось чудесно, по утрам выходил на воздух бодрым. Но иной раз подумает, что, наверное, и в могиле, должно быть, тоже хорошо: тихо и – людей нет. «Так вот почему нужно когда-нибудь умереть и оказаться в яме!» – по привычке подтрунивал над собой Лев.
Однако со временем и в своём тайном прибежище ему стало отвратительно оставаться: боялся помешательства, боялся незаметно и невозвратимо переродиться, выродиться. А может, думалось Льву, он уже выродок, нравственный мутант. Неужели жизни его так и иссякнуть в этой разрастающейся, высасывающей силы пустоте, закончиться ничем, неотвратимой, как смерть, никчемностью?
32
Прежде, пока строил дом, Лев мало куда выезжал дальше Иркутска и Чинновидова, теперь же зачастил в командировки, в разъезды, много путешествовал. Запечатлелось в нём, точно бы оттиснулось раскалённым тавром, чувство – только бы не оставаться дома надолго, только бы не тянуло в яму, от людей, от жизни действительной и живой. Ехал и по большому делу, и без особой надобности, а то и праздно, в сумрачном рассеянии. Его холдинг разрастался, помножались заказы от состоятельного люда на всевозможные изыски в проектировании и обустройстве особняков и офисов – первостатейно нужны были отличные импортные материалы, и он, ещё раньше изъездив Сибирь, без малого всю Россию, стал теперь наведываться в зарубежье. В дороге ему жилось куда легче и проще, из души на время мало-мало выветривало угар хандры, страхов, озлобления. Новые люди, новые земли и небеса, другие порядки и правила жизни – впечатления сбивали и спутывали стародавние чувства и мысли Льва.
Он побывал в Европе и Азии, в Америках и Австралии, заглянул и в Африку, и до архипелагов Океании зачем-то добрался, и даже занесло его на ледоколе с гуртом богатых зевак в Арктику. Но преимущественно посещал зажиточные страны с налаженным, или, принято говорить, цивилизованным, бизнесом, с мощной, технологически давно переступившей двадцатый век строительной индустрией. Дивился, учился, сам пробовал. Сносно владея английским, всегда безукоризненно одетый, печально-строгий красавец, без труда столковывался о выгодных поставках отделочных и монтажных материалов, строительных инструментов и машин.
Лев видел, что за границей, на её благополучных, благоухающих островах бытия и даже на целых его, бытия, материках, люди умеют строить великолепные дома и дороги, превосходно одеваются и питаются, запоем, настырно занимаются спортом, азартно, с не меньшей настырностью путешествуют. Умеют жить люди-человеки, – нехотя и осторожно восхищался Лев, приглядываясь и осматриваясь. И поначалу ему мнилось, что жизнь здесь всюду разумна, легка и даже – узловое для него – душевна. Всё-то народ улыбается, всё-то один другому приятен, любезен, а то и уступчив. Жизнь – замечательна, best, fantastic, super. И не подумаешь, что люди в чём-то существенно нуждаются, чем-то драматически, беспросветно отягощены, терзаются. Куда ни посмотри – легкокрылая, обласкивающая жизнь сравнительно обеспеченных, ожидающих ещё и ещё отрад детей солнца.
Пообвык в этих иных землях, поприсматривался там к жизни вокруг и – заскучал, как-то исподволь сник, «закис». Хотя внешне он лицезрел всё ту же ненавязчивость и лёгкость бытия, стандартные улыбки, тёплой ароматичной водицей разлитую всюду ласковость и завлекательность, однако зорко разглядел и многажды уверился, что всюду человек изловчается в праздности и лености, всюду изводят людское племя скрытые и явные пороки. И оказывается, был убеждён Лев, жизнь везде одинаковая, одноликая, подчас чудовищно и несправедливо бессодержательная, везде – и в покамест бедной, поджарой его России, и в нищенских экзотических закутках планеты, и в этом тучном, лоснящемся, так называемом, цивилизованном мире. Можно подумать, что живёт-может человечество в одном-единственном на планете царстве-государстве. Лев утвердился в мысли, что увлекательно и значимо для человека только лишь то, что нежит его самолюбие и тщеславие, доставляет ему удовольствие. Белый человек или чёрный, азиат или европеец, малограмотный лапоть или просвещённый до мозга костей сноб, в шубе или в накидке – каким бы наружно ни был человек, как бы ни прикрывал и ни маскировал себя, его внутреннее естество Лев увидел однотонным, штампованным, вышедшим с конвейера какой-то невидимой, но всеохватной фабрики. А потому мир людей, начинало болеть во Льве ощущение, – одна безграничная однообразность, если не сказать – пустота; или «недопустота», потому что заполнена тем не менее чем-то – домами, дорогами, автомобилями, всем тем, что создано человеком. Но глубинная цель, был уверен Лев, увязывающая жизнь и смерть, текущее время и вечность, духовное и материальное, глубинная цель появления и бытования этих предметов неясна самому человеку – их творцу. И вроде как сами предметы получаются в жизни человека случайными: могли бы и не появиться вовсе или появилось бы на их месте что-нибудь другое. Ни вещный мир, ни внутренний мир человека пока что не объединены, не спаяны крепкой налаженностью, высоким и одновременно глубоким смыслом и значением. Лев себя спрашивал, зачем эти дивные, гениальные дома, зачем эти роскошные огни этих поистине чудесных, удобных городов со множеством разнообразных, великолепных предметов, зачем вся эта обустроенность и выхоленность жизни, если люди не живут, а тычутся, как свойственно новорожденным млекопитающим в поисках материнской груди. Тычутся настойчиво, самозабвенно, но не находят, чего искали, потому что мать, быть может, бросила их. Нет, нет, – говорил себе мыслящий и часом взбудораженный Лев, – не бросила, ещё не бросила, жалея и даже любя. Находят-таки желанный сосок, однако проходит время – и они с огорчением и досадой, а то и со злостью выясняют, что это не то удовольствие, а что уже, и поскорее бы, нужно нечто другое. Но что другое? Для чего другое? Почему другое? Во имя чего другое? До каких пор и пределов это самое другое? Ответов тоскующий Лев не находил.
В конце концов он перестал мотаться по свету, снова осел в Чинновидове, томился, изъедался изнутри. Жил то в доме, то в гараже; родные по-прежнему ничего не знали о его потаённой комнате, а думали, что он, опять за что-нибудь злой на них, ночует в своём комфортабельном автомобиле.
Спасала и вела, как всегда, работа.
Страна, понемногу выправляясь после тряски и ломки 90-х пореформенных лет, по-русски копотливо, но по-русски же и твёрдо созидалась домами, дорогами, заводами, трубопроводами, – многое что вершилось и намечалось на родной земле. Внешняя жизнь всегда пристойнее и ровнее, по крайней мере, не сильно пугает людей, как их внутренние штормы и катаклизмы; она всегда – маска. И в этой внешней своей и общей жизни Лев был как все – просто человек, к тому же человек дела: он нужен был и как инженер, и как менеджер, и безропотно и привычно носил общеприятную маску благополучия и нужности. Проектировал и строил дома, торговал, затевал производство стройматериалов. Колесил по разбросанным повсюду объектам, часто одиночкой, в своём отличном американском доме-джипе.
Уезжал нередко на несколько дней и, бывало, заночёвывал в автомобиле где-нибудь в степи или на таёжной прогалине в стороне от большой дороги. Он обожал одинокое поночёвье в природе, в глухомани, когда светят тебе только костерок и небо. В особенности любил высокое, золотисто озарённое небо ближе к вечеру или кипящее звёздами, когда уже за полночь, а сторонней жизни вокруг почти что не слышно и не видно. Тихо и торжественно окрест. И неплохо, если ещё лёгкий морозец, дышится глубоко и плотно, будто родниковую воду потягиваешь. Подолгу смотрел в небо – ощущалось оно каким-то великаньим оком Вселенной, которая, размышлял, непременно должна таить в себе что-нибудь куда более стоящее, чем то, что по произволу тысячи тысяч законов человеческой необходимости и целесообразности утвердилось ныне на Земле.
Из поездок с такими ночёвками и раздумьями он возвращался посвежевшим и приветливым, охотно первые дни общался с родственниками, и пронзительнее и чище в нём раздавалась совесть: с ними, особенно с матерью, надо бы ему быть ласковее, снисходительнее, терпимее, проще говоря – человеком надо быть.
33
Однажды, с такой полегчевшей и разъяснённой душой, он возвращался из поездки, и уже на подступах к Иркутску ему махнула рукой тоненькая молоденькая девушка. Он остановился, недоумевая, но распахнул дверку приветливо:
– Что, воробышек, подвезти? Вижу, вымерзла до костей.
Стояла перед ним рахитичная замухрышка с отёчным лицом то ли младенца, то ли старушки. Октябрьское мозглое предзимье, сизо парящие поля и щетинки далёких лесов пятнисто завеяны снегом, напирает ветер вдоль дороги, точно бы по трубе, с утробным подвывом, мимо проносятся автомобили, обдавая гарью и стужей, а на девушке – чёрные синтетические чулки, коротенькая, неоново светящаяся юбка. Вычурно-серебристая, но сально заношенная куртка браво распахнута, под ней угадывается вконец отощалое тельце. Под синё покрасневшим носом течёт; и вся она – «недомороженный цыплёнок».
– Обслужить? – едва-едва смогла она разжать мертвенно-синюшные губы, но улыбнулась, да с подобострастной приятностью.
– Что-что?
Лев не расслышал её заледенённого, шамкающего голоса и не тотчас догадался, о чём она сказала. Душу и разум ещё не отпустила нега, помнилось царственное ночное небо, в чеканной изысканной разрисовке Млечный Путь.
– Обслужить, говоришь? – прищурился Лев, ощущая внезапно подкатившее к горлу чувство гадливости, но и жалости.
Он прихлопнул свою дверку и, ощущая внезапное головокружение и слепящий огонь в глазах, несоразмерным рывком распахнул противоположную:
– Залезай-ка, подружка, погрейся. Для начала.
– У-у, клёво! – завалилась она в кабину и сразу разбросалась по-свойски на сиденье. – Дай закурить.
Он молчал, уткнувшись лбом в руль. В сердце его закипало. Она заметила под его побледневшими щёками дрожащую косточку скулы, и что-то такое заставило её незамедлительно распрямиться, усесться ровно. Притихла, старательно и напряжённо выказывая приличие, возможно, скромность, грелась, протягивая цыплячьи лапки-ладошки к калориферу.
Сидели и молчали. Два нечаянных друг для друга человека, но как-то по-особенному, возможно, глубоко и доверительно, молчали.
Вскоре девушка стала обмякать, следом запоклёвывала и – уснула. Её тельце приняло естественное для её юного возраста положение – безмятежности и полного доверия к миру и людям. Лев не будил её. И она блаженно, но в тяжёлом дыхании проспала часа три. Сам тоже – в дрёме, будто бы в дыму. Смотрел на чёрное поле, показавшееся ему перепачканным, безобразно заляпанным снегом. И чёрная земля для него – нечто чистое, а белое, этот молодой влажный снег, – что-то, напротив, грязное, некрасивое, даже никчемное. Холмы полей своей испачканностью, неприглядностью укатывались далеко-далеко, удавливая горизонт, грязня львиный кусок неба, перегораживая подступ к Ангаре. Над самой рекой торчали залысины холмов, а над ними свинцово-синими, старческими брюшинами провисали облака. Зачем-то ловил глазами чадные вихри, поднимаемые машинами. Да и куда бы ни посмотрел – дурно, плохо и некрасивость до безобразности. А ведь несколько часов назад радовался восходу, который вылил на землю малиновые и облепиховые соки: пейте, люди, радуйтесь. Невольно подумалось – заплевали землю с неба, а за что?
Снова и снова утыкался лбом в баранку. Чутко слушал простуженное дыхание девушки, не шевелился – не разбудить бы.
– Ой! – очнулась она.
– Как тебя зовут?
– Маша.
– Мария, – зачем-то уточнил он. – Тебе, Мария, нужны деньги?
– Угу.
– Я тебе дам. Много. Честное слово. Но ты расскажи мне начистоту: почему ты на дороге, кто тебя сюда посылает?
Молчала, угрюмилась, ужималась.
– Рассказывай. – Он подал ей крупную сумму. Она неуверенно протянула руку, но схватила цепким рывком.
– А ещё дашь?
– Конечно. На, возьми, – потрошил он карманы. – Довольно? Рассказывай.
Рассказала о том, что когда-то её семья жила хорошо: отец трудился на заводе, мать домохозяйствовала, потому что детей четверо: она, Мария, старшая, и братишки с сестрёнкой, совсем малышата. Но стряслась беда, выворотившая жизнь семьи наизнанку: завод почему-то закрыли, работников уволили. Отец не смог найти постоянную работу, а редкая подёнщина бренчала в кармане копейками, – вскоре запил горько, беспробудно и однажды замёрз в снегу. Мать два-три года отчаянно билась, однако не вынесла гнёта судьбы и сорвалась в беспросветную, как пропасть, разгульную жизнь. Дети не обуты, не одеты и даже случалось, что поесть дома нечего было. Раньше приходили в квартиру всякие разные мужчины, с недавних же пор обитает в ней на правах полновластного хозяина только «дядя Коля», «урод и извращенец», «уголовный тип». Он надругался над Марией. А как-то раз привёл её к ближайшей трассе и сказал: «Зарабатывай, Машка, нечего болтаться без дела». Она и сама понимала, что надо содержать братишек и сестрёнку, как-то матери помогать. Перестала в школу ходить – есть работа. Теперь дядя Коля и мать в хмельном угаре сидят дома и поджидают Марию, «нашу кормилицу», говорит, но тут же подвывает мать.
Лев слушал и как бы вглядывался в уже давно им обдуманное и понятое: в России неустрой государственный бывает пострашнее войны внешней. И нередко негласным, но непреложным законом выходит, что беда в стране – беда в семье. Может быть, верны эти слова не для всего света белого, однако в матушке-России являющееся отчего-то непременно обвалом, стихией, беспощадностью общегосударственное неблагополучие извека зацепляет, точно бы крюками, многих и многих и затягивает за собой в хляби разорения, ожесточения, порочности. И кто умудряется выжить да удержаться на ногах и не утерять душу, потом потихоньку, шаг за шагом выкарабкивается наверх к какой-то новой, верится, что правильной и справедливой жизни. Нынешнее время, время начала нового века и даже тысячелетия, – время очевидного для Льва разворота, возвращения к разумной, а то и добросердечной жизни, однако все ли смогут выкарабкаться, все ли, прежде всего и главное, здоровы душой?
Лев подъехал к ближайшему кафе. Выспросил Марию, где она живёт: пообещал, что прямо сейчас поможет деньгами и её матери.
– А ты, Мария, пока наешься-ка от души. И знаешь что ещё? Постарайся стать хорошим человеком. Договорились?
– Ага, – ответила она не сразу и усмехнулась. Видимо, нескоро ей поверить, что люди могут быть, и должны быть, просто добры друг к другу и даже великодушны.
Когда взбирался на пятый этаж, даже не знал, не понимал внятно, что скажет, как поступит. Дверь открыло заспанное, заросшее, горбато-сутулое, длиннорукое существо, более похожее на шимпанзе, чем на человека. Оно, – прозвучало во Льве.
– Ты, что ли, дядя Коля?
– Чиво? – заробело оно перед крепким, солидным незнакомцем.
Лев вошёл в тёмную, сырую и по-нориному дурно пахнущую прихожку, туда же наступательно грудью уткнул окоченевшее, но ощерившееся оно.
Первое, что Лев рассмотрел во мраке, – настенное зеркало. И что-то мгновенно и ярко, как ярость, в нём решилось, а в груди загорелось и заклокотало бешено.
– Посмотри, дядя Коля, в зеркало.
– Чиво?
– В зеркало посмотри, сказал.
Оно в зверовато учуянной опасливости глянуло искоса.
– Запомнил свою морду?
– Чиво-о-о?!
– Больше ни ты себя, ни кто другой тебя таким красавчиком не увидит.
И только оно хотело шмыгнуть в ванную комнату, чтобы там, видимо, запереться и взывать о помощи, как Лев молниеносно сгрёб его за шерстисто-грубый, свалявшийся загривок и впечатал физиономией в зеркало. Ещё, ещё раз. Не жестоко, не злобно, но – бесчувственно и даже без чувств, как механизм, автомат с когда-то и кем-то введённой программой к действию.
– Бог, говорят, любит Троицу, – сквозь зубы, но потерянным голосом подытожил Лев, с трудом разжимая окостенело побелевший кулак.
Оно рухнуло на пол. Лев, страшный, сгорбленный, с крепко зажмуренными глазами, обморочно покачивался над жертвой. Вчуже, отдалённо, словно бы даже со стороны почувствовал себя кем-то или даже чем-то, другим, быть может, не совсем человеком. Возможно, когда он увидел в дверях это самое оно, в нём мгновенно проснулось глубоко укрытое природой и всей человеческой эволюцией чутьё дикого создания, быть может, вовсе не человека, а животного, которое способно уничтожить в одночасье, без колебаний то, что угрожает его жизни и выживанию. Минута, две ли прошли, и Лев почувствовал – в груди что-то стало перетекать, переделываться: догадался – перерождалось нечто звериное, стихийное или механизированное в человеческое, ограниченное рамками рассудка и морали. Сдвинулись мысли – следовательно, человеческое одолевало, устанавливаясь на своё привычное место.
Склонился к своей жертве – жива, сопит.
Из смежной комнаты, видимо, на шум, выбрела босая, заспанная до жуткой опухлости женщина. Хотела, но не смогла вскрикнуть, оглушённая страхом.
– Жить будет, – сказал ей Лев. – А радоваться жизни – уже вряд ли. По чертам лица вижу, что вы мать Марии, и я, собственно, пришёл к вам: возьмите, пожалуйста, деньги. Не бойтесь – берите, берите смело! Ничего взамен не требую, просто по русскому обычаю подсобляю. Почти как погорельцам. Всякий человек может попасть в беду. Марию, прошу, верните в школу, маленьких своих детишек обуйте, оденьте. Жить по-человечьи наконец-то начните. Советую: вот этого обезьяноподобного фрукта, немного когда поправится, в шею прогоните. Если будет упираться, припугните: скажите, что я ещё разок приду потолковать с ним. А узнаю, что разгульно живёте и Марию снова отправляете на трассу – убью. Понятно?
– Понятно, понятно! Ай, грешница я окаянная, ай, совсем обезумела баба – этакое сотворила с Машенькой, с доченькой моей ненаглядной, с умницей, с такой прилежной девочкой! Нет и не будет мне прощения! А денег-то ско-о-о-лько! Низкий вам поклон, добрый человек. Уверена, супруг мой Петя смотрит сейчас на нас с небес и тоже кланяется и молится за вас. Дайте я вашу руку поцелую, благодетель, ангел хранитель вы наш!
Лев отмахнулся и, наморщенный досадливо, до брезгливости, со сжатой челюстью, стремительно вышел.
Вспоминая об этом происшествии, он поражался: как мог он до такой степени легко, даже буднично, произнести невозможное и чудовищное для себя – убью. Самое же важное, но при этом маловразумительное для него, ведь и в самом деле чуть было не убил человека. Каким бы ничтожным, мерзким и даже преступным этот дядя Коля ни был, но он – человек. Человек. Да, без сомнения: человек. И страдающий совестью и мнительностью Лев глубоко и печально задумывался: неужели его неприятие современной жизни, да что там жизни! – мира целого, мира беспутного, людской породы всей, породы извращённой, гадкой, уже мутирует в озлобление, в зверство, в патологию, а может быть, даже в необратимый недуг – в безумство, в сумасшествие? Похоже, что неспроста время от времени тянет его в яму – в своё укромное, почти звериное подземное убежище под гаражом, где находишься подальше от людей.