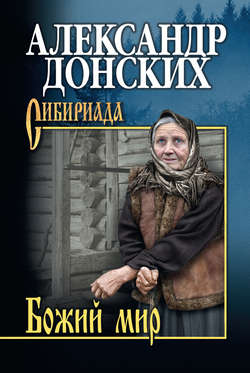Читать книгу Божий мир (сборник) - Александр Донских - Страница 2
Повести
Божий мир
ОглавлениеЭту историю из довоенных и последующих лет прошлого века поведала мне старшая родственница моя Екатерина. А я расскажу вам. Как смогу.
1
Молоденькая в ту пору Екатерина, родом из поангарской деревни, окончила в начале 50-х институт культуры и по распределению была направлена в библиотеку Глазковского предместья Иркутска. Там же, по ходатайству райотдела культуры, она снимала и жильё – две уютные комнатки в деревянном, совершенно деревенском домике с резными наличниками, с маленьким огородом, с двориком. Стоял он на крутояре, почти что на берегу Иркута, неподалёку от слияния его с Ангарой. А ещё ближе два моста через Иркут – приземистый бревенчатый, а над ним величаво высилась геометрическая стальная поветь железнодорожного. И день и ночь газуют автомобили, трубят паровозы, скрежещут вагоны, отстукивают на стыках колёсные пары. Но близкота великой транссибирской магистрали не утомляет и не сердит Екатерину, потому что она понимает – это трудится страна, это народ поднимается к новой жизни, избавляясь мало-помалу от горечи великих потерь. И она верит, что жизнь через годы – да, может быть, уже в следующей пятилетке! – будет только лучше. Только лучше, потому что страна великая и народ великий!
Снимала она эти комнатки у затаённой старушки Евдокии Павловны, бывшей учительницы начальных классов. Та приняла её неласково – молчаливо-мрачно, колкой приглядкой заплутавших в морщинах мерклых глаз. Но глаза, догадывалась чуткая Екатерина, не были отражением недоброй души, скверного характера; в них сукровичной коросточкой наросла какая-то застарелая печаль. Видела – старушка совершенно одинока: никого из родных и близких рядом с ней не было, никто её не навещал, даже соседи вроде как чурались. Месяц, второй, третий прожила у неё – никаких разговоров, расспросов, хотя бы внешней душевности, а общение – в обрывочках фраз. И, нередко бывало, насторожена старушка вся до последней жилки, будто опасалась чего-то чрезвычайно, жила ожиданием неприятностей.
За собой она оставила одну комнату, скорее, чуланчик, и, заложившись на щеколду, часами пребывает там тихонько, лишь изредка доносятся оттуда какие-то шепотки, бормотания, но распознавалось – молится. Во всём доме – мёртво, хотя вполне чисто, очень даже пристойно. Евдокия Павловна при всей своей замкнутости и нелюдимости – услужлива, предупредительна, преисполнена какой-то тонкой внутренней культурой. Если в комнатах становится прохладно, тотчас протапливается печь, за небольшую доплату Екатерина столуется у неё, и еда всегда вкусна и свежа, в разнообразии припасов со своего огорода. Из обстановки хотя и стародавняя, что называется, дореволюционная, но приличная, в утончённой резьбе мебель, – комоды, шифоньеры, буфет, стол, стулья, и Екатерина поняла, что они ручной работы и сделаны, как говорится, для себя – мастеровито, любовно. В кадках растут немолоденькими дородными деревами фикусы и пальмы; на окнах – понедельно сменяемые чистейшие белые занавески, на полу – простиранные и, тоже понедельно, протрясаемые домотканые половики. Повсюду уют, благообразие, обстоятельность. Но отчего же столь странна, угрюма, недоверчива и, похоже, глубоко несчастна хозяйка? Почему она совсем одна, ведь её прекрасный дом-усадьба – чаша полная, для большой семьи? И судя по кроватям и комодам, здесь живало по нескольку человек. Почему же теперь дом пустой, омертвелый? Да и сама хозяйка хочет быть в нём только одна: Екатерину к ней, официально бессемейной, имеющей лишнюю жилплощадь, подселили почти что принудительно, решением комиссии райсовета.
Екатерина уже подумывала, не съехать ли, коли чем-то, кажется, неугодна, неприятна. И стала подыскивать другое место, да однажды произошёл случай, задержавший её в этом доме на долгие, долгие годы.
Вечером в тихое, патриархальное Глазковское предместье ворвался ветер с дождём и снегом, а к ночи непогода уже буйствовала, завывая в трубах, ломая ветви, креня заборы. Ни днём, ни ночью, ни в будни, ни в праздники к старушке никто не приходил, а тут вдруг – стук. Ладно бы разок-другой постучались – колотят наступательно, властно, Екатерине кажется – дверь расшибут. А за окном ужасное промозглое октябрьское предночье, темь жуткая, рокот урагана; к тому же света нет, видимо, провода перехлестнуло или столб повалило.
Екатерине страшно: стучат, стучат. Что и думать: недобрые люди или с кем-то беда, за помощью прибежали?! Зажгла керосинку, в ночнушке стоит в коридорчике перед дверью в сени, не знает, что делать. Надо бабушку разбудить.
Но тут и она сама: ковыляя на больных, опухающих, ногах, выбрела в коридорчик. В её руках плотно набитая котомка.
– Не трудно догадаться: за мной пожаловали. Мужа, сыночков моих извели, а про меня забыли? Непорядок! Что ж, казните, режьте на куски – я готова. Пожила – хватит. Пора к моим родненьким. К чему мне в этой жизни одной прозябать?
– Евдокия Павловна, что с вами? Кто за вами пришёл?
Старушка спешно надела боты, натянула на плечи дошку, повязалась пуховым платком, взяла котомку.
– Прощай, жилица, – обратилась она к Екатерине. – Если не прогонят тебя отсюда – живи, пользуйся всем, что есть. Нам не дали жить и радоваться, так, может, тебя судьба обласкает. – И направилась к сеням.
Но Екатерина за локоток придержала её:
– Погодите, погодите! – Приоткрыла дверь: – Эй, кто там? – Густая тишина ответом, но по двери по-прежнему отбивают. – Вы чего тарабаните и пугаете людей? У нас ружьё: выйду – пальну! Убирайтесь прочь!
Очередной наскок ветра – дощатые сени сотрясло, стекло в оконце звякнуло, а двери затрещали, будто хватили по ним кувалдой. Но Екатерина решительно вошла в сени, сбросила с петли наружной двери крючок, распахнула её и тотчас поняла с благословением и отрадой – ветром сорвало деревянный жёлоб водослива и тот тряпицей мотается на проволоке, шибает по двери. Сдёрнула его и отбросила в кусты. Заложив дверь, заскочила в коридор.
– За мной? – отрешённо-тускло осведомилась старушка.
– Успокойтесь, Евдокия Павловна. Никого нет. Жёлоб швыряло. Если бы люди вошли в наш двор, Байкалка изошёлся бы в лае, а так, слышите, молчит, затаился в будке. И как мы с вами сразу не догадались?!
– Снова не пришли за мной, – тяжко вздохнула старушка. – А я уж обрадовалась: заберут и убьют, чтоб не изводиться мне.
Екатерина помогла старушке снять дошку, став на колени, стянула с неё боты, под локоть завела в каморку, усадила на топчан, служивший кроватью. Первое что – увидела в углу осиянный киот с горящей лампадкой, следом, в нарушаемой светом керосинки затеми, – портреты на стене над топчаном: вихрастого, озорновато прищуренного паренька и солидного молодого человека со значком спортивного разрядника на лацкане пиджака. Ещё один портрет выхватила из потёмок: молодая Евдокия Павловна и статный мужчина с ромбами на гимнастёрке – офицер Красной армии, плечом к плечу сидят, смотрят пристально, как в даль; и оба очень хороши этими своими выхуданными, загорелыми, но свежими лицами единой на двоих устремлённости.
– На портретах ваши дети? А на том вы с мужем?
– Мы… мы… мы все. А теперь я одна. Только одна. – Помолчала, вобрала воздуха, выдохнула в придушенном шепотке: – Как я хочу к ним!
– Куда, Евдокия Павловна?
– Куда, спрашиваешь? Туда, – мотнула она головой к небу.
Екатерина хотела было спросить: «Они умерли?» – но не посмела. Помогла старушке прилечь, накрыла её одеялом, направилась к выходу, пожелав спокойной ночи.
– Ты хотела спросить, живы ли они? Живы, живы… в моём сердце. А на земле их уже нет.
– Простите, Евдокия Павловна.
– Присядь рядышком, Катюша. Сердце разбередилось – поговорить охота с живым человеком. Давно уж я ни с кем не общалась. Как узнала, что Сашу, старшего сына, арестовали и убили, так и стали для меня обрываться мои ниточки к людям. Что ни человек, то злыднем мне кажется, наушником, иудой. Все мне стали плохи, что там – противны. Озлилась я на жизнь и судьбу, даже молитвы не всегда ослабляют и смиряют моего сердца. И даже тебя, такую славную девушку, приняла поначалу за их посланницу. Должно, потихоньку, но верно схожу с ума: думала, подослали тебя, чтобы ты вызнала, чем дышит старуха, которая взрастила врага народа, а мужем её был японский шпион. Раньше-то ко мне на постой не направляли, сама же я никого не хотела видеть, а проситься приходили. Даже от соседей отъединилась. Но тут – ты… Славная, славная ты девушка. Уж прости меня, старую, что сразу не признала в тебе душу. Вон какая ты красавица. А коса твоя – богатство истое. Береги её. А глаза твои хотя и черны, как дёготь, но сияют ангельским светом любви и привета. Но больше всего душу свою сберегай: она поможет тебе выстоять самой, а потом и людям помогать. Минут нынешние лихолетья, очнётся народ, а кто ж подойдёт к человеку с человечьим, а то и с Божьим словом? Такие, как ты, – чистые сутью своей, ясные и бесхитростные помыслами и делами.
Помолчав, сказала строже, с выговором каждого слова:
– Я, Екатерина, не долго протяну: не столько стара я, сколько, как видишь, безвременно немощна и вымотана. И сердце – не сердце уже, а окаменелость какая-то. Что кровь всё ещё проталкивает по жилам – непонятно. Да, скоро помру…
– Ну что вы, Евдокия Павловна!..
– Молчи, слушай! Не хочу, чтоб дом… наш дом… достался каким-нибудь злыдням. На тебя перепишу.
– Ну что вы, Евдокия Павловна!..
– Молчи, сказала! Ты сначала послушай, какие здесь люди жили, а потом отказывайся. Нельзя, чтоб сюда кто случайный въехал. А ты останешься – совьёшь гнездо. Мы же с неба будем смотреть на тебя и на твоих деток с благоверным твоим, как живёте-можете вы в этом нашем всеобщем и, несмотря ни на что, божьем, да, да, божьем мире. И будем радоваться, радоваться…
Волнение перебило дыхание старушки, и она замолчала, полежала с призакрытыми глазами.
– Наш мир разве божий? – невольным шепоточком спросила Екатерина, словно бы у тишины этой комнаты с фотографиями и иконами.
– Верь: мир наш божий, и все человеки Земли боговы, – сурово, но и ласково одновременно посмотрела на неё старая женщина. – Говорю тебе потому так, что я несломленная, а убитая. А кому, как не мертвецам, знать больше правды, чем вам, живым?
– Что вы такое говорите!..
– Я знаю, что говорю. Я пока ещё здесь… телом своим бренным и больным… но душа моя уже давно не здесь, а там, высоко-высоко, далеко-далеко.
Обе долго, но легко помолчали.
Наконец, старая женщина заговорила, и голос её звучал хотя и тихо, с трещинками, но ясно и чисто.
2
– Слушай, дочка, и запоминай крепко: когда-нибудь кому-нибудь, может быть, расскажешь или только сердце твоё будет знать и помнить.
Жили-были здесь мы – простая русская семья Елистратовых: муж мой, офицер, батальонный командир из Красных казарм, Платон Андреевич Елистратов, в прошлом георгиевский кавалер, участник Японской и Первой мировой войн, я, учительница, хотя и крестьянского происхождения, но выпускница Девичьего института Восточной Сибири имени императора Николая Первого, или ещё его называли институтом благородных девиц. А потому, поясню тебе, я туда попала, что батюшка мой, Павел Саввич Конюхов, был зажиточным, как говорили и писали в официальных бумагах – многомочным… И наши детки с нами жили – доченька Марьюшка, двух лет от роду умерла от кори, да два сыночка – Сашенька, Александр, старший, студентом был Ленинградского технологического института, на инженера учился, мечтал строить гидростанции, и Пашенька, младший, наш поздненький, заскрёбыш, в сорок третьем на фронт ушёл и – не вернулся. Вот они все надо мной… На тебя смотрят. Смо-о-отрят, ро-о-одненькие. Видать, приглядываются: кто ты такая, чем дышишь, доброй ли будешь здесь хозяйкой.
Слушай ты, Катя… и они с нами… послушают. А начну, как говаривали у нас в деревне, издаля́́-издале́ча: мой батюшка мученически погиб в гражданскую от рук чехословаков, а матушка следом с горя слегла и померла. Ещё одна родная душа – единственный братка мой Федя не вернулся с германской, остался навеки лежать в Галиции после знаменитого Брусиловского броска. С Платоном Андреевичем мы встретились в революционную пору, оба были к тому времени уже не очень молоды, намыкались по жизни, а потому, уставшие и одинокие, потерявшие всех своих близких, потянулись друг к дружке и мало-помалу зажили душа в душу. У меня до него, к слову, был муж Николай, но прожили мы с ним вместе совсем маленечко, так как ушёл он в четырнадцатом по мобилизации, и с той поры я его уже ни разу не видала, только десяток писем получила с фронтов, то есть женой-то по-настоящему и не побыла с ним, семейного счастья не изведала. Сгинул он в переломном двадцатом где-то в донских степях. Но, возможно, и жив остался: уплыл с остатками Добровольческой армии за море, в неведомые зарубежья. Так я стала, почитай, круглой сиротой, совсем одинокой. Дитя с Николаем мы хотя и успели прижить, да умерла наша девочка, потому как квёлой родилась, не спасла я её. К фельдшеру прибежала с ней в другое село, а она уже мёртвая…
Батюшка мой числился в нашей притрактовой Кудимовке кулаком, и сельчане недолюбливали его, завидовали, но побаивались, потому как строг он был, взыскующего норова. А чего завидовать-то было? Трудился денно и нощно, любил землю, любил строить и построил на своём не шибко длинном веку много чего, в том числе срубил новую церковь взамен сгоревшей. С людьми делился, чем мог: зерном, веялками, упряжью, – всем-всем, жадности – ни крошки в нём не было. А потому со всякими докуками люди шли к нему, и он мало кому отказывал. Строгим же и взыскующим бывал только лишь тогда, когда сталкивался с чьей-нибудь недобросовестностью да ленью. И меня с Федей держал в строгости, и выросли мы в трудах, всему обученные. Жить бы да жить и ему и матушке, ведь совсем молодыми ушли в мир иной – слегка за пятьдесят перевалило обоим. Ох, чего уж теперь об этом, Катенька!..
В нашу деревню однажды вошёл отряд чехословаков: они гонялись за партизанами, а те накануне отбили у них обозы с боеприпасами и провиантом. Вошли они в село и-и-и – давай рыскать, злобствовать самыми растреклятыми злыднями. Пристрелили нескольких мужиков, те заартачились, забуянили. Потом согнали всех жителей на площадь перед церковью, выставили пулемёты и стволы винтовок и говорят: «Всех перестреляем и перевешаем, если не скажете, где скрываются партизаны. Ну, говорите!» Мы – молчим, хотя известно было, наверное, каждому про партизан: по Хоринским балкам они кроются. Молчим, крепко молчим. Бах выстрелы. Первыми в переднем рядке двух баб и мужика скосило замертво. «Ну! – говорят эти злыдни. – Молчать будете? До́бро! Получайте ещё!» Падают люди, корчатся. Ужас. Дети, бабы заголосили, кто-то кинулся наутёк – срубили пулемётной очередью… Не могу не сказать Катя: вот тебе и культурная Европа, вот тебе и братья-славяне!.. А чуть позже эта же Европа породила Гитлера… Да что хаять Европу: здесь у нас, в нашей Матушке-России, что́ мы породили и набедокурили?..
Стоим мы перед чехословаками этаким овечьим гуртом. И Пресвятая Богородица: что же делать, что же делать?! Но тут вижу: мой батюшка выдвинулся из-за спин, к чехословакам пошёл, а их командир уж руку поднял для отмашки, ну, чтоб гвоздили по нам. «Я скажу!» – слышим мы. «Будь ты проклят!.. – зашипели наши кудимовцы. – В отряде мой братка… И муж мой тама… Супостат… Кулачье отродье…» – сыпали страшными словами. И во мне ворохнулась неприязнь к отцу. Но если бы мы тогда знали, если бы знали!..
О чём-то поговорил он с чехословаками, и отряд тронулся в путь. Отец – впереди. Мне показалось – он махнул мне рукой, понимаю теперь – прощался, и таким меленьким торопливым знамением осенил и меня, и село родное с его лесами, полями и небом.
Народ разбредается и всё шипит, клокочет: «Отродье… Иуда…» А мальчишки шпыняют и щипают меня, как гадкого утёнка.
Но не прошло и полсуток – и тот самый партизанский отряд вошёл в нашу деревню, а командир, Савва Кривоносов, наш кудимовский мужик, рассказал, как погиб мой батюшка.
Вывел он чехословаков к большим, распахнутым во все пределы еланям перед самыми Хоринскими балками, хотя мог провести, как бывалый охотник и грибник, утайными тропами через леса наши дремучие, чтобы подкрасться к отряду и с холмов и скальников перестрелять, точно рябчиков, весь отряд. А батюшка – видишь, как оно задумано им было! – вывел на самое открытое-разоткрытое место и наверное знал, что в дозорах круглосуточно сидят мужики. Дозорные живёхонько скумекали: посыльных – за отрядом. И партизаны с трёх краёв вмиг навалились, обхватили чехословаков и давай понужать их из винтовок и гранатами. Враз положили с половину, говорил Савва. Остатние чехословаки кинулись в дебри, побросали и лошадей, и повозки, и пулемёты с лентами. Но батюшку, злыдни, уволокли за собой. Говорили потом, он уже ранен был, наверное, наши угодили. Партизаны – в погоню, но в наших глухоманях не шибко-то развоюешься. Однако всех изничтожили. А дальше вот что… извини, слёзы давят, горечь жжёт грудь… Батюшку обнаружили распятым на листвене: руки-ноги штыками пригвождены… и весь, весь исколот… выходит, долго не умирал. Он был, как говорили у нас в деревне, живущой, настоящим силачом, за десятерых работал, если надобность случалась… Что принял, что принял!..
Похоронили мы с мамой отца. Всё село собралось на вынос, плакало навзрыд, и друзья и недруги его едино стояли у гроба. А следом, недельки через три, я схоронила и маму: сердечко её не совладало с потрясениями: и сына и мужа потерять… Так я стала круглой сиротой, хотя уже была взрослым человеком.
Вскоре по Сибири прошла 5-я армия, наводила всюду порядок. И с тем людским потоком, возвращаясь в родной ему Иркутск, заворотил на передых с тракта в нашу Кудимовку со своим стрелковым взводом Платон мой Андреевич. Но тогда конечно же он ещё не был моим… Как сейчас вижу его: низкоросл хотя, но бравый, видный мужчина. Усы пышнющие, с этакими подкруточками. Шенелишка, сапожки́, картуз – хотя и не новёхонькие, с дорог да с боёв, но в содержании безупречном. И такие же солдатики у него: никакой расхлябанности, разнузданности, в отличие от многих всяких других, тоже завёртывавших в наше село.
Встретились мы с ним невзначай на улице – я по воду на Ангару с коромыслом шла, а он на завалинке покуривал свою самокруточку – козью ножку… Будь они неладны, эти самокруточки из газетной осьмушки! Пристрастился он к ним на фронтах, потому как удобно: кисет с махоркой, газетный клочок, а не пачка папирос или сигарет, которую и сомнёшь, и изломаешь. Портсигары же как-то не прижились в простонародье. Ведь эти растреклятые завёрточки и сгубили его в тридцать седьмом, лютом году. Но о том, Катя, ещё скажу… и поплачу… а может, и ты со мной… Так вот словила его взгляд на себе, но, как и положено нам, бабам-чертовкам, притворяюсь, что не примечаю. Однако ж сердце моё уже – вверх-вниз, вверх-вниз. То есть с первого полвзглядочка-то и попалась вся. Назад иду с тяжестью вёдер, а не чую их. Словно бы скольжу по земле. Боюсь: ушёл, поди? И правда, что ж он будет поджидать меня, обычную деревенскую бабу, к тому же не молодую да и не красавицу. Ан нет! Увидал меня, оправился, крякнул в кулак, подошёл с улыбкой… Ах, какой же он был херувим и мо́лодец! Я, Катенька, тогда подумала: генерал. Он чего-то с этаким любезным наклонцем спросил, а я и полсловечка не могу вымолвить в ответ: Клюня Клюней, дерёвня дерёвней стою перед ним, почтительным, с саблей на боку, с этими богатыми усами, а глаза, глаза-то – голубыми искорками рассыпа́лись передо мной. Ну, сущий генерал Скобелев с лубочных картинок! Наконец, распознала в его голосе: «Позвольте помочь, барышня». И без согласия берёт коромысло. Спросил о постое: можно ли? Я снова дура дурой. Повторил вопрос. Докумекала, в конце концов. Но в горле пересохло у меня, лишь хрипнуть смогла: «Милости просим», – и вспыхнула огнём от стыда и досады.
Крепко, Катенька, мы друг дружку полюбили и безо всяких свадеб – да и каким тогда отмечинам быть, коли мыкались впроголодь да под пулями – стали жить-поживать вместе. Он, к слову сказать, был сиротой сыздетства: родители его со старшим сыном сгинули на бодайбинских приисках, и обе сестры тоже направились искать фарт на стороне, да тоже потом весть чёрным вороном прилетела: на каторге сахалинской померли. Платон Андреевич грустно говорил мне, что все они сгинули потому, что бросили родную землю и дом, а ведь всё было у семьи – живи, трудись, радуйся. Он верил: фартовым и гожим будешь там, где ты родился и вырос. И вот он, мальчонкой, подранком, остался один-одинёшенек. Правда, была у него бабка по отцу. Жил он с ней в скудости великой, по ярмаркам да весям побирались они. Бабка однажды настыла и вскорости опочила. Благо, у Платона Андреевича призывной возраст подоспел, и он с лёгким сердцем ушёл на свою первую, но не последнюю войну, а дальше и вовсе остался в войсках. Потихонечку дослужился до младшего офицерского чина, а следом, после революции, и выше вскарабкался. Голова! Без образования, но статью – дворянинского – ей-богу! – образу. И этакого молодчагу да умнягу конечно же не могли оставить в каких-нибудь там фельдфебелях, унтер-офицерах. И красавиц, и умница, повторюсь, ан, знаешь, простая-простецкая русская душа. Кто попросит чего – на́, кто нагадит ему чем – подуется, подуется, конечно, да извинит. Но по службе строгонек был, а устав армейский его библией стал. Однако солдаты никогда не обижались на него: правду и душу за ним чуяли, человечность нашу русскую. А человечность-то, Катя, не просто к человеку приходит да и не к каждому. Но человечного люда, слава богу, много на Руси.
Революция грянула – он с народом. В партию большевиков вступил ещё на германском фронте. Знаешь, был шибко идейным, хотел всем беднякам и немощным всяческих благ и послаблений, потому что сам хлебнул горечи с лихвой, помытарствовал с малолетства. В гражданскую в плену побывал у Колчака. В концлагере под Омском чуть не помер от голодухи. Бежал, изловили. Пытали. А узнала, что пытали, не от него самого, а ненароком – от его боевого товарища Севы Весовичного, с которым они в плен угадали и бежали. На расстрел повели обоих, а он, Платон-то мой Андреевич, изловчился и конвойных лоб об лоб столкнул – они и грохнись наземь без чувств. Вот такой силищи был он человек, хотя измождённым к тому времени. Но главное, духу, великого духу был мужчина!.. Утекли оба в тайгу, а дело-то приключилось поздней осенью, уже снегу намело по колено, они же чуть не голяком, без шинелей, хорошо, что обутые. Сева-то, признался мне, раскис, замерзать стал, а Платон Андреевич ему: «Не сидеть! Бежать, бежать!..» И – выбрели-таки к деревушке, приютили их промысловики из староверов. Вот оно что такое дух человечий… Про эти героические дела мне тоже Сева рассказал, а Платон Андреевич у меня был человеком скромным, малоречивым.
Ну, вот, стали мы жить-поживать вместе, семьёй. В Кудимовке я, конечно, уже оставаться не могла: мужа определили взводным в Красные казармы. Через год-другой, к слову, произвели в ротные. С кудимовским хозяйством жаль было расставаться: отцом-матерью, дедушкой-бабушкой скопленное, взлелеянное добро. Землица наша пахотная была наилучшей в волости, а луга безбрежные – тучные, потому как ежегодно сдабривались по бурятскому обычаю навозом, утугами они такие-то прозывались. Что продали за бесценок: народ-то наш сибирский хотя и работящий, бережливый, да страсть как пообнищал после воин и революций. А что так раздали-раздарили – всё людям нашим чтобы легче жилось.
Стали обустраиваться в Иркутске. Сначала по людям мыкались, по казармам. Я в начальной школе учительствовала – люблю, знаешь, возиться с ребятишками. Платон Андреевич в полку служил. Всё чинно, ладно, радуемся жизни, хотя и бедненькой, да мирной и мало-мало устойной к той поре. До тридцать седьмого нежились своей радостью. И за себя радовались, и за новую власть радовались. Мы простые люди – нам много-то не надо. Чтоб войны не было да чтоб народ вокруг сытно и порядком жил-был, – а чего ещё надо, если понимаешь, что мир сущий – Божий? А мы с Платоном Андреевичем крепко это понимали, хотя он и был коммунистом-атеистом. Но знаешь что: хотя русский человек и отталкивает Бога сознанием и головой, да всё равно душа-то нам всем милована Богом и к Нему, хозяину сего добра неразменного, потом возвращается.
3
Обживались мы, Катенька, стало быть, мало-помалу. Дом этот наш – чтоб ты знала – построил Платон Андреевич сам. Да-а, самолично! Кругляка напилил в местных лесах за Поливанихой: там произрастает наилучшая корабельная, да к тому же неподсоченная, сосна. Спасибо, красноармейцы его взвода подсобили: скопом за неделю с хвостиком сруб подняли, потолок, полы настилили, стропила с матицей сработали, кровельное железо пришили, а уж потом мы потихоньку сами «копотошились», – как у меня любила приговаривать мама. Досочку к досочке, стёклышко к стёклышку – и домок, глядим, народился наш, заиграл на солнце. Сама видишь, наверное: славный вышел. Бывало, подходишь к нему под вечер со школьных занятий – любу-у-у-ешься, шаг ускоряешь, как бы не измоталась за день. Оконца мигают-посвёркивают, крыша – точно бы наполненный ветрами парус, труба пробеленная – флажком, заборчик палисадника тоже пробеленный, с черёмуховым кустом под окном, а недалече под укосом голубо горит родимый наш Иркут, чуть же далее и правее – чудо наш мост иркутный, с царских времён трудится на нас всех, выдерживает и паровоз, и состав вагонов, – силище-мост! Сама видишь, чего только по нему не провозят. Мы зачастую по вечерам с Платоном Андреевичем посиживали на лавочке у калитки и смотрели на проходящие составы. И радовались, радовались за страну, как дети радуются за своих родителей, когда они молоды, сильны, работящи и ласковы.
Зажили мы в доме ладком. Вскоре, как и должно тому быть, детки пошли. Первой девочка родилась, да прожила всего четыре дня. Потом у меня выкидыш случился. Я ведь к тому времени уже немолоденькой была, испугалась: не рожу вовсе – бросит меня, старую клячу, Платон мой Андреевич! Не бросил – жалел. И вскоре радость долгожданная: Сашенька родился. Здоровенький, прекрасный ребёнок. Потом – Мария, Марьюшка наша принцесса. Но, уже говорила тебе, в два года от кори умерла. Последним родился Пашенька.
Обустроились мы, живём-поживаем, детки подрастают – всё как у людей, ни лучше, но и не хуже. Страна живёт, по мосту нашему – локомотивы, грузы, Иркут бежит к Ангаре, Ангара – к Енисею-батюшке, а Енисей – в окияны-моря. Казалось, ну, что может сдвинуть жизнь и пустить её под откос?
Уже говорила тебе: любил до страсти Платон мой Андреевич самокрутки. Осьмушку заранее сложенной газеты, бывало, оторвёт, желобок в ней пальцем продавит, накруглит, щепотку табака из кисета натрусит, скрутит всё это добро, этак ловконько промахнёт языком по краешку, – готово: склеилось. Вот тебе мужичья забава – козья ножка. Чиркай спичкой, закуривай. А курил Платон Андреевич с наслаждением великим, в задумчивости философической, как пишется в старых книгах. Казалось, табак мысли и чувства какие-то важные пробуждал в нём. Не куренка, знаешь, была – це-ре-мо-ни-ал.
В тот злыдень-год он так же, у себя на службе в Красных казармах в кругу офицеров после рапортов в штабе, свернул козью ножку, прикурил, затянулся, пыхнул дымком и привычно задумался. А когда сворачивал осьмушку да насыпа́л табаку, не обратил внимания на своего взводного, Новикова, – о подробностях мне уже после рассказали товарищи Платона Андреевича. Так вот этот самый Новиков, говорят, томился на своей маленькой должности и шибко хотел продвижения по службе. Не любил его Платон Андреевич, слизняком однажды в разговоре со мной назвал… Покуривает, подымливает, значит, Платон Андреевич, поглядывает в дали наши таёжные, офицеры вокруг тоже курят, разговаривают о своих армейских делах, а слизняк этот Новиков – хоп, и пропал куда-то. Да никто и не обратил внимания: ну, ушёл да ушёл человек по своим надобностям.
Однако через минуту-другую подходят к Платону Андреевичу трое офицеров из спецотдела штаба (а этот слизняк Новиков, замечено было, маячил, как стервятник перед поживой, невдалеке) и говорят моему мужу: «Покажи-ка, командир, козью ножку». И – хвать её изо рта его. Она уже наполовину выгорела, однако текст читается: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б), да портрет аж самого… «Сдать оружие!» – «Вы чего, братцы?» – Платон-то мой Андреевич, говорили, почернел вмиг, а был ведь не робкого десятка, стреляным и ломаным. Вырвали у него из кобуры наган и с подтыками в спину повели в карцер. Следующим днём, к слову, слизняка назначили на место моего мужа ротным. Да ещё, забегая вперёд, скажу: через год, через полтора ли слизняка тоже арестовали, и на Колыме, случаем узнала я, он и сгинул. Но я не радуюсь, не подумай чего, Катюша. Мне и его, слизняка-то этого, жалко, потому как на веки веков загубил он свою душу и потерян для Бога и Божьего мира нашего… Хотя… хотя… Богу судить, а не нам, грешным.
Японо-немецко-троцкистским агентом – вот кем объявили моего мужа. Попробуй выговорить. А прикуренные осьмушки газетные со статьями и портретами больших людей были, растолковали, условными знаками для бешеных собак – троцкистов и шпионов: мол, конспирация у них, врагов народа, такая. Ведь если не вдумываться – смех, и только. А если вдуматься? Эх, да чего уж тут вдумываться! Нет Платона моего Андреевича и сыновей наших нет! Вот и думка вся. И одна я чего-то мыкаюсь. Уж скорей бы, скорей…
Старушка помолчала, призакрыв глаза землистым комочком век. За стеной дома выла и билась пурга, в прощелях ставен – тьма всё та же, хотя по времени уже зажечься рассвету надо бы. Екатерине кажется, что покою и свету белому никогда не наступить, что теперь господствовать в мире только ночи и ненастью. Душе её, скованной и жалостью, и страхом, было невыносимо тяжело дышать.
– О чём я, Катя, говорила? Да, да, помню… А лучше бы обеспамятеть, разом уйти в землю. Но коли начала рассказывать, надо доканчивать. Так вот, началось следствие. Недолгое. Да что там! – коротенькое, как ехидный смешок за спиной исподтишка. Три-четыре дня, что ли, длилось оно. Платона моего Андреевича перевели в главную нашу тюрьму в Знаменском предместье. И я наверняка так ничего и не узнала бы о его судьбе страшной, как миллионы других родственников остались в неведении, да мой дальний сродственник, Гоша Дубовицкий, служил там в следственном отделе делопроизводителем. Я – к нему домой. «Скажи, Гоша: что, как?» – «В списках», – шепнул. И понурился, спрятался от меня глазами. «В каких таких списках?» – пытаю. Молчит. Молчит и сопит. «Господи, да говори же, идол!» Процедил, кажется, даже губ не разжал: «В расстрельных». – «Что, что?!» Я слов не нахожу и задыхаюсь. Как, Платона моего Андреевича, красного командира, большевика, героя гражданской, бежавшего из-под расстрела от самого Колчака, – и такого человека могут расстрелять, что он по глупости или простоте своей природной покуривал козьи ножки?! «Знаешь, сколько их там! – наконец, говорит Гоша. И скрежещет зубами. – Камеры набиты битком. Стеллажами народ в них. Духота, вонь, блохи, клопы. Кормёжка – баланда из картофельных очисток и протухшая селёдка. С допросов людей заволакивают охранники покалеченными, в кровищи, а кого уже и не возвращают. Ещё страшнее, шепнул мне один человек, в подвалах УНКВД. Там стены обшили металлом, на пол насыпают опилки и всю ночь во дворе тарахтит трактор. А зачем? Чтоб криков жертв и выстрелов не было слышно. Кровища стекает на опилки – их вынесли, ещё посыпали. Так, помню, у нас дома борова осенями кололи – опилки насыпали. Следующая ночь – снова расстрелы. Трупы забрасывают в ЗИСы под тент, в два-три часа ночи, в волчье время, везут в спецзону НКВД под Пивовариху, там у них полигон, что-то вроде кладбища. Закапывают в траншеи, говорят, они пятиметровой глубины, а длиной – десятками метров. Сбросили очередную партию – немного землицей присыпали, да не сами чекисты, а живых арестантов с собой привозят. Живяками их называют. Те закопают трупы – и их тут же убивают, в ту же яму сбрасывают. Рядом со спецзоной – поля местного совхоза. Так вот один механизатор во время уборочной видел не из шибкой дали, как землица над теми траншеями дышала утром, то есть и живьём закапывают людей, не добивают, патронов, видать, жаль, – не знаю. Я, когда бываю по служебным делам в УНКВД, встречаю в коридорах этих убийц. С виду, знаешь, обычные люди: две руки, две ноги, голова… но что, что творят!.. Нет, от других всё же отличаются: у всех у них сытые лощённые рожи – ведь отовариваются, не как мы, простые смертные, в обычных магазинах, где доброго товару не встретишь, но в самом торгсине, где всё самое наилучшее и по сходной цене. И одеты с иголочки: щеголяют бекешами, фетровыми бурками, носят регланы, чего другим не позволяют. А сапоги какие – нежнейшая монголка, а влитые гимнастёрки – из наиплотнейшего коверкота, а на рукавах – горит чекистский герб, кажется, из золота он. Постреляют людей, увезут в Пивовариху, сбросят в ямы, а потом до утра гулеванят на Даче лунного короля…» Гоша замолчал, у него захрип и срезался голос. Обхватил голову руками и раскачивался, как пьяный.
Слушала я его и – не верила. Не верила! Да как же так: ведь мы – советские люди. Самые гуманные, человеколюбивые на земле люди. Строим самое справедливое общество всех времён и народов. А Сталин… Сталин… гениальный вождь наш, отец всех народов… Как же… что же… почему же…
Через день-два Гоша пришёл в наш дом, утайкой самой утаистой, впотьмах, и передаёт мне скомканную пропотелую бумажку. Записка от мужа моего родненького Платона Андреевича! Читаю карандашные закорючки, захлёбываюсь словами: «Евдокиюшка, береги наших сынов. Вытяни их к свету и правде. Тяжело тебе будет, но не сдавайся. А что бы кто не говорил обо мне, знай: я чист. Прощай. Твой супруг Платон Андреевич Елистратов». Вцепилась я в Гошину тужурку, трясу его, а не могу слова вымолвить – каменюка в горле. Гоша зубы стиснул и телепается, как тряпичная кукла. Он крепковатый мужик, нашенский деревенский, но тут обмяк весь.
«Устрой встречу со следователем», – прошу в отчаянии. «Ты что, безумная? – шипит он. – Какие там теперь следователи! Я же тебе рассказывал: там нелюдь суд вершит. Никому там нет дела до следствия и правосудия». «А его, его увидать хотя бы краешком глазочка?» – «Тоже невозможно». На колени опустилась перед ним, заглядываю, как собака, в глаза его: «Христом Богом прошу: помоги, Гоша».
Он помолчал и сказал тщательно, будто отслеживал каждое своё слово: «Сегодня после полуночи повезут их на полигон под эту живодёрню Пивовариху. Вот и вся моя помощь, не обессудь. Что ещё тебе сказать?»
Слышала я слово «полигон» и раньше до Гоши. От мужа, когда рассказывал он про свою службу, про стрельбище Красных казарм, которое находится возле Пивоварихи. А раньше, к слову, мы её называли Теребеевкой, потому что в тех местах проходит дорога на Байкал в Большое Голоустное и на дороге той разбойнички грабили, то есть теребили, а зачастую и убивали купцов-промысловиков. Страшные места, столько историй о них. А коли под Пивовариху везут, я, наивная душа, потому и спрашиваю у Гоши… А почему, Катя, так спрашиваю-то? Потому что верить не хочу и не могу, и всё ты тут! Спрашиваю: «Что, на учения… на стрельбы?» «Эх, дура ты баба!» – выругался Гоша, а у самого глаза слезами забиты, губы холодцом дрожат.
Выдавил, точно яд: «Убивать… Уж сколько народу туда отписано и чекистами, и моим ведомством… мать моя расхристанная!..»
Замолчал, заозирался зверьком, похоже, испугался: понятно, что в сердцах сорвалось с языка лишнее. Наверное, не надо было такое-то убитой горем бабе сообщать.
Я крикнула: «Не верю! Не может быть!.. Сталин… как же Сталин?..»
И – завыла, завы-ы-ла, Катенька. Распласталась по полу. Понимаю, хрястнуться бы об плаху головой, вышибить мозги, да сил нету: как срубило меня поперёк туловища шашкой-невидимкой под названием судьбина, не чую тела своего – ни рук, ни ног, ни головы, даже сердце онемело, захолонуло.
Гоша повздыхал надо мной, сказал на придушенном полушёпоте: «Теперь хоть знать будешь день смерти мужа и где могила его, хотя и братская. Другие так и этого не знают…»
Правильно сказал, по-человечески. Потихоньку ушёл, и – тишина гробовая, будто и не было никого, а я не слышала о страшной участи моего мужа.
Лежу, умираю. Ничего не знаю, ничего не понимаю хорошенько. Внутри и горит, и смерзается разом, сердце то замрёт, то дёрнется, как для прыжка. Что делать, что делать?! Сегодня убьют моего мужа. Куда бежать, кому в ноги кинуться? А кинусь к какому начальнику в ноги – не посадят, не убьют ли и меня следом? С кем останутся наши сыновья, какая судьба ждёт их? Слышала и видела воочию – семьи врагов народа разоряют: малолетних детей в детские дома отдают, жён и других взрослых родственников в лучшем случае взашей прогоняют из жилища их родного, хоть на улице под забором живи-помирай, а то – лагеря, неволя каторжная. Саша в тот год ещё учился в Ленинграде, и – цепляюсь за обрывочки разума – как узнают про отца его – арестуют, убьют, ведь он уже совершеннолетний. Может, про отца не узнают – ведь далеко-далёко Ленинград от Сибири. А вот если я кинусь куда с просьбами да мольбами (хотя – куда, ночью-то!), – зацепятся, и пропал мой Сашенька. А потому – сидеть, сидеть тихонько, мышкой в норке, – вот чего я стала продумкивать да соображать мало-помалу.
Уже хотела встать, подойти к Паше, посмотреть на него, спавшего в соседней комнате, потом – к иконе Богородицы: заступу испросить, вышнюю милость, да вдруг – кто-то подтолкнул меня в плечо. «Мама, мама, вставай. Пойдём», – слышу, будто из тумана и далека, из какого-то уже другого для меня мира. Пашенька, сыночек надо мной стоит. Через силу поднимаюсь на колени, вцепляюсь в него. Жму, притискиваю к себе ватными руками. Мальчонка он ещё, только тринадцать исполнилось, а смекалистый, решительный, бойкий такой рос у нас. Хорошо учился, барабанщиком был в пионерском отряде, юный, а уже со значком ворошиловского стрелка, в лыжники-разрядники пробился ещё десятилетним. Радовались мы на него с Платоном Андреевичем. Мечтали, в военные пойдёт, академию окончит, в генералы, глядишь, выйдет.
«Куда, сынок, пойдём?» – спрашиваю. С трудом поднялась на ноги полностью. А покачивает меня, точно пьяную. «Одевайся, в Пивовариху пойдём. Папу спасём. Я слышал твой разговор с дядей Гошей. А про полигон тот мне известно: нынешним летом, когда я с папой и его ротой ездил на стрельбища, то лесной дорогой проезжали мы мимо одного дома, папа шепнул мне: “Смотри, вон за черёмухами большой бревенчатый дом, это Дача лунного короля. Тут спецзона и полигон НКВД. Страсть, что брешут про эти места!” – “А что брешут?” – спросил я. Но папа промолчал, козью ножку стал свёртывать. Километрах в пяти от Дачи – стрельбище Красных казарм… Ну же, вставай, мама! Одевайся. Часа за три доберёмся. Спасём папу. Там кругом леса – легко пробраться к полигону. Забора я не заметил, только колючка болтается от дерева к дереву. Патруль, правда, ходит, но собак с ними я не заметил. Айда же, мама! Спасём, обязательно спасём!»
«Но как спасём, сынок, если под стражей он теперь?» – машинально думаю я, но не спрашиваю у него, потому что помню и верю: устами младенца глаголет истина. Не хочу и не могу поколебать его веру и желание. Торопит, подталкивает меня, и всё одно по одному: пойдём да пойдём, скорее да скорее, надо торопиться. Наконец, оделись мы, вышли на улицу.
4
Что ж, идём. Но то идём, то бежим. А куда, что? – минутами не пойму, не соображаю. И ведь вдуматься бы тогда: сумасшествие, сумасбродство, погибель наша. Ночь, пустынно, ни огонька, город вымерший и тихий, как кладбище. Только раз, другой пронеслась машина. Мы поняли: воронок. Жуть. Кого-нибудь ещё арестовали и везут на бойню. Собаки, заслыша наши шаги, просыпаются – брешут, рвутся с цепи, подлые. Страшно: не дай бог, кто заметит, – скрутят, вызовут воронок и – пропали мы. Я-то – ладно, уж пожила, порадовалась свету божьему, а вот Пашу, мальчонку, загубят почём зря.
Морозно, зазимки инея и ледка под ногами шуршат и хрустят – ведь уже октябрь. Но жарко, вся горю, вся в огне. Как прошли улицами и заулками Иркутска, даже как минули этот наш огромный мост через Ангару, а потом за Знаменским монастырём двинулись тропами и прогалинами по берегу Ушаковки, – не вполне помню. Будто не сама я шла, а какая-то неведомая сила меня несла на крыльях. В пути припомнились мне давнишние разговоры про Дачу лунного короля. Народ уже наслышан был о Даче, о спецзоне, но как-то верилось – не верилось, что людей там убивают, ни за что ни про что убивают, казнят. А прозвание, к слову, она такое получила ещё до революции: в тех краях после якутской каторги обосновался, кажется, в семидесятых годах прошлого века, ссыльный поляк-революционер, знатный дворянин, по фамилии, если помять не изменяет, Огрызко. Дом основательный построил и долгие годы прожил в нём. Потом, говорят, на родину в Польшу всё-таки уехал. Какое-то у него было сложное заболевание глаз: на дневном свету ему совсем нельзя было находиться, и он лишь потемну выходил на свежий воздух, прогуливался. Полноценно жил, можно сказать, по ночам. И вот теперь снова здесь началась ночная, но уже чёрная, безобразная жизнь. По словам Гоши, скотобойню открыли: привозят – убивают, привозят – убивают. И трупами привозят, в подвалах убивив, и живыми везут, но путь всем один – в землю, в братскую могилу. Да, только наличием могил люди и отличались от скота. Уму непостижимо, деточка моя Катя.
Голос старушки ссекло, она замолчала. Однако Екатерине показалось, что голос всё же звучит, своевольно продолжая страшный рассказ. Но Екатерина догадывается: это её сердце слышит сердце несчастной женщины – матери и жены.
– Ну, вот, опять я замолчала. Но надо досказать, обязательно надо. Ты – молодая, тебе жить дальше и… помнить. Обязательно помнить… Так, идём мы, идём. Темень, незнакомая округа, то леса́ чащобников, то распахи еланей, каких-то вырубок, торфяных ям. Уж начинало казаться: и здесь были, и там были. Думала, заблудились, кружим и никакой Дачи лунного короля не отыщем.
Ан нет! Сынок мой вдруг останавливается, всматривается, указывает рукой и шепчет: «Вон Дача лунного короля!» Я обмерла, хотя самого дома разглядеть не могу: кусты и мрак утаивают его, только горбину кровли угадываю. «Так вот они где гулеванят», – думаю.
Стоим, долго стоим, перетаптываемся. Куда идти-брести – неведомо, что делать, как поступить – не знаем. Но вдруг: чуем – в отдалении голоса. Кто-то вышел из Дачи лунного короля и – немного позже я поняла – направился туда… на сам, как значится в их государственных бумагах, полигон. Слово-то какое подобрали хитромудрое, криводушное, а ведь попросту, по-русски-то, – бойня. Приседаем на корточки за куст, затаиваемся. «…Опять эту ночь не поспим, – говорит кто-то и зевает. – Хорошо, сегодня скот забитым привезут, а не живяком. С этими вертлявыми живяками намучаешься, пока угомонишь их… навечно», – хохотнул голос. А кто-то другой с позевотами отзывается: «Да, вошкотни, кажись, не много будет: свалим в траншею, живяки присыплют землёй, потом забьём и его. И – эх! – дёру дрыхнуть». – «Скорей бы уж доставили, что ли…»
«Скот… Забьём… Живяк… Угомонить…» – Понимаю и не понимаю. А если понимать как надо – как жить в ту минуту надо было бы?
«Пашенька, Пашенька, сыночек…» – шепчу одеревеневшими от страха и ужаса губами. Но что́ хочу сказать и что́ нужно сказать – не понимаю. Не понимаю ни на грамм. Уже немеют мозги, стынет кровь, сердце мертвеет, будто сама оказалась в могиле, а надо мной земля и она дышит.
Голоса и шаги отдалились, вовсе сгасли. Легко догадаться: то был патруль, обслуга полигона. Скотозабойщики.
Сидим на корточках за кустом. Что делать, куда бежать-идти или ползти – не знаем. «Скот… Забьём… Живяк…» Страх меня одолевает, но страх другого рода: страх того, понял ли Паша? Нельзя, чтоб понял. Нельзя, никак нельзя. Маленький он ещё, душа его детская неокрепшая – погибель ей, если даже выживет физически. Что делать?.. Чувства, Катенька, жгут меня сейчас так же, как и тогда.
Ещё постояли бы мы минуту-другую – и я потянула бы сына назад, домой. Бегом, скорее бы от этого ужасного места! Я поняла: мужа, любезного супруга моего Платона Андреевича не спасти никакими силами и, возможно, он уже мёртв, убит, но мы-то ещё можем выжить. И мне, как никогда, нужно выжить и жить, потому что завещал же он мне: береги наших детей, вытяни их к свету и правде, тяжело тебе будет, но не сдавайся.
Однако ни минуты, ни другой минуты нам не оставалось про запас, потому что внезапно по тьме от земли полоснуло, как грозовыми молниями, огнями. Неподалёку затарахтели машины. Понятно было: со стороны большеголоустненского тракта, от Теребеевки-дороги, не доезжая Пивоварихи и чуть левее Дачи лунного короля, въехали на просёлочную дорогу машины, явно целая колонна. Мы тогда не знали, но догадались: это – та колонна и в одной из машин – он, живой или мёртвый. В своё волчье время они и приехали.
«Идём туда!» – скомандовал, но шепотком, Паша. Он был решительным, он был смелым, он был прекрасным моим сыном. И – пошёл. Без меня. Видимо, почувствовал, что я хочу отступить, вернуться, сдаться. Он понял, что где-то рядом отец, и не мог, да и, понимаю теперь, не смог бы отступить.
Догнала. Потянула назад, повисла на его плече. Он вырвался. И мне остаётся только лишь просить его, шепотком: «Таись, таись!..»
Наткнулись на колючую проволоку, она от ствола к стволу протянута в четыре-пять струн. Паша в мгновение ока поднырнул в жухлую траву, изогнулся и – там уже. Говорит: «Мама, вернись. Я – сам, один». И – нырк во тьму, как в омут. Я обезумела. Ни мыслей, ни чувств. Навалилась всем телом, будто каким посторонним предметом, на колючку, нажимом промяла её и рывком, перехватившись с противоположной стороны за нижнюю проволоку, перекувырнулась. А почему я таким манером поступила, Катя? Да потому что под проволокой я не пролезла бы, а Паша, ясно, не помог бы. Побежала во весь дух, и потом уж поняла – разорвала, искорябала себе лицо, изранила грудь и ладони, но боли и крови не чуяла. Лишь много позже обнаружила на себе напитанное кровью бельё, а про лицо думала, когда заливало глаза, что это пот. Смахивала ладонью. Сына догнала какими-то невероятными прыжками. «Мы – вместе, – говорю ему. – Тише, сынок, тише. Умерь шаг. Не услышали бы: вдруг здесь посты и засады». Но его было не остановить, не укротить. И я бесповоротно смирилась. С судьбой смирилась.
Наверное, с километр прошагали мы, держались света фар и рокота двигателей.
За облаком молодых сосен увидели три-четыре крытых брезентом ЗИСа. Они стояли на довольно просторной поляне, разномастно, по-всякому были повёрнуты, и две машины освещали всю поляну. Видим – строй НКВД. Фуражки ярко горят красными околышами и синим верхом. Бежевые бекеши. Сапоги начищенные, сверкают. Ружья, пистолеты на изготовке. Как на параде. Пригибаю сына, валю его наземь. «Тише, тише!..»
«Папа!» – осиплым шёпотом вдруг вскрикнул он.
Я вдавила в его губы ладонь, повалила на землю, шепчу, а может быть, уже и рычала, как самка зверя: «Тише, тише…» Он сильный у меня, не по возрасту развитой, однако не может в моих руках даже ворохнуться, поднять голову. Неизвестно, отчего во мне в те секунды между жизнью и смертью мощь силы невероятно возросла, стала необоримой. «Тише, тише, – всё шепчу. – Я отпущу тебя, но ты не двигайся, лежи, головы не поднимай. Хорошо?» Он смаргивает мне: мол, согласен, отпусти. И я пытаюсь разжать руки, раздвинуться плечами, туловищем, ан не могу: я вся окостенела.
Через силу и на чуток приподнимаю голову из-за кочки с сухотравьем и вижу с неожиданной для себя холодной отчётливостью: да, воистину Платон мой Андреевич, муж мой любезный и отец наших детей. Вместе с другими арестантами – а все они полусогнутые, в кровоподтёках, ковыляющие доходяги – таскает за руки за ноги из кузова трупы и сбрасывает их в яму.
Вдруг – чудо: слышу от кузова, но едва различимо, его голос родной: «Товарищи, тут живой человек, ещё дышит». – «Тащи, сбрасывай», – с этакой хамоватой небрежностью отвечают ему. «Да как же, братовья: живого-то – в яму?» И я вроде как радуюсь: узнаю живую душу родненького Платона моего Андреевича: где несправедливость, неправда, там он горяч бывал, непримирим. «Сбрасывай, падла!» – гавкают. И – прикладом винтовки по спине Платону моему Андреевичу. А вдогон – пинками, пинками, а ещё прикладами, прикладами. Двое, трое вояк орудовали. Упал мой родненький, стал кровью харкать. «Живее, падлы!» И арестантов, что замешкались невольно, приостановились, тоже – буцкать сапогами, прикладами куда попадя.
Приподнялся мой, кой-как выпрямился, сплюнул кровь, стал снова таскать.
А я одно накрепко понимаю: не надо выпускать Пашу. Держать его из последних сил, не дать взглянуть на смертоубийство, на изуверство недочеловечье. Если выпущу – потеряю навеки. Он бурчит, я конечно же понимаю: отпусти, мол, или, наверное, поослабь хватку, дышать тяжело. «Потерпи, Пашенька, потерпи», – шепчу ему в самое ухо. Он понимает, соглашается, и минутами замирает вовсе: шуметь нельзя, потому как смертынька рядом бродит.
Всё: перетаскали, сбросили. Всучили им лопаты: «Закапывайте!» Но взмахнули они лопатами с десяток раз каждый – команда: «Стоп!» Да, как и говорил Гоша: в несколько пластов набрасывали трупы, чуть присыпа́ли землёй. И следующую партию «забитого скота» – сверху.
Арестантов, наверное, человек двенадцать, так вот где-то так восьмерым из них связали руки за спиной, поставили на колени, а остатним велели взять лопаты. Стоят те, связанные, понуро. И все они вместе, и связанные и несвязанные, ещё, думаю, не знали, чему дальше случиться, хотя могли и догадываться. Но таков любой человек: до последнего вздоха верит и уповает. А дальше вот что началось. «Построиться в шеренгу! – распоряжается командир тем, несвязанным. – Живее, падлы!» Сам командир-то этот, видно, что молоденький, и юркий, бегучий такой, а лицо гаденькое – маленькое, недоразвитое, скомканное в морщины, как у старичка. Зверёк, одним словом… старичок-то – то человек. Тем, что несвязанные, а среди них оказался и Платон Андреевич, велят взять лопаты: «По команде “Коли!” наносите этим врагам народа удар по шейному позвонку или черепку. Прикончите их – останетесь жить сами. Коли! Ну!» Те, что связанные, закричали, и закричали-то как страшно, ка-а-ак страшно: и по-детски жалостливо, и – безобразно так. Оборачиваться стали, кто-то рванулся было бежать, но им молниеносно – по голове, в шею, в горло, в лицо, куда попада́ло. Слышала, слышала жуть эту жуткую: кости, черепа́ трещали. А сама до того сжала Пашу, что он стал задыхаться.
Вижу: мой-то Платон Андреевич лопаты не поднял, не ударил жертву. Командир этот мерзкий к нему подбежал, ударом кулака повалил наземь, пинал, топтал. В троих поочерёдно ткнул пальцем: «Коли, коли, коли!»
И те… и те… Радые: ведь жизнь им обещана.
Я не смогла смотреть, уткнулась в Пашу. Но ни рыдать, ни дышать невозможно было. Он понял, что отца уже нет, – затих, но не размяк – в нечеловечьей натуге отвердел каждым мускулом, стал, казалось мне, больше, даже могучим, словно бы в секунды превратился во взрослого мужика. Ведь мог бы, думаю, лишь шевельнуться – и сбросил бы меня, как куклу, освободился бы. Но – лежал. А держала ли я его в те минуты – не знаю. Наверное, уже не было во мне сил. Ни физических, ни духа.
А что же эта нелюдь тем временем? Велели арестантам самым доброхотным тоном побросать трупы в яму, присыпать землёй. Сказали им: «Сейчас на машинах вернёмся в управу и вас с ходу освободят по амнистии. К врагам народа вы беспощадны, доказали свою преданность советскому народу. Молодцы! К бабам своим вернётесь, к детям – эх, заживёте! Но руки в дорогу вам надо связать: так положено по инструкции, товарищи. Вы ведь всё ещё арестованные», – похохатывает этот зверёк.
Те, наивные души, и дались им, да ещё лопотали: «Вот, вот она, справедливость. Спасибо, спасибо, товарищи…» И только связали их – налетела эта нелюдь с лопатами и молотками. Хрусть-хрусть, хрусть-хрусть, – ей-богу, я слышала, как хрипел и скрежетал даже сам воздух.
Всех забили. Как скот. Хотя со скотом-то на живодёрне помилосерднее обходятся. Сбросили в яму, чуть присыпали землёй.
«Эй, Луценко! – говорит этот мозглявый, этот зверёк… Господи, да зачем я сравниваю его со зверьком? Зверёк-то, оно и звучит ласково. Но с чем сравнить, чтоб уяснить всю жуткоту этих злодеяний?.. Снимает фуражку, рукавом гимнастёрки вытирает пот со лба. Говорит запыхавшимся голосом: “Бойцам по пачке махорки выдать: как-никак патронов двадцать – двадцать пять сегодня сберегли”. – «Слушаюсь! Прошлый-то раз, товарищ лейтенант, вас не было, так скот брыкаться начал, трое драпанули в кусты, пришлось потратиться на патроны. Шуму понаделали, страсть. От начальства нагоняй схлопотали. А нонче ловко мы их с вами. Ай, ловко и хитро! Может, внеочередной отпуск дадут, как думаете, товарищ лейтенант?» – И угодливо похихикивает.
«Дадут, потом поддадут, – пошучивает это мозглявое создание. – Будя, Луценко, чесать языком, дуй-кась на Дачу: пущай столы накрывают. Да водку чтоб остудили: в прошлый раз мочу подали. Ну, живо!» – «Слушаюсь, товарищ лейтенант!» – «Эй, Хаврошин, лопаты схоронить под кустом, не надо их на Дачу тащить: завтра работёнки ещё поболе будет, четырьмя автоколоннами голов под пятьдесят пригонят».
Наконец, машины тронулись. Некоторые из этого нелюдья запрыгнули в кабины и под тенты, а другие тропой направились лесом в сторону Дачи. Посмеивались, подначивали друг друга, словно бы с танцев да с гулянок шли. Минута-другая и – тишина. Тишина, ночь, октябрьский морозец, занявшаяся над лесом луна и – жуть. Жуть несусветная, жуть обыденности этого мира, когда миру сему уже, быть может, нельзя существовать. Но он… но он и по сей день существует, перемогши самую кровавую на свете войну.
5
Я не заметила, как и когда мои руки разжались. Перевалилась на спину, но с великим трудом, потому что чувствовала себя окоченевшим трупом, бревном. Лежу, слушаю, а что слушаю, зачем слушаю и зачем понимаю – непостижимо было. Да и лежу зачем, и дышу зачем, и живу зачем – неведомо. Никчемностью представилась сама жизнь, наши человечьи радости и горести, наши умные и глупые слова. Тьма кромешная, хотя луна светит, всё ярче разгорается. Нет ни земли, ни неба, ни лесов вокруг. Но тьма конечно же, Катя, установилась внутри меня. И мне не надо было ни земли, ни неба, ни солнца с луной – ничего, ничего не надо было. Только одно чувствовала и как-то осознавала: мне не надо жить. Вот прямо сейчас и прервать жизнь, остановить работу рассудка! Наверное, я потеряла сознание на какое-то, наверное, очень короткое, время, провалилась в глубокую яму своего горя и только что пережитого страха.
– Мир Божий? – тихонько спросила Екатерина.
Старушка, не медля ничуть, ответила:
– Мир Божий. Бог и нелюдей посылает на нас, чтобы мы ужаснулись грехам своим и чужим, а потом притисни́лись по отдельности или общинами или даже целыми народами к Богу и святым отцам нашим. Где памятуют о Боге всечасно, там и человек как человек, там и народ как народ: духовно опрятны, чинны. Но без испытаний и памяти горестной об этих испытаниях человеком не стать, в народ не сложиться, а быть стадом быдлячим, да у пастуха какого-нибудь залётного да каверзного.
Старушка строго, но коротко помолчала.
Екатерина шепнула, невольно:
– Простите.
А Евдокия Павловна продолжила рассказ, казалось, и не прерывалась, не говорила высоким слогом:
– Очнулась я – батюшки: нет рядом Паши! Кровь страха во мне закипела, ринулась по жилам, ожгла душу. И она, родимая, ожила. Я вскочила, устремилась в ночь, не разбирала дороги. Крикнула в отчаянии: «Сынок!» И вдруг то, что я впотьмах приняла поначалу за бугор, поворачивается ко мне. И я вижу освещённое луной лицо. Лицо незнакомое мне, лицо, будто высеченное из камня.
Я не сразу поняла: он, сыночек мой. Сидел Паша над траншеей, по самому по-на краю. Знаешь, Катя, – как глыба памятная на могиле.
– Мама, мы его здесь не оставим, – шершаво и лязгающе, так, будто внутри каменья перетряхивались, сказал он. – Они его как собаку… – Он помолчал и вдруг произнёс, и цедил даже не столько слова, а буквы, звуки, подвздохи: – Если я вырасту… я… им… – И он замолчал, и молчал, думаю, потому, что не мог разжать зубы. И больше – ни слова, ни вздоха. Он весь стал камнем. И внешне, и внутри.
Да, он превратился в другого человека. В те летучие десятки минут до и после казни отца он и изменился столь разительно: можно сказать, что вырос, возмужал, но одновременно и постарел. Ссутулило, даже сгорбило его, как старца. Потом, уже дома, я обнаружила, что он ещё и поседел. А если бы он увидел вживе саму казнь!..
Я спрыгнула в траншею. Металась: разгребала руками землю и тут, и там. В какое-то мгновение поняла ладонями: это его лицо, родное, единственное, в пышноте его роскошных усов. Оно было ещё мягким и, почудилось мне, тёплым, а потому я в каком-то порыве позвала: «Платоша, слышишь, Платоша?»
Паша вскрикнул, как бывало, когда он, после томительного поджидания, встречал отца со службы, бежал к нему, повисал на шее: «Папа, папа!»
Вот так вот по-детски, вроде как радостно, позвал он отца и спрыгнул в яму.
Я в какое-то мгновение поверила: живой Платон мой Андреевич, живой мой родненький супруг. С Пашей, как безумные, тормошили его. Но уже через секунды поняли воочую – никогда, никогдашеньки-то его не будет с нами.
«Полезай наверх, – велела я Паше. – Я приподниму его и буду подталкивать, а ты перехватывай, упирайся ногами и тяни вовсю».
Еле-еле вырвали из ямы. Он же у нас был крепышом, тяжелёхоньким. Лежит перед нами, изрубленный, но по-прежнему могучий, мощью своей живой, не убитый, не сломленный. Мы же на коленях склонились над ним, а что дальше делать – не подумали ведь. Где же захоронить его? Ни до какого кладбища не донесём, не дотянем, попутку или подводу остановить на Голоустненском тракте? – что подумают люди, не заявят ли на нас. Да и скоро уже светать будет: узрят нас эти изверги рода человеческого – беда, погибель.
«Потянули», – сказал Паша. «Куда?» – спрашиваю. «Хоть куда. Давай – туда», – мотнул он головой. Что ж, потянули туда. Проволока-колючка на пути. Тут уж Паша помог мне поднырнуть под неё: придержал нижнюю струну. Вытянули-вытолкали. Вот так попал он, наш родненький, на свободу, в руки семьи своей. «Прихвати пару лопат, – говорю Паше. – Мало-помалу утянем в тот лесок – всё человечья могилка ему будет. После потихоньку в темноте приходить можно, а если когда-нибудь наступить на Руси нашей святой добрым временам – так честь честью поступим: перезахороним на погосте, отпоём».
Евдокия Павловна помолчала, приопустив вычерненную плёночку век.
– Но когда им наступить, Катенька, когда? – тихонько вздохнула, покачнувши сухонькой головой.
Ответа не стала дожидаться.
Долго, тяжко волокли мы: час, два, – не понять было, время и чувства в голове перепутались. Горько-солёным потом исходили, аж глаза жгло, ладони и колени кололо и резало камнями, наростами льда по мерзловатой земле, в рытвины с льдистой водой проваливались, густую жёсткую траву или кустарники одолевали. Измаялись вусмерть, порой отчаивались. Но след не забывали тотчас заметать руками, охапками листву да быльё насыпа́ли.
Когда же, наконец, принялись копать могилку в укрытом кустами местечке, зорька брызнула. Орудую я лопатой и взглядываю на́ небо: не выдай, Господи! Ведь патрули злыдневские могут шариться где-нибудь поблизости. Спешили что было сил. А сил физических уже, кажется, и не было вовсе. Но дух держал нас на ногах и черенку лопаты не давал вывалиться из рук.
Поглядываю на Пашу: штык лопаты врубает в грунт, а сам лицом – камень, зубы давит, молчит сосредоточенно, будто задумал чего. До самого его ухода на фронт в сорок третьем я ни разу не увидела, Катенька, улыбки на его лице.
Земелька наша таёжная тяжела, норовиста, сама знаешь. Благо, что ещё немёрзлой была. Глубиной в пол моего роста всё же выкопали мы кое-как. Постояли перед дорогим нашим человеком на коленях – нет сил ни на что: ни на слёзы, ни на слова. Да и что говорить было! «Хороним, а омыть бы надо, хотя бы лицо», – сказала я. Так сказала, не подумавши: воды-то где взять? Лужи – лёд, а подо льдом – полосочка грязной водицы. Да и не водица то, а взвесь, жижа. Паша встал с колен, легонько раздробил лопатой ближайшую лужу, набрал в горсть льда, над лицом отца попытался в ладонях натаять. Не получилось, потому как руки у нас застыли, сами ледышками стали. Расстегнул он свою рубашку, приложил лёд к груди – влагой, каплями омыл отца.
Я осенила родное лицо крестным знамением, поцеловала в лоб. Кое-как опустили-скатили. Да старались, чтоб не упал он, а прилично, благообразно лёг. Закопали, махонький холмик нагребли, листвы-травы натрусили сверху: пойми, что могила. Лопаты сбросили в какой-то ров, закидали ветками и листвой и – бегом, бегом к городу, но уже другой дорогой, не той окаянной, кровавой, на которой нас могли заметить и сцапать. Уже по дневному свету вошли в первую улицу Иркутска. Умылись, обчистились мало-мало у первой встреченной колонки, побрели, родимые, домой. Не помню хорошенько, как дошли, потому как свет белый и людей видеть тяжело было.
Через сутки, через полтора ли являются к нам два милиционера. Один хамоватый, развязный такой, а второй – серёзный и строгий, но вежливый, одним словом, приличный человек. «Выселяйтесь, – заявляет этот хамоватый, – потому как вы родственники врага народа». «Куда же, – спрашиваю, – выселяться?» – «Да хоть куда. На, читай постановление, расписывайся и выметайся». А сам зенками рыщет: уже, верно, приглядывает, чего ему перепадёт при дележе. Они, эти злыдни, богатели в те годы на таких, как мы, горемычных, оболганных, и жилища, и имущество наши присваивали себе. «У меня малое детё. Куда же мы по холоду?» – спрашиваю внешне хладнокровно, а сама – и в огне, и в холоде, не понять было ощущений. «Будка собачья во дворе – можешь утащить с собой», – хохотнул, подлец.
«Мой отец мученически погиб за советскую власть от рук белочехов. Не имеешь права выселять дочь героя гражданской войны!» Заговорила-то я, Катенька, смело, а поджилочки-то дрожали. Вижу, смутился этот злыдень. И я – давай, давай наступать: «Пойду в райком партии – всыпят тебе, а то и во враги народа сам угодишь! Ишь чего удумал: дочь и внука героя гражданской войны выселять да вышвыривать на улицу!» – указываю я на Пашу. Сын сутуло стоит особняком в сторонке, зубы стиснул, лицом тёмен, как старый мужик. «И супруг мой, – всё наступаю я, – никакой не враг народа: пришла весточка из следственных органов, что завтра или послезавтра освободят его из-под ареста. Ошибка вышла! Партия разобралась!» Вот такую вот, Катя, закорючину я выдала со страху. Выдумывала – страсть! Что откуда бралось! Вижу, заюлил злыдень, малёшко даже растерялся, помалкивает и сопит. А этот, серьёзный, спрашивает: «Бумага имеется, что он герой?» – «На руках нет, но мне её выпишут в Кудимовке, где он погиб. Сейчас же помчусь туда». – «Ладно. Завтра со справкой зайдите в райотдел НКВД». И назвал мне кабинет и своё имя.
Ушли. Этот, хамоватый, фыркал и ощеривался, как озлённый пёс. В окно подсмотрела: во дворе и на улице размахивал руками, – должно, что-то доказывал напарнику. Но тот не отвечал, шёл твёрдо и стремительно, будто хотел побыстрее отвести от нашего дома этого злыдня.
Я шапку в охапку и бегом на большую дорогу – ловить попутку. К утру на десяти перекладных, наконец, добралась до родной моей таёжной Кудимовки, в сельсовете заскакиваю к Савве Кривоносову, бывшему нашему партизанскому командиру, а теперь председателю сельсовета. Так и так, говорю, Савва Петрович, муж мой пострадал, а меня с семьёй хотят выселить из дому, выпиши, добрая душа, справку с гербовой печатью, что мой отец героически погиб за советскую власть. «Погиб-то он погиб, конечно, но ведь кулаком был», – поразмыслив и пораспросив меня поподробнее о муже и всех обстоятельствах (я и ему врала, всей правды не говорила), ответствовал мне Савва. «Если бы не мой отец, сидел бы ты сейчас здесь живёхоньким и здоровёхоньким?» – «Оно, конечно, Евдокия, так, ежли по совести. Да времена-то нонче какие – сама видишь. Выпишу тебе бумагу, а начнут органы ковыряться – и меня следом сгребут: мол, кулака превозносишь, падла». – «А ещё партизан, командир наш! Трус ты, вот кто ты!» – не щажу я его, злю, можно сказать. Но он мужик, Катя, простодушный, честный, совестливый. Вижу: неловко ему жутко, аж заёрзал на лавке. И чую: вот-вот душой откроется, а потому наступаю, тереблю: «Повсюду с храмов кресты посбивали, устроили внутри склады да жилища, а в нашей Кудимовке хотя и закрыта церковка, да с крестом красуется. Значит, есть в тебе, Савва, что-то святое». «Да не дави ты на совесть, не вывёртывай мою душу! Будет тебе справка, но знай: и вокруг меня уже вороньё вьётся, не сегодня, так завтра нагрянут». Нацарапал он бумагу, хотя и полуграмотно, но искренно, по-человечьи сказал в ней о моём отце, что «и жись и именье своё отдал рабоче-крестьянской власти нашей родной». Печатью шлёпнул по бумаге, всунул её мне: «Иди, выручай своего благоверного. Может, и обо мне кто-нибудь похлопочет, ежли чего…» Не досказал, отмахнулся рукой, притворился хмурым да занятым.
Я поясно поклонилась ему, сказала: «Христос тебя спаси, Саввушка». – «Да нужны ли мы Богу… такие-то?» – спросил он. «Нужны, – ответила я. – Потому как все мы Его дети». – «Все?» – «Все». – «Хм», – хмыкнул он и отмахнул мне рукой: мол, уходи скорее.
Через полгода, раньше ли узнала я, что и Савву сграбастала лютующая нечисть. Жив ли он – неизвестно. Может быть, недалече от Платона моего Андреевича лежит.
Ну так вот, взяла я эту заветную бумагу и полетела назад. Воистину: не шла, не бежала, не ехала, а, наверное, летела на каких-то волшебных крыльях, потому что как оказалась в Иркутске, в нашем родном Глазковском предместье да в нужном кабинете райотдела – не помню, хоть убей. Передала бумагу тому отзывчивому милиционеру, а сама, ждучи ответа, вся горю палящим огнём. Прочитал он въедчиво, с прищуркой, сказал: «Про то, что вашего мужа оправдали, вы нам соврали». «Да, соврала, – сказала я. – Но что же мне оставалось делать? У меня на руках ребёнок». «А вы знаете, что с ним?» – после долгого молчания спросил он и неожиданно, как мальчик, отвёл глаза, не смог смотреть в мои. Да, он конечно же уже знал, выяснил, что с Платоном Андреевичем. «Мой муж скоро выйдет на свободу», – ответила я. Он пристально, но коротко посмотрел на меня: «Ладно, пусть будет так. Добьюсь, чтобы постановление о выселении отменили. Тем более что отзывы с места вашей работы, из школы, очень даже положительные. Что ж, идите. – И уже когда я вышла из кабинета, но ещё не закрыла дверь, он произнёс в полголоса: – Берегите обоих сыновей. Впереди большая чудесная жизнь и нам непременно надо до неё дожить. Мы построим коммунизм и в нём всем нам славно будет житься».
Знаешь, Катя, как-то так по-особенному сказал он «чудесная». Я оглянулась и увидела в его глазах блеск. Нет, конечно, он не плакал. Но что-то было, Катенька, в его глазах, что-то было такое, понимаешь, по-особенному трогательное: и по-детски наивное и светлое и одновременно по-стариковски печальное и тёмное. Мне его стало жалко, как сына. Наверное, молодого человека ждала непростая судьба.
Старушка помолчала, неопределённо покачивая головой, прибавила:
– Как бы нас не мучили и не казнили, а людей хороших всё одно не убывает на русской земле. Верь, Катенька, в людей, как бы тяжко тебе ни было.
Екатерина в бледной напряжённой улыбке сморгнула, не найдя ни одного настоящего слова, а произносить что-либо случайное не хотела или даже не смела.
– Но, как говорят, пришла беда – отворяй ворота. Пробегают, Катенька, дни, недели, минул уж месяц, а вестей от Саши, от старшего сына, нет. Раньше в неделю, в две письмецо получали, бывали и звонки из Ленинграда – отцу в Красные казармы, а тут – молчание полное. Затревожилась я. Не пострадал ли за отца? Ведь злыдни могли направить бумагу в Ленинград: проверьте-ка сынка врага народа. Те своей бесовской прытью проверили, арестовали, выбили какие-нибудь абсурдные показания и… и…
Женщина оборвалась, её лицо повело, но она, одолевая тяготу чувств, продолжила рассказ:
– Что делать? Звоню в институт, в приёмную ректора. Спрашиваю: «Могу ли я узнать, что с моим сыном Александром Платоновичем Елистратовым? Письма исправно писал, звонил, а теперь почему-то тишина». Слышу, там пошуршали бумагами, полистали чего-то, пошептались. Неожиданно – гудки. Боже, что такое?! Чует моё сердце: беда стряслась. Но понимаю с горечью и отчаянием: начну настырничать, выяснять – ведь куда следует сообщат, и снова возьмутся за нас, ещё живых.
День, два, неделю терпела. Но как же сердцу матери выдержать? Снова позвонила. Ответили скороговоркой и чуть не шёпотом: «Прекратите звонить. Это в ваших интересах». И снова – обрыв. А гудки – как сиплые вздохи из глубокой ямы. Я осознала неумолимый ужас случившегося: Саши, моего сыночка, моей кровиночки, больше нет в живых. И его замучили и убили. Можно было, конечно, предположить, что осудили и отправили в лагеря… но я-то видела, куда и как отправляют их. И теперь уже столько лет прошло – ни весточки о нём. После войны я направляла запрос в официальные органы – молчание. Но я, Катя, скоро со всеми моими родными встречусь, наперекор всем злыдням и преградам. Знаешь, обнимемся, поговорим, поплачем и, может быть, посмеёмся и – навсегда, навечно будем вместе. Скорей бы.
6
Екатерина взяла её руку и поцеловала. Обе молчали и слушали вьюгу, упорно бившуюся в стены дома и ставни. Но сила остервенения ветра уже ослабла, непогода очевидно угасала, смирялась. В щёлку ставни стал просачиваться свет раннего утра, пока ещё тусклый и неверный. Екатерина остро и желанно почувствовала: ночи конец, впереди день и никакая ночь и непогода не могут быть вечными. Конечно же хотелось узнать, что случилось с Павлом, но она не смела расспрашивать. Ей показалось, что Евдокия Павловна, лежавшая с закрытыми глазами, задремала, и хотела было встать и уйти к себе, тем более через час-полтора нужно будет собираться на работу, однако услышала:
– Я не сплю, Катя, я немножко передохнула. Мне уже не нужны силы по жизни, но они мне нужны сейчас, чтобы тебе досказать. Я должна досказать: чтобы ты знала и помнила. И если кому-нибудь когда-нибудь расскажешь – чтобы и они знали и помнили. Ты же хочешь узнать, что стряслось с Пашей? Слушай… пока я могу и хочу говорить.
Горевала я страшно: Саши нет! Нет. Саши не будет с нами, он не построит дома и заводы, как мечтал в юности, потому и пошёл на инженера, не создаст семьи, не родит для меня внуков. Бывало, во время урока я неожиданно замолкала, опускалась на стул, но потом не помнила, что со мной было. А детишки после перебивали друг дружку и рассказывали мне: сидела, мол, как статуя, и глядела в одну точку. «Стра-а-а-ш-ш-шно было!» – говорили они. Очнусь – вижу, не вижу, слышу, не слышу. Не осознаю́, кто и что передо мной. Знаешь, Катя, если бы не Паша, я ушла бы из жизни легко и просто, не задумываясь: так было горько, до того невыносимо стало осознавать, что я всё ещё живу, а он – нет.
Приходила домой – Паша, родненький мой сыночек, дожидается меня. Значит, я должна шевелиться, жить. Ещё жить. Всё же жить.
И ему несладко жилось: в школе его дразнили «вражиной», «ублюдком шпионским». Он дрался с мальчишками. Насмерть дрался. Именно насмерть, а не чтобы победить, что-то доказать. Он был сильный, решительный, и расправлялся с обидчиками довольно легко, но в каком-то угаре, вроде как в состоянии бессознательности, безумия. Я видела: он ожесточался, становился беспощадным, неистовым. Иногда мог сказать мне: «Все вокруг сволочи». А любимым его словом стало – «ненавижу». Однажды спросил меня, а до-о-олго, знаешь, не осмеливался: «Они и Сашу забили?» Он не сказал – «как скот», но я поняла. Не ответила, промолчала, погладила его по голове, поцеловала в темечко. И он больше не спрашивал.
Я чаще и чаще замечала за ним привычку, а она там зародилась, в расстрельной зоне: он вроде как без видимых причин вдруг сжимал зубы, аж челюсть дрожала, а кадык выпирало колом. И так со сжатыми подолгу молчал, не отзывался, если я обращалась к нему. Понимала: недетские мысли и чувства угнетали его. Привлекала к себе, гладила, но чувствовала, что он по-особенному, непривычно неподатлив становился – весь какой-то тугой, стянутый, точно бы пружина. Да, он рано повзрослел, годам к четырнадцати уже не был ребёнком, и внешне – мужичок, хмуристый.
После очередной стычки или драки меня вызывал директор школы, Иван Семёнович Недогайло, к слову, добрейший, интеллигентнейший человек. Корил своим тоненьким, вкрадчивым голоском старенького дьячка (да он, поговаривали, и был церковнослужителем до революции): «Ну, что же, ей-богу, растёт он у вас, Евдокия Павловна, жестокосердным и нелюдимым? Чуть что – вспыхивает, лютует. Его уже никто не трогает, не обзывает (мы, педагоги, проводим надлежащую работу!), а он, чуть что ему не понравится, набрасывается и набрасывается на детей с кулаками, да и нам, взрослым, дерзит напропалую. Настоятельно рекомендую, осмотритесь и сыну объясните: жить-то стало хорошо, жить-то стало веселее! Скоро, слава богу, в коммунизме окажемся, Евдокия Павловна. И как же вашему сыну с его пещерными наклонностями жить в светлом будущем человечества? Уж, пожалуйста, примите меры, милейшая Евдокия Павловна…» И так – из раза в раз. И говорил убеждённо, очевидно, верил своим словам.
Ну, что, Катенька, я могла ответить этому божьему человеку с его святой верой в светлое будущее, с его вечно сверкающей, как ёлочная игрушка, лысиной? Стояла перед ним, хлопала глазами, поддакивала.
«Смирись, Паша. Смиренному и Бог и люди пособляют», – с глазу на глаз увещевала я сына.
Он не отзывался, но я знала: понимает, что́ значит смириться, стать смиренным. Я никогда с ним не говорила о вере нашей православной, о вероучении отцов Церкви, он, к слову, ни разу не был и в храме и даже, кажется, не доводилось ему видеть священника, в наши дни, сама знаешь, они редки на улицах, тем более в священническом убранстве, но моё смирись, уверена, он понимал правильно. Но понимал умом, а не сердцем.
Сердце же Пашино не способно уже было смириться, потому что жизнь своими клещами изранила его, такое ещё детское, неискушённое, да что там! – изувечила, превратила в болючий комок, который мучит и гнетёт каждую секунду. И как зачастую бывает с очень сильными, норовистыми людьми? Они уж лучше совершат какое-нибудь чудовищное безрассудство, а то и примут безвременную смерть, но не встанут на колени – ни перед людьми, ни перед Богом. Думаю, таким и был мой сын, Катенька. Горжусь им, но и – скорблю. Скорблю о его душе, виной погибели которой не он сам. Молиться буду о спасении его души до тех пор, пока дышу. Мне повезло: у меня есть дом – моя катакомба с иконами и келейной тишиной. Здесь и умру с молитвой. Христианкой умру.
Евдокия Павловна помолчала. Екатерина невольно, по какому-то безотчётному желанию повторила про себя: «Христианкой». Необыкновенно ново и необыкновенно загадочно прозвучало в ней это редко звучащее в окружающей жизни слово.
– Хотя и тяжело было душевно сыну, – продолжила Евдокия Павловна, – учился он всё же хорошо. Ходил в отличниках, был прекрасным гимнастом, ворошиловским стрелком, шахматистом разрядником, – знаешь, всюду поспевал, был жаден до жизни. Ум-то и силы природные, если они дарованы человеку, никак не утаишь от людей, согласись. Однако из пионеров Павла исключили, ещё в том, в окаянном 37-м. Позже в комсомол, как он не рвался, сколько заявлений – ох, до чего же он был настырен! – не писал в школьную ячейку и даже в райком комсомола, не приняли. А ему, юному, деятельному, такому, о ком говорят, что семи пядей во лбу он, хотелось участвовать в ребячьих делах, в общей жизни школы и страны, как бы к нему не относились. И если бы, Катенька, его не отталкивали, не обижали, он столько мог бы сделать для людей. И сейчас, когда, наконец-то, мира и блага вволю пришло на нашу землю, сколько он делал бы для всех нас, сколько, родненькая моя, делал бы, – страсть!
После школы поступил в техникум, и до войны успел поработать мастером на заводе и даже стал победителем в соцсоревновании ремонтных участков. Хвалили, грамоту вручили. Сам начальник цеха звонил мне в школу, благодарил за сына. В сорок третьем его могли бы и не призвать: возраст-то хотя и подошёл, да у него была бронь, потому что на оборонном заводе работал. Но он сказал мне: «Отец – не сможет, я за него пойду на войну». Я отговаривала: ведь единственный он у меня остался. Но он добился-таки в военкомате, чтоб призвали.
Война в том году, как старуха, уже привалилась на уклон, захромала, закашляла, и страна почуяла её скорую смерть. Наши колотили врага по всем фронтам, а потому надеялась я: Паша вернётся живым, тем более что его сначала направили на офицерские курсы. Верила: жизнь и судьба его потихоньку выправятся, вольётся он в так желаемые им общие дела, – и его оценят, как надо. Но… но…
Получила похоронку: погиб в бою за какую-то Старогеоргиевку. Скупые были на бумаге слова. Я видывала другие похоронки – писали матерям или жёнам, что, мол, выполняя боевое задание, верный воинской присяге, проявляя стойкость и мужество, погиб, примите искреннее соболезнование и сочувствие. Или так отписывали: проявил геройство и мужество, похоронен с отданием воинских почестей. И неизменно добавляли, сама, наверное, Катя, знаешь, что настоящее уведомление является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Вот так оно, по-человечески-то. А про Пашу – погиб да погиб, никакого сострадания и почтения. Ну да что теперь!..
В сорок седьмом после демобилизации вернулся в Иркутск и зашёл ко мне его однополчанин, однокашник и друг детства Миша Золотоверхов, и узнала я от него вот какую историю. Оказывается, Паша незадолго до своей гибели попал в штрафную роту; а мне в письмах – ни слова. После офицерских курсов направлялись они со своим полком на фронт. Ехали на открытых платформах с пушками, тягачами и всяким снаряжением. Знаешь, Катя, с молодыми людьми, когда они собираются вместе, всякое ведь может случиться. И тут случилось: некий майор, батальонный командир Анисимов, стал приставать к связистке, совсем ещё девчонке. Зажимал её где в сторонке, и всё одного от неё донимался, подлец. Та как могла отбивалась, придушенная, попискивала, а солдаты и младшие офицеры посматривали издали со смешочками да шуточками. Миша признался: между собой, конечно, осуждали майора, да что же скажешь старшему по званию?
Однажды из брезентового шалаша связистки услышали истошный крик: «Уйдите, товарищ майор, оставьте меня! Какой вы негодяй! Выброшусь!» Миша рассказывал: Паша вмиг померк лицом, сжал зубы и кинулся к шалашу. За шиворот выволок наружу майора, рывком взметнул его над собой и – швырнул с платформы. Склонился к лазу в шалаш, но полог не раздвинул, сказал девушке: «Вас, Валя, больше никто не тронет».
Ясное дело, тотчас подняли тревогу, эшелон остановили, отыскали майора. Слава богу, оказался жив, угодил в кусты, только сломал ногу, вывихнул руку да морду расцарапало. Пашу взяли под стражу и вскоре судили трибуналом. Направили в штрафное подразделение. О дальнейшей его судьбе Миша не знал, и вот, зашёл ко мне спросить. Сказала: погиб. Покачал головой: «Я так и думал, Евдокия Павловна. Штрафников всегда бросали в пекло, мало кто из них выжил. Паша, если бы остался в полку, мог бы выжить, если бы не этот негодяй майор». Я не стала переубеждать Мишу, мог бы выжить мой сын или нет, если бы в его жизнь не встрял этот майор и связистка, потому что я знала, Катя: мой сын не мог поступить иначе… потому что… потому что он не смирился. И не мог смириться.
Помолчав, прошелестела губами едва слышно, возможно, только для себя:
– Не мог.
Она замолчала. Её веки опустились, и Екатерине показалось, что на месте глаз образовались провалы – так темна была кожица. Дышала женщина напряжённо и как-то укороченно: воздух вбирала в себя вполвдоха, словно бы с неохотой. «Да, она не хочет жить», – подумала Екатерина. Она только сейчас заметила, что огонёк в лампадке погас, однако не стало темно. Напротив, посветлело, потому что сквозь щели в ставне по комнате разливался свет утра, свет нового дня.
Надо собираться на работу.
Когда вышла из сеней во двор – невольно зажмурилась: ярко горели снега. Округа разительно переменилась: серая, сырая, унылая вечером и празднично убранная, преображённая до неузнаваемости сейчас. Буран уже отбушевал, небо было прочищено до звонкой синевы, и хотя солнце ещё лежало за изгородями и домами – было светло и ясно как днём. Земля, щедро застеленная коврами снегов, в своём сверкании, сиянии, лучистости была восхитительно прекрасна. С вечера дождём накидывало, и если бы не снег – быть бы жуткой слякоти, сплошному неуюту. Но, похоже, новое время года – зима одолело-таки нынешнюю затяжную в своей промозглости и хмури осень с неизменно низким, изодранным небом. Надо ждать не сегодня завтра заморозка, а то и настоящего, уже зимнего мороза. «Зима. Мороз. Снеговик. Ёлка. Новый год. Дед Мороз…» – кружатся в голове Екатерины слова и образы, а душа наполняется каким-то свежим и лёгким чувством. Но ей неловко, ей совестно: за стенами этого дома неизбывная печаль и скорбь. Однако изменить свои чувствования девушка не в силах, как конечно же не в силах остановить восход солнца, наступление этого нового дня жизни.
Захваченная своим новым, столь неожиданным состоянием, она не сразу замечает, что возле её ног вьётся, виляя пушистым хвостом, ощериваясь очевидной улыбкой, клочковато-лохматый дворовой пёс Байкалка.
– Наверное, натерпелся за ночь, бедолага ты наш? – обращается к нему Екатерина. Она гладит его, треплет за шерсть, богато наполнившуюся в последние недели подшёрстком, шелковистой мяготью. Сбегала в сени с его миской, половником щедро наклала в неё с вечера приготовленного варева.
– Уплетай, наш доблестный охранник! – поставила перед ним миску. Но ему, очевидно проголодавшемуся, оказывается, не еда нужнее – порезвиться, поласкаться бы.
– Ешь же, ешь, Байкалка! – призывает Екатерина, но пёс подпрыгивает, тянется к ней лапами, тычется в лицо мокрым носом – явным признаком отменного собачьего здоровья и бодрости.
По щиколотку, а то и на весь голень проваливаясь в сугробы, Екатерина пробралась за калитку. Надо спешить на работу, не опоздать бы – волнуется, понимая, что идти по заваленным снегом и размокшим после затяжных осенних дождей немощенным глазковским улицам будет непросто. Однако – снова остановилась. Отсюда, с крутояра над Иркутом, обзор неохватно широк, дали беспредельно глубоки. Екатерина очарована: и небо беспредельно, и земля беспредельна. Озирается, как в незнакомом месте, всматривается в белые равнинные просторы.
По деревянному, приземистому мосту через Иркут едут автомобили и гужевые повозки. Неподалёку, почти что обок – другой мост, железнодорожный; он высок, громаден, ажурен. По нему промчалась передача – паровоз с весёлыми красными ободьями колёс, тянущий за собой четыре вагона. В них, по-видимому, рабочие и инженеры авиазавода и депо Иркутска-Сортировочного, направляются на смену. Только умчалась передача, следом вкатился на мост гулкий длинный состав вагонов; урчливо протрубил, будто пожурил за что-то округу и всё живое в ней, бокастый, со звездой «во лбу» локомотив «Иосиф Сталин». «Все спешат на работу, все трудятся», – удовлетворённо думает Екатерина.
За Иркутом дымит печными трубами деревня Селиваниха, подле неё курится паром петляющая речка Сарафановка. «Проснулся народ», – думает Екатерина и старается взглядом проникнуть дальше, глубже. Угадывается застланное дымкой Монастырское озеро, а невдалеке от него – Иннокентьевская роща и Спасо-Иннокентьевский храм. Екатерине кажется, что слышны колокольные звоны. «Наверное, утреня закончилась, – подумала. – Люди молились, обращались к Богу». Распознаются развалины Михайло-Архангельского скита, разрушенного после революции. «Там земля намоленная», – вспомнились ей слышанные в детстве слова матери, но о какой-то другой намоленной земле. Но ни храма, ни рощи, ни озера, ни тем более развалин скита она не видит явственно или даже вовсе не видит их в этом сплошном снежном водополье, однако почему-то уверена, что и видит, и слышит, и даже что-то такое неуловимое, но желанное осязается всем её существом. Ей хочется смотреть в эти дали, за которыми ещё и ещё дали, и что-нибудь ещё разглядеть, распознать в них или угадать. «Увидеть бы Москву», – неожиданно и как-то по-детски думается ей. Улыбнулась.
Но тут же вспоминается в тревоге: ой! надо спешить на работу. Да сдвинуться с места не может. Какая-то неведомая сила не пускает её, словно бы что-то ещё надо увидеть и понять. Душа полна сладким, но одновременно подгарчивающим чувством. Кажется, что прежняя жизнь или чувствование, осознание этой жизни и самой себя в ней для неё уже невозможны. Она догадывается, что нынешняя ночь и утро переворотили её душу. Но – какая возможна жизнь? Какая – кто скажет? – возможна жизнь прямо с сегодняшнего дня, с этих минут и потом – на долгие годы? Какие пути в этих пугающе-грандиозных, монотонно-белых далях земли и жизни могут открыться для неё и куда, к кому и для чего в итоге привести?
«Дали, дали… Снега, снега…» – звучит перезвонами и эхами в её душе. И новые, но разнородные и даже противоречивые ощущения беспокоят её, смущают, настораживают. «Божий мир», – вспомнилось, и она понимает, что не могло не вспомниться.
– Божий мир, – шепнула она, словно бы для того, чтобы кто-нибудь услышал её, хотя бы – воздух и снег.
Ещё раз, но уже полным голосом произнесла:
– Божий мир.
Но зачем произнесла, для кого – не понимала. Стояла у калитки перед ещё нетронутой ничьим следом дорогой и приглядывалась и прислушивалась к жизни округи с этими её мостами-тружениками, с этими её безмерными, но затаёнными далями. Догадывалась: ожидала какого-то слова или знака. Но – откуда, от кого, наконец, зачем?
– Божий мир.
Не поняла: вновь сама сказала или – кто-то.