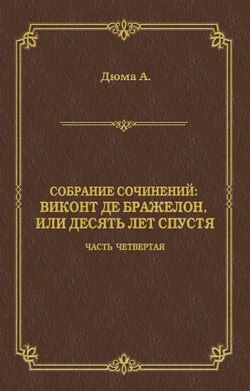Читать книгу Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя. Часть четвертая - Александр Дюма - Страница 9
VIII
Малага
ОглавлениеПока продолжалась эта жестокая борьба страстей, разыгравшихся под кровом королевского дворца, с одним из наших героев, которым меньше всего следовало бы пренебрегать, в обществе перестали считаться. Он был забыт и очень несчастен.
Действительно, д’Артаньян, которого нужно назвать по имени, чтобы вспомнить о его существовании, – д’Артаньян не имел решительно ничего общего с этим блестящим и легкомысленным обществом. Пробыв с королем два дня в Фонтенбло, посмотрев пасторали и героико-комические маскарады своего повелителя, мушкетер почувствовал, что это не может наполнить его жизнь.
Он был окружен людьми, которые поминутно обращались к нему:
– Как, по-вашему, идет мне этот костюм, господин д’Артаньян?
А он отвечал спокойно и насмешливо:
– По-моему, вы разряжены, как самая красивая обезьяна на Сен-Лоранской ярмарке.
Это был обычный комплимент д’Артаньяна. Волей-неволей задавшему вопрос приходилось довольствоваться им.
Когда же его спрашивали:
– Как вы оденетесь сегодня вечером, господин д’Артаньян?
Он отвечал:
– Наоборот, я разденусь.
И все хохотали, даже дамы.
Но, проведя таким образом два дня, мушкетер увидел, что в замке не происходит ничего серьезного и что король совершенно забыл или, по крайней мере, делал вид, что совершенно забыл и Париж, и Сен-Манде, и Бель-Иль; что Кольбер размышлял только об иллюминациях и фейерверках, что дамам предстояло, по крайней мере, еще целый месяц строить глазки и отвечать на нежные взоры.
И д’Артаньян попросил у короля отпуск по семейным делам.
Д’Артаньян обратился к королю с этой просьбой, когда Людовик ложился спать, утомленный танцами.
– Вы хотите меня покинуть, господин д’Артаньян? – с удивлением спросил он.
Людовик XIV никак не мог понять, чтобы кто-нибудь, имея счастье лицезреть его, был в силах расстаться с ним.
– Государь, – сказал д’Артаньян, – я уезжаю, потому что я вам не нужен. Ах, если бы я мог поддерживать вас во время танцев, тогда другое дело.
– Но, дорогой д’Артаньян, – серьезно отвечал король, – кавалеров не поддерживают во время танцев.
– Простите, – поклонился мушкетер, продолжая иронизировать, – право, я этого не знал.
– Значит, вы не видели, как я танцую? – удивился король.
– Видел, но я думал, что с каждым днем танцы будут исполняться все с большим жаром. Я ошибся; тем более мне здесь нечего делать. Государь, повторяю, я вам не нужен. Кроме того, если я понадоблюсь, ваше величество знаете, где меня найти.
– Хорошо, – согласился король. И дал ему отпуск.
Поэтому мы не станем искать д’Артаньяна в Фонтенбло. Это было бы бесполезно. Но, с позволения читателей, поедем прямо на Ломбардскую улицу, в лавку под вывеской «Золотой пестик», к нашему почтенному приятелю Планше.
Восемь часов вечера, жарко, открыто одно-единственное окно в комнате на антресолях. Ноздри мушкетера щекочет запах пряностей, смешанный с менее экзотическим, но более едким, проникающим с улицы запахом навоза.
Д’Артаньян устроился в просторном кресле, положив ноги на табурет, так что его туловище образует тупой угол. Его взгляд, обычно проницательный и подвижный, теперь застыл. Д’Артаньян тупо глядит на кусочек голубого неба, виднеющийся в просвете между трубами. Этот лоскуток неба так мал, что его хватило бы только на починку мешков с чечевицей или бобами, которыми завалена лавка в нижнем этаже.
Окаменевший в этой позе, д’Артаньян не похож больше на вояку, не похож и на придворного офицера. Это просто буржуа, дремлющий от обеда до ужина, от ужина до отхода ко сну. Мозг его теперь так окостенел, что в нем не осталось места ни для одной мысли, материя всецело завладела духом и бдительно стережет, как бы под крышку черепа не пробрался контрабандой какой-нибудь обрывок мысли.
Итак, был вечер; в лавках зажигались огни, а окна в верхних этажах закрывались; раздавались шаги сторожевого патруля.
Д’Артаньян по-прежнему ничего не слышал и тупо смотрел на клочок неба. В двух шагах от него, в темноте, лежал на мешке Планше, подперев подбородок руками. Он смотрел на д’Артаньяна, который то ли мечтал, то ли спал с открытыми глазами.
Наблюдения Планше длились уже долго.
– Гм, гм… – проворчал он наконец.
Д’Артаньян не шевельнулся. Тогда Планше понял, что нужно принять какие-то более радикальные меры. После зрелого размышления он нашел, что при настоящем положении вещей самое лучшее слезть с мешка на пол, что он и сделал, пробормотав при этом:
– Болван! (Этим эпитетом он наградил самого себя.)
Но д’Артаньян, которому в своей жизни довелось слышать немало шумов, по-видимому, не обратил ни малейшего внимания на шум, произведенный Планше. Вдобавок огромная телега, нагруженная камнями, своим грохотом заглушила шум, произведенный Планше. Однако ему показалось, будто на лице мушкетера при слове «болван» промелькнула одобрительная улыбка.
Планше осмелел и сказал громче:
– Вы не спите, господин д’Артаньян?
– Нет, Планше, я даже не сплю, – отвечал мушкетер.
– Я в отчаянии от слова даже.
– Почему? Ведь это самое обычное слово.
– Оно меня огорчает.
– Я тебя не понимаю. В чем дело?
– Если вы говорите, что даже не спите, это значит, что вы не находите утешения даже во сне. Значит, вы как будто обращаетесь ко мне: «Планше, мне до смерти скучно».
– Ты знаешь, Планше, что я никогда не скучаю.
– Кроме сегодняшнего и вчерашнего дня.
– Что ты!
– Господин д’Артаньян, вот уже неделя, как вы приехали из Фонтенбло; вот уже неделя, как вы не командуете вашим отрядом и не выводите его на учение. Вам не хватает треска мушкетов и грохота барабана. Я сам носил мушкет и понимаю вас.
– Уверяю тебя, Планше, что я ничуть не скучаю, – отвечал д’Артаньян.
– Так что же, в таком случае, вы делаете, лежа как мертвый?
– Друг мой Планше, когда я участвовал, когда ты участвовал, когда все мы участвовали в осаде Ла-Рошели, в нашем лагере был араб, искусный стрелок из кулеврины. Это был смышленый малый, хотя и оливкового цвета. Так вот этот араб, поев или поработав, ложился, так же как и я лежу в данную минуту, и курил какие-то волшебные листья в трубке с янтарным наконечником; если же какой-нибудь проходивший мимо офицер упрекал его за то, что он вечно дрыхнет, араб спокойно отвечал: «Лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, лучше умереть, чем лежать».
– Это был мрачный араб и по цвету кожи, и по изречениям, – промолвил Планше. – Я отлично его помню. Он с большим наслаждением рубил головы протестантам.
– Совершенно верно, и бальзамировал их, когда они того стоили.
– Да, и бальзамируя их своими зельями, он был похож на корзинщика за работой.
– Да, да, Планше, совершенно верно.
– О, и у меня есть память!
– Не сомневаюсь. Но что скажешь ты о его рассуждении?
– С одной стороны, я нахожу его превосходным, а с другой – глупым.
– Объясни, Планше, объясни.
– «Лучше сидеть, чем стоять» – да, это верно, когда устанешь; в некоторых обстоятельствах… (Планше лукаво улыбнулся) – «лучше лежать, чем сидеть». – Но последнее утверждение: «Лучше умереть, чем лежать» – я нахожу совершенно нелепым; я, безусловно, предпочитаю постель. Если вы не согласны со мною, то это доказывает только, что вы, как я уже имел честь заметить, смертельно скучаете.
– Планше, ты знаешь господина Лафонтена?
– Аптекаря на углу улицы Сен-Медерик?
– Нет, баснописца.
– А-а-а… «Ворона и лисица»?
– Вот-вот. Я точь-в-точь его заяц.
– Разве у него есть и заяц?
– У него всякие звери.
– Что же делает его заяц?
– Раздумывает.
– Вот как?
– Планше, и я раздумываю, как заяц господина Лафонтена.
– Вы думаете? – с тревогой спросил Планше.
– Да. Твое жилище, Планше, достаточно уныло и толкает к размышлениям. Надеюсь, ты согласен со мной?
– Однако, сударь, ваши окна выходят на улицу.
– Черт возьми, как это весело!
– А между тем, сударь, если бы ваша комната выходила во двор, вы скучали бы еще сильней… Нет, я хотел сказать: размышляли бы еще глубже.
– Ей-богу, не знаю, Планше!
– Добро бы еще, – продолжал лавочник, – ваши мысли были похожи на те, что привели вас к реставрации Карла Второго. – И Планше тихонько засмеялся.
– Планше, друг мой, – упрекнул его д’Артаньян, – вы становитесь честолюбивы!
– Разве нет еще какого-нибудь короля, которого можно было бы посадить на трон, господин д’Артаньян? Разве нет другого Монка, которого можно было бы упрятать в тюрьму?
– Нет, дорогой Планше. Все короли сидят на своих тронах… Впрочем, может быть, не так прочно, как я на этом кресле, но все-таки сидят.
И д’Артаньян вздохнул.
– Господин д’Артаньян, – сказал Планше, – вы огорчаете меня.
– Ты очень добр, Планше.
– У меня есть одно подозрение, да простит меня Господь.
– Какое?
– Господин д’Артаньян, вы худеете.
– О-о-о! – воскликнул д’Артаньян и ударил себя в грудь, которая зазвенела, как пустая кираса. – Этого не может быть!
– Видите ли, – с чувством продолжал Планше, – так как вы худеете у меня…
– Ну?
– То я совершу что-нибудь страшное.
– Брось, – отмахнулся д’Артаньян.
– Да, да, – уверял Планше.
– Что же ты сделаешь, скажи!
– Разыщу того, кто огорчил вас.
– Ну вот, теперь ты говоришь о каком-то огорчении.
– Да, вы чем-то огорчены.
– Нет, Планше, нет.
– Уверяю, что в вас сидит печаль и от нее вы худеете.
– Я худею? Ты уверен в этом?
– На глазах… Малага!.. Если вы будете худеть и дальше, я возьму рапиру и проткну грудь господину д’Эрбле.
– Что?! – воскликнул д’Артаньян, подскочив в кресле. – Что вы сказали, Планше? Почему в вашей лавочке вдруг вспомнили господина д’Эрбле?
– Хорошо, хорошо! Сердитесь, если вам угодно, проклинайте, если хотите, но – черт возьми! – я знаю то, что знаю.
После этого второго выпада Планше д’Артаньян сел в такой позе, чтобы не упустить ни одного движения достойного бакалейщика, то есть облокотился о колени и вытянул шею по направлению к собеседнику.
– Ну-ка, ответь, – сказал он, – как мог ты произнести такое страшное кощунство, как мог ты даже подумать о том, чтобы поднять оружие на господина д’Эрбле, твоего прежнего господина, моего друга, священника, мушкетера, ставшего епископом?
– Я поднял бы оружие даже на родного отца, когда вижу вас в таком состоянии.
– Господин д’Эрбле – дворянин.
– Мне все равно, будь он хоть трижды дворянин. Из-за него у вас черные мысли, вот что я знаю. А от черных мыслей худеют. Малага! Я не хочу, чтобы господин д’Артаньян отощал у меня в доме.
– Черные мысли из-за господина д’Эрбле? Объяснись, пожалуйста, объяснись.
– Уже три ночи подряд вас мучает кошмар.
– Меня?
– Да, вас, и во сне вы повторяете: «Арамис, коварный Арамис!»
– Я говорил это? – тревожно спросил д’Артаньян.
– Говорили, честное слово!
– Ну и что? Ведь ты, друг мой, знаешь поговорку: всякий сон – ложь.
– Нет, нет! Вот уже три дня, как, возвращаясь домой, вы каждый раз спрашиваете: «Ты видел господина д’Эрбле?» или же: «Ты не получал писем на мое имя от господина д’Эрбле?»
– Что же тут странного, если я интересуюсь своим дорогим другом? – ухмыльнулся д’Артаньян.
– Это, конечно, вполне естественно, но не до такой степени, чтобы из-за этого уменьшаться в объеме.
– Планше, я потолстею, даю тебе честное слово.
– Хорошо, сударь, принимаю ваше обещание, так как знаю, что ваше честное слово священно…
– Мне больше не будет сниться Арамис.
– Прекрасно!..
– Я больше не буду спрашивать у тебя, получены ли письма от господина д’Эрбле.
– Превосходно.
– Но объясни мне одну вещь.
– Говорите, сударь…
– Я человек наблюдательный…
– Я это отлично знаю…
– Сейчас ты произносил странное ругательство… Я его никогда от тебя раньше не слышал.
– «Малага» – хотите вы сказать?
– Да.
– Я всегда так ругаюсь с тех пор, как стал лавочником.
– Но ведь так называется сорт изюма.
– Я ругаюсь так, когда взбешен. Если я сказал «малага» – значит, я перестал владеть собой.
– Но прежде я не слыхал от тебя ничего подобного.
– Вы правы, сударь. Меня научили.
И, произнося эти слова, Планше подмигнул так хитро, что д’Артаньян внимательно взглянул на него.
– Эге! – протянул он.
Планше повторил:
– Эге!
– Вот как, вот как, господин Планше!
– Ей-богу, сударь, – сказал Планше, – я не похож на вас, я не люблю предаваться размышлениям.
– Напрасно.
– Я хочу сказать – не люблю скучать, сударь. Жизнь так коротка, почему же ею не пользоваться?
– О, да ты эпикуреец[9], Планше!
– А почему же мне не быть им? Руки у меня ловкие, пишу ли я или отвешиваю сахар и пряности; ноги крепкие, танцую я или гуляю; желудок отменный, и ем хорошо и перевариваю; сердце не очень заскорузло… Словом, сударь…
– Словом, Планше?
– Да вот… – протянул лавочник, потирая руки.
Д’Артаньян положил ногу на ногу.
– Планше, друг мой, вы меня огорошили. Вы предстаете предо мной в совершенно новом свете.
Планше, польщенный в высшей степени, продолжал потирать руки с такой силой, словно хотел стянуть с них кожу.
– Значит, оттого, что я простой человек, вы считали меня болваном?
– Браво, Планше, превосходное рассуждение.
– Извольте следить за моей мыслью, сударь. Я сказал, – продолжал Планше, – что без наслаждений нет счастья на земле…
– Ты абсолютно прав, Планше! – перебил его д’Артаньян.
– …Но так как наслаждения – вещь далеко уж не такая обыкновенная, то ограничимся утешениями.
– И ты утешаешься?
– Именно.
– Расскажи мне, как ты утешаешься.
– Вступая в бой со скукой, я надеваю против нее броню. Сначала я терплю, сколько хватает сил, но накануне того дня, когда мне кажется, что я начну скучать, я развлекаюсь.
– И это вся твоя мудрость?
– Вся.
– Ты сам придумал это?
– Сам.
– Чудесно.
– Что вы скажете по этому поводу?
– Скажу, что ни одна философия в мире не сравнится с твоей.
– Так последуйте моему примеру!
– Соблазнительно. Лучшего я не хотел бы; но не все люди одинаковы, и очень может быть, если бы я стал развлекаться, как ты советуешь, я страшно заскучал бы.
– Сначала попробуйте.
– Как же ты развлекаешься? Расскажи.
– Вы заметили, что я по временам уезжаю?
– Дорогой Планше, понимаешь, когда люди видятся почти каждый день и один исчезает, то это очень ощутимо для другого. Разве тебя не беспокоит мое отсутствие, когда я уезжаю из Парижа по делам?
– Еще бы, я тогда словно тело без души.
– Итак, у нас на этот счет нет разногласий. Продолжай!
– А вы обратили внимание, когда я уезжаю?
– Пятнадцатого и тридцатого чиcла каждого месяца.
– И отсутствую?..
– Иногда два, иногда три, иногда четыре дня.
– Что же, по-вашему, я делаю?
– Собираешь деньги.
– И какое у меня, по-вашему, лицо, когда я возвращаюсь?
– Очень довольное.
– Значит, вы заметили, когда я бываю очень доволен. И чему вы приписываете мое хорошее настроение?
– Тому, что твоя торговля шла хорошо; тому, что ты выгодно закупил рис, сливы, сахар, сушеные груши и патоку. У тебя всегда был очень живой характер, Планше, поэтому я нисколько не удивился, узнав, что ты занялся бакалейной торговлей. Ведь это самая живая и самая приятная торговля, и, занимаясь ею, постоянно имеешь дело с самыми ароматными плодами земли.
– Хорошо сказано, сударь. Но вы ошибаетесь!
– Неужели ошибаюсь?
– Да, предполагая, что каждые две недели я уезжаю за деньгами или за покупками. Бог с вами, сударь, как вы могли подумать о таком!
И Планше так расхохотался, что у д’Артаньяна зародились большие сомнения насчет собственной проницательности.
– Признаюсь, – улыбнулся мушкетер, – что ты гораздо хитрее, чем я считал.
– Сударь, это правда.
– Как правда?
– Вероятно, правда, раз вы говорите; но поверьте, что это нисколько не уронило вас в моих глазах.
– Я очень рад.
– Ей-богу, вы человек гениальный. Когда дело касается войны, неожиданных решений, тактики и ловких ударов… О, короли ничто рядом с вами! Но когда речь идет о душевных и телесных радостях, о сладостях жизни, если можно так выразиться, ах, сударь, гениальные люди никуда не годятся! Они – сами себе палачи.
– Ей-богу, Планше, – сказал д’Артаньян, сгоравший от любопытства, – ты меня страшно заинтриговал.
– Вам уже не так скучно, не правда ли?
– Я не скучал. Однако с тех пор, как ты начал говорить, мне стало гораздо веселее.
– Отлично для начала! Я вас вылечу, ручаюсь вам.
– Был бы очень рад.
– Давайте попробуем?
– Хоть сейчас.
– Ладно. У вас есть здесь лошади?
– Да, десять, двадцать, тридцать.
– Так много не нужно. Хватит и двух.
– Они в твоем распоряжении, Планше.
– Прекрасно, я вас увезу.
– Когда?
– Завтра.
– Куда?
– Вы хотите знать слишком много.
– Однако согласись, что мне нужно знать, куда я еду.
– Вы любите деревню?
– Не очень, Планше.
– Значит, вы любите город?
– Смотря по обстоятельствам.
– Ну, так я отвезу вас в одно место, которое наполовину город, наполовину деревня.
– Хорошо.
– И там вам будет очень весело, я в этом уверен.
– Прекрасно!
– И – о чудо! – это то самое место, откуда вы только что бежали от скуки.
– Я?
– Да, вы смертельно скучали.
– Значит, ты едешь в Фонтенбло?
– Именно в Фонтенбло.
– Боже мой, что же ты там будешь делать?
В ответ на эти слова Планше лукаво подмигнул д’Артаньяну.
– У тебя, злодей, есть там недвижимость? – продолжал мушкетер.
– О, домишко, сущая безделица! Но очень милый, честное слово.
– Я еду в твое поместье, Планше! – воскликнул д’Артаньян.
– Когда пожелаете?
– А разве мы не условились на завтра?
– Хорошо, завтра; к тому же завтра четырнадцатое число, то есть канун того дня, когда я боюсь соскучиться. Итак, решено?
– Решено.
– Вы дадите мне одну из ваших лошадей?
– Лучшую.
– Нет, я предпочел бы самую смирную; вы ведь знаете, я никогда не был хорошим наездником. А в лавке я окончательно отвык. И потом…
– Что потом?
– Потом, – продолжал Планше, снова подмигивая, – я не хочу утомляться.
– Почему? – решился спросить д’Артаньян.
– Если бы я устал, какое было бы для меня веселье!
С этими словами он поднялся с мешка кукурузы и стал потягиваться, довольно музыкально похрустывая всеми суставами.
– Планше! Планше! – воскликнул д’Артаньян. – Я считаю, что сибаритам[10] не угнаться за тобой! Ах, Планше! Видно, что мы еще не съели вместе пуда соли.
– Почему же это, сударь?
– Да ведь я еще не знаю тебя, – сказал д’Артаньян, – и теперь окончательно утверждаюсь в мысли, которая однажды мелькнула у меня в Булони, когда ты чуть не задушил Любена, лакея господина де Варда. Планше, твоя изобретательность неистощима.
Планше самодовольно засмеялся, пожелал мушкетеру спокойной ночи и спустился в комнату за лавкой, которая служила ему спальней.
Д’Артаньян снова сел в прежней позе, и его лицо, на мгновение прояснившееся, стало еще более задумчивым. Он уже позабыл о сумасбродных идеях Планше.
«Да, – сказал он себе, возвращаясь к мыслям, прерванным только что изложенным приятным разговором. – Надо разобраться в следующем: 1) узнать, чего Безмо хотел от Арамиса; 2) узнать, почему нет вестей от Арамиса; 3) узнать, где Портос. Тут скрыта какая-то тайна. И, – продолжал д’Артаньян, – раз друзья ничего не сообщают мне, обратимся к помощи нашего бедного умишка. Сделаем все, что можно, черт побери, или ”Малага!”, как говорит Планше».
9
Эпикуреец – человек, выше всего ставящий личные удовольствия и чувственные наслаждения.
10
Сибарит – изнеженный, праздный, избалованный роскошью человек.