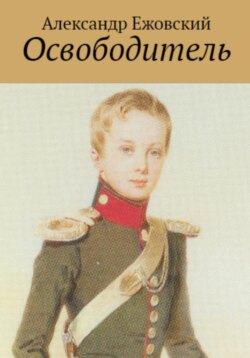Читать книгу Освободитель - Александр Ежовский - Страница 2
Пролог
ОглавлениеПулково даже в июле встречает неизменным дождём. Давненько я в Питере не был. Крайний раз лет семь назад, и то по делам. Теперь же свободен как птица. Сказать, что ты и в пятьдесят остался лёгким на подъем уже сложно, но пока храбрюсь. И пусть живот давно обогнал по весу мой неизменный «тревожный чемоданчик», но я в любое время готов вспомнить молодость и, махнув на всё рукой, забуриться в один из уголков нашей необъятной. Заграницы с ихним «олл инклюзив» уже давно приелись. Хорошо там, где тебя ждут. А друзья ждут всегда. Среди моих есть и такие, что ждать никак не согласные. Один из них меня в ультимативном порядке и выдернул. После сообщения от Макса: «не прилетишь – удалю из телефона» пришлось заказывать билеты. Курсантская дружба – это святое. Главное, чтобы здоровья хватило.
Питерская культурная программа началась с неумеренных дегустаций заморских коньяков и закусок от шеф-повара. Но всё плохое когда-нибудь заканчивается, и люди идут за водкой. А дальше всё по накатанной: варятся пельмешки, протирается и настраивается гитара, и «пусть весь мир подождёт». Но мир в последнее время стал жутко нетерпеливым, и как бы Макс ни упирался, на третий день ему пришлось приводить себя в порядок и ехать в офис, а у меня образовался внеплановый выходной. Сотканный из похмелья, любимых песен и юношеских воспоминаний флёр ещё плотно окутывал голову и я, как помилованный декабрист, помчался под ласковое июльское солнышко Северной Пальмиры отрываться за все семь лет своей сибирской ссылки.
Питер. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Не в обиду москвичам, но в первопрестольной у меня возникает стойкое ощущение будто ты в гостях у мачехи-иностранки. Кругом всё какое-то неродное, неправильное, даже Кремль не спасает. А Питер – наш. И для меня это до сих пор феномен. Ведь построен считай одними иностранцами по чёткому плану, что абсолютно не стыкуется с представлениями о русском городе, а вот душа в нём русская, монументальная. И маты в пробках такие же – каждое редкостное слово как свая из лиственницы. Понятно, что Пётр, когда улицы чертил, об автокредитах с ипотекой не думал, и форточка явно узковатой получилась, не разгуляешься. Разве что пешком.
А пешочком уже тяжко. «Было время, я шёл тридцать восемь узлов». Спасибо Александру Яковлевичу, что у него на каждый питерский угол по песне, а то бы я давно сдулся. А так, мурлыкая себе под нос его нетленные творения, я почти откатал обязательную программу под названием «От Исакия до Спаса» с небольшими лирическими отступлениями. С этими соборами у меня сложились особые отношения. Иначе как энергетикой я это назвать не могу. Меня просто тянет к ним, и каждый раз именно в этой последовательности. От византийского Исакия к русскому Спасу. То бишь не «из варяг в греки», а наоборот. Может, дело в моей четвертинке греческой крови? Ну да это и неважно. Главное, что после такого «крестного хода» ощущения как после крещенской проруби: чистота и внутреннее равновесие.
У меня никогда не получалось замерить на каком расстоянии от Спаса начинает захватывать дух. Оно как-то раз – и всё. Вроде тот же канал, те же купола и стены, а сердце застучало, глаза заслезились, «Иже еси на небеси» само собой в голове шепчется и правая рука ко лбу тянется. Это ещё один из моих питерских феноменов, потому что не люблю я храмы, особенно новоделы. Чем-то они мне унылые сетевые магазинчики напоминают. Было у меня время, когда жутко хотелось со Всевышним парой ласковых обмолвиться. Долго я его искал, и нашёл только здесь. Но к тому моменту уже и сам всё понял, так что осталось лишь поблагодарить за урок и терпение. Умные люди ещё московский собор Василия Блаженного со Спасом на Крови сравнивают, дескать, стиль и архитектура идентичные, но сколько я ни пробовал – так как тут не работает. Значит, не архитектурой единой. Может, поэтому вокруг Спаса столько мифов и легенд крутится.
Возвышенные и не очень мысли перебивает щебет благообразной девушки-экскурсовода. Остановив раскинутыми в стороны руками свою стайку туристов, она вещает им о трагической гибели Александра II, о высоте куполов согласно дате смерти и годам жизни русского императора, и о двадцати гранитных табличках с его деяниями в основании храма. Да, нумерология – наше всё. При упоминании о Спасе редко кто не вспомнит о таинственной храмовой иконе, на которой якобы зашифрованы все переломные моменты в истории России: тысяча девятьсот семнадцатый, сорок первый, пятьдесят третий, и что кроме этих дат там уже проступают пока нечёткие, но следующие цифры грядущих глобальных перемен. Оно и понятно: такой глобальной стране без глобальных перемен никак нельзя. А я вот ни сегодняшнее число, ни день недели не помню. И как-то хорошо от этого. Свободно. На подходе ещё три туристических стада. Надо успеть зайти внутрь, пока они все туда не ломанулись – не люблю толкаться.
Перекрестившись на вход, медленно захожу под своды, чтобы просмаковать уже совершенно иные ощущения. Мне приходилось бывать во многих храмах и соборах, но так накрывает только здесь. Я долго подбирал определение для этого чувства, и получилась «кровная забота». Мозаичные купол и стены не давят, а именно обволакивают как ласковые материнские или бабушкины руки. Если снаружи хочется вознестись над куполами, то внутри возникает желание свернуться в позу эмбриона и прилечь, погрузившись в чувство полной защищённости, ласки и свободы. От осознания, что сделай я так, и меня тут же заберут в отделение, а то и куда поглубже, становится обидно. Не должно быть в храме условностей. Приличия – да, а вот как общаться с богом каждый сам для себя решает, и посредники в этом только помеха.
Поразмышляв у алтаря, двинулся к накрытому сенью куску мостовой, где пролилась кровь убиенного императора. Тёзка мой – Александр, сделал, конечно, много полезного – русские зазря приличные прозвища царям не раздают. Крепостное право отменил, кучу реформ провёл. Только куда денешься, когда кругом капитализм цветёт и паровозы бегают, а у тебя феодализм на бурлачной тяге загибается. Папка евонный, Николай Палкин – тот до последнего упирался, пока ему лаймы с лягушатниками не показали кто в доме хозяин. Так и умер, не пережив крымской оплеухи. А вот сын его даже до конституции дорос, но говорят, самый чуток не успел. На бомбическую народную волю нарвался. Вот всегда у нас так: чуток не успели, чуток проглядели, чуток приворовали, а в масштабе страны выходит перманентная жопа с ядрёной бомбой в руках. Картечью или дубиной по толпе – оно завсегда проще. А народ у нас отходчивый. Могут, конечно, и грохнуть сгоряча, но потом обязательно в страстотерпцы запишут. Только мне этих Романовых ничуть не жаль. Сидели на троне, боясь своей венценосной задницей пошевелить. Им на герб смело можно девиз лепить: «Зачем делать в России, если за границей сделают лучше». Вот те и делали. А мы в итоге полста лет на Кавказе провоевали, Крымскую, Японскую и первую мировую слили, Аляску за бесценок продали, чтоб великим князьям на дворцы и подарки для балеринок хватало. Устроили себе из театров личные бордели, царские дети.
Что-то меня аж замутило от негодования. Надо бы на воздух выйти. И завтра поменьше пить. Откуда капает? Я задрал голову и столкнулся с укоризненным взглядом больших бездонных глаз под куполом. Голубой свод сиял чистотой, а во рту появился металлический привкус. Я наклонился и подставил под нос ладошку. Кап – и во впадине заплескалось красное озерцо. Глянул вниз: по носкам кремовых мокасин расплывались бурые пятна крови. Этого только не хватало! Ещё и дикая боль в затылке. Потянувшись в карман за платком, я неожиданно потерял равновесие и начал валиться вправо. Красный ковёр рванулся навстречу и, вздрогнув, застыл прямо перед глазами. «Как занавес» – подумал я и отключился.