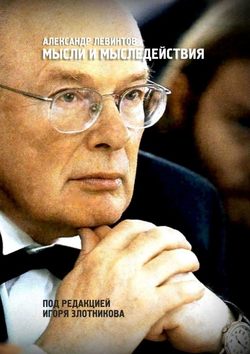Читать книгу Мысли и мыследействия. Под редакцией Игоря Злотникова - Владимир Николаевич Смотров, Александр Евгеньевич Левинтов, Александр Голованов - Страница 9
Часть I. Работы разных лет
I. О понимании и понятиях
О понимании и понятии применительно
к социальному исследованию
ОглавлениеЗнания и понимание в социальных исследованиях и разработках: экспертиза и мониторинг
Организация социально-экологического мониторинга (СЭМ)
Герменевтический круг понимания
Понимание и коммуникация
Понимание и понятие
Знания и понимание в социальных исследованиях и разработках: экспертиза и мониторинг
Я бы хотел рассказать о том, что в ряде, если не большинстве социальных исследований и разработок нужны не только и даже не столько знания, сколько понимание. Так, в частности, любая экспертиза строится, прежде всего, на знаниях, а мониторинг – на понимании ситуации.
Вот характерный случай, имевший место в самом начале 90-х годов и демонстрирующий необходимость понимания.
Организация социально-экологического мониторинга (СЭМ)
Во второй половине 80-х Гидропроект приступил к строительству Катунской ГЭС в Горном Алтае, что вызвало мощную волну экологического протеста по всей стране. Больше всех почему-то волновались и возмущались киевляне. Прошло несколько громких экспертиз и митингов – ситуация зашла в тупик.
И тогда ГИП Катунской ГЭС пригласил меня как руководителя Лаборатории региональных исследований и муниципальных программ:
– не могли бы вы установить по поводу Катунской ГЭС социально-экологический мониторинг?
– а что это такое?
– знал бы – сам установил.
Я почитал после этой первой встречи американские и канадские материалы о социально-экологическом мониторинге, понял, что у нас их опыт принципиально не применим, и подписал контракт на разработку и внедрение СЭМ Горного Алтая.
Это было ранней осенью. И до поздней весны мы вели напряжённый семинар по этой теме.
Сначала мы долго разрабатывали понятие «человек» и построили такую схему:
Человек – это существо, живущее в разных мирах (ценозах) (мы набрали 17 таких миров), при этом ни один из этих миров (ценозов) не является ведущим и ни один из них не может быть заменен другим. Мониторинг устанавливается реперной группой в несколько человек по каждому из ценозов по всей территории Горного Алтая, а не только по верхнему и нижнему бьефу будущей ГЭС.
Мы разработали критерии и показатели деградации каждого ценоза, включая уровень необратимой деградации, означающей не только гибель данного ценоза, но и всех сред существования человека, а, следовательно, и самого человека.
Это означает основной экологический принцип мониторинга: следить надо не за плотиной, водохранилищем и другими техно-природными объектами: на то есть сейсмический, биологический, гидрологический и прочие мониторинги, а за человеком и средой его существования. Каждый репер должен быть мобилизован на сложную интеллектуальную работу – рефлексивное понимание.
Но: одно дело – схема мониторинга, и совсем другое – организация его запуска.
Мы поняли две вещи:
– первое: необходимо собрать все социально значимые группы, участвующие в конфликте: гидропроектировщиков, гидростроителей, представителей местной власти, протестную общественность, местные и центральные СМИ, экологов
– второе: нам, как организаторам, ни в коем случае нельзя принимать ту или иную враждующую сторону, чтобы не потерять доверия другой стороны.
Для некоторых членов нашей команды второе стало невыносимо, и они вышли из состава разработчиков. Я понимал, что для них это было тяжелое решение. Дело не в том, что они теряли гонорар, в то время явление редкое, главное – они надолго теряли контакт с нами.
Для организации мониторинга мы воспользовались схемой советско-американского психолога Владимира Лефевра о «точке шока».
Байка Лефевра такова:
Человек получил приговор и утром следующего дня должен быть казнен. За пределами тюрьмы у него есть друг, который готов помочь ему прорыть туннель под стеной тюрьмы. Но спасение возможно, только если они будут рыть навстречу друг другу, не имея контакта между собой. В плане тюрьма имеет такую конфигурацию:
Точка шока является общей и для приговорённого и для его сообщника.
Только после всего этого мы отправились всей командой в экспедицию по Горному Алтаю. Мы посещали интересующие нас объекты, уточняли свои ценозы и критерии их деградации. Я, например, как разработчик некроценоза, изучал кладбища и понял две интересные вещи:
– средний возраст покойников здесь значительно больше, чем на московских кладбищах (соответственно 51 и 43 года), но унизительно мал для этого благодатнейшего и экологически чистого края
– за три года соотношение звезд и крестов на могилах сменилось с 9:1 на 1:9 – в христианизации страны передовой отряд составили мертвецы.
Но главное – мы много ездили по стране. Надо сказать, что горноалтайцы – номады, и каждое путешествие по этой достаточно компактной стране может длиться непредсказуемо долго, по нескольку дней на расстояние в несколько сот километров. Мы сажали в свой потрёпанный «козлик» всех попутчиков и вели с ними долгие беседы и разговоры «за жизнь», превращая этот трёп в глубинные интервью. В ходе интервью и визитов мы понемногу рекрутировали реперов СЭМ. Главное, что я понял из этих разговоров: каждый по своему прав и по-своему понимает ситуацию, исходя из личного опыта. Проблема не в том, что кто-то что-то не понимает: понимают все и всё. Но нет общих оснований понимания. И в этом – коренное отличие эмпирического и культурологического пониманий. Кроме того, эмпирическое понимание достаточно плоско, поскольку опыт каждого человека весьма ограничен, а культурологическое – принципиально бездонно и бесконечно.