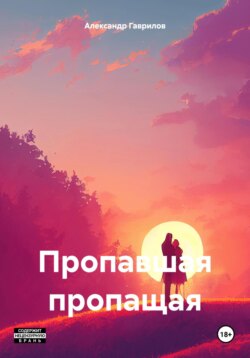Читать книгу Пропавшая пропащая - Александр Гаврилов - Страница 2
2
ОглавлениеВ картузе, телогрейке и валенках дед Тимофей восседал на завалинке чуть не по окна осевшей в землю избушки. Лёшка стоял на обочине дороги и смотрел на рот старца. Уж больно ему хотелось взглянуть на волшебную лягву, которую, как было известно, дед проглотил, чтобы никогда не умирать (и, правда, не умирал). Вот Лёшка и караулил, выжидал момент – может, зевнёт старик или чихнуть захочет, а жаба тут как тут – тоже, небось, ждёт не дождётся…
Так и не открыв рта, Тимофей заклубился дымом и пропал вместе с избушкой. Его сменил Сашка Смирнов, товарищ детских игр, который, по слухам, томился в очереди в «Форбс», жил то ли в Германии, то ли в Америке и в Соломенцах не появлялся уже лет пятнадцать. Сашка щурился слезливо (похоже, пьян) и говорил: «Может, выпьешь стопочку, а, старичок?.. Глядишь, и полегчает…» Он приподнимал голову Квашнина с подушки и пытался влить в него отвратительно пахнущую жидкость. Пощипывая потрескавшиеся губы, жидкость скатывалась по подбородку. «Сашка, отстань ты от меня Христа ради…» – просил Квашнин, но скоро понимал, что не говорит, а просто шевелит губами.
После Смирнова являлась тётя Катя Мишинкина, одинокая хромая вдова, над которой Квашнин ещё подростком «взял шефство» – помогал ей по хозяйству. Что-то неразборчиво шепелявя, старуха поправляла ему подушку и – оборачивалась могучей усатой женщиной в белом халате. Усатая богатырша вертела Квашнина как куклу и больно колола в зад.
Прошли сутки, как Квашнин впал в беспамятство. Вышло так: по приезду в Соломенцы он натаскал в избу воды, затопил печь и занялся стёклами (разбитым оказалось только одно стекло в сегменте наружной рамы). Закончив с этим, принялся за приборку. Потом заварил чай и сел у окна. Решал: идти к Лене или не идти.
От размышлений его отвлёк Женька Виртанен, друг детства, наезжавший временами из районного центра. Принёс бутылку водки. Пожалуй, Квашнин отказался бы от выпивки – даже наверняка отказался бы – приди кто другой, но с Женькой, кудрявым весельчаком и рубахой парнем, не выпить было грешно. Выпили бутылку, и так стало Квашнину уютно, тепло на душе, что в обход своего правила придерживаться нормы, он полез в подпол за заначкой. А когда ополовинили вторую бутылку, оба, почти синхронно, уткнулись в окна: мимо дома проходила ладная, пригожая молодуха. Евгений стукнул в стекло; девушка взглянула, улыбнулась и – свернула к крыльцу. Через минуту Ксюша – так представилась гостья – сидела за столом.
Только подняли стаканчики «за знакомство», как за окном промелькнули тени. «А вот и мои идут!» – пискнула девица. Когда «мои» зашли в дом, Квашнин про себя выматерился: это были Худяки – мерзопакостнейшая семейка, а лучше сказать, шайка под водительством известного на всю округу пропойцы и вора Константина Худякова. Тут Квашнин и Ксюшу узнал запоздало, вспомнил: видел её, когда она была ещё замарашкой-подростком.
Вот таких гостей накликал милейший финн. Накликал и вскоре смылся, прихватив с собой девку. Продолжать посиделки с Худяковым Квашнин, хоть и был пьян, не стал бы – брезговал. Но глядя на Елизавету, мать Ксюши, которую помнил ещё по школе, размягчел, повёл беседу. Пили принесённый гостями медицинский – по их заверениям – спирт, пока не стемнело. Как расходились, Квашнин уже не помнил. Проснулся под утро и сразу понял: дело плохо. В темноте, зная по опыту, что свет будет непереносим, доковылял до ведра с водой, выпил, не отрываясь, литровую кружку. Вода показалась тёплой, противной. Собрался с силами и отправился к колодцу. На обратной дороге, в сенях, хлопнул по лбу: телефон, деньги, – всё упёрли сучье отродье! Наверняка упёрли! Пошарил по карманам – всё на месте. Не иначе как чудом пронесло. Позвонил Вере, потом на работу. И там и там предупредил, что задержится, приболел, мол.
Всё утро, весь день и всю ночь Квашнин тушил горящее нутро ледяной водой, но вода вылетала обратно. Тошнота отпускала только во время сна. Спал всё дольше, видения детства сменились бредом. Он блуждал по ломким, обесцвеченным от зноя местам под перекрёстным огнём сразу двух светил: одно солнце палило с неба, другое – жгло изнутри. Всплывающие картинки прошлой жизни желтели по краям, сворачивались в комки и, испустив язычок пламени, рассыпались прахом. Квашнин чувствовал, что и сам он желтеет, скукоживается и готов был окончательно испепелиться, как вдруг – прикосновение: влажное, прохладное, живительное. Ко лбу и губам. Он очнулся, открыл глаза, и увидел Богородицу: склонённая к плечу голова, абрис лица, глаза – всё как на образах, только взгляд живой – с бликами от близких слёз. И столько в этом взгляде было сострадания и любви, что Квашнин заплакал и сказал, вернее, отстукал языком-деревяшкой: «Матушка, спасибо тебе…» – «Спи, миленький, засыпай», – сказала Богородица голосом Лены. И он уснул – крепко, без сновидений.
Проснулся от шума – кто-то возился у печки. По шепелявому бормотанью Квашнин узнал тётю Катю Мишинкину. Лежал, морщил лоб: пытался сообразить, сколько времени он провалялся. Не сообразил и спросил у старухи. «Оклемался, слава те господи… – заморгала тётя Катя. – Вторник сегодня. Я ить и не знала, что ты тут свалился. Ладно Сашка Смирнов зашёл, сказал. Он и за фельдшерицей сходил. Ругался с ней: как хочешь, говорит, в больницу его вези. Да ей что: хоть ссы в глаза – всё божья роса. Нет, говорит, мест и всё тут…»
Поблагодарив тётю Катю за заботу и, особенно за прохладные компрессы (помогли, мол), Квашнин спросил, не навещал ли его ещё кто, не считая Смирнова? От компрессов старушка открестилась: примочками, дескать, нутряную хворь не вылечишь. Никаких других посетителей кроме Смирнова и медички она не видела.
Тётя Катя затопила печь и, пригласив Квашнина пообедать, ушла. Он поднялся. Посуда после пьянки убрана, на столе блюдо с водой и аккуратно сложенное вафельное полотенце. Квашнин дотронулся – влажное. Значит, всё-таки не ошибся – были компрессы. Неужели Лена заходила?
Он оделся, вышел на улицу. Постоял у крыльца, глянул в небо: хмарь… Заулком прошёл в припорошённый снегом сад, остановился у колодца. Потрогал позеленевший ворот; вспомнил как в юности, возвращаясь с гулянья, шёл меж цветущих яблонь к колодцу, пил, а в ведре покачивались белые лепестки…
Затопил баню. Печка покапризничала, откашливая из устья дым, потом загудела исправно. Присев в предбаннике у окошечка, Квашнин призадумался: была Лена или приснилась? Если не приснилась – уехать её не повидав, никак нельзя. Последние год – два казалось, что редкие его визиты её раздражают, что терпит она его только из деликатности, в память о прежней дружбе. И вдруг (если не приснилось) такой взгляд. Только однажды она так на него смотрела – давно, в детстве. Как-то в середине лета – Квашнин уж и не помнил к кому и зачем – он пришёл в Плотниково. И ему крикнули: беги, мол, невесту свою спасай – тонет на пруду. Крикнули-то смехом, но Квашнин, не разобравшись, припустил бегом (пруд был за околицей). Бежал и ругал себя за паникёрство: пруд невелик, а Лена – ей тогда было лет десять – неплохо плавала (сам учил). Добежал. На крохотном накренившемся посреди пруда плотике Лена утешала хнычущую подружку, которая, как видно, плавать не умела. Квашнин разделся до трусов, подплыл и отбуксировал плотик к берегу, но уже на выходе из воды напоролся ногой на стекло. Кровь шла волной, пришлось порвать футболку и бинтовать. Пока он этим занимался, Лена, присев рядом на корточки, поглаживала его по спине. Вот тогда она так на него смотрела – сияла сквозь слёзы, точно расплакаться хотела, и запеть одновременно. Смутила его. И он послал её поискать какую-нибудь палку, чтобы опираться при ходьбе.
Не только влюблённый взгляд Лены смутил тогда Квашнина – прикосновение её ладошки. Вдруг кольнула его иголочка вожделения, да так остро, так явственно, что, растерявшись от подлого фортеля организма, он едва не потянулся к причинному месту, чтоб прикрыть. Вовремя опомнился и ошарашенный, оглушённый стыдом замер. Кое-как сообразил отослать девчонку за палкой. И ковыляя в свои Соломенцы, весь исплевался: «Сука! Урод! Извращенец проклятый!..» – шипел он, выпячивая челюсть. Так с тех пор, при малейшем намёке на подобный позыв (Лена-то подрастала), Квашнин и выпячивал челюсть, ярился, негодуя на плоть, и воли себе не давал. И давно уже Лена выросла, а ему всё слышался писк необъяснимого зуммера, как бы предупреждающего о недопустимости инцеста, точно и вправду она была его маленькой сестрёнкой.
Решился: позвонил на работу и, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, попросил отпуск. Для Веры вариант с форс-мажором не годился. Пришлось врать: сказал, что выздоровел, но должен задержаться из-за судебного разбирательства по поводу земельного участка (вспомнилось на счастье что-то подобное). Уладив с Верой, вздохнул свободнее и уже в сумерках отправился к Смирнову.
Тот одевался в прихожей. «Дружище! Выздоровел?.. А я как раз к тебе собирался. Проходи, я сейчас, мигом…» – захлопотал бизнесмен. Первым делом взялся за бутылку (видно, что под хмельком). Квашнин пить отказался, попросил чая. Сидели: хозяин пил водку, гость – чай. Высокий, атлетичный, красивый Александр рассопливился: «Ты не представляешь, старичок, как подло всё… Только и слышишь – дай, дай, дай! Домой придёшь – и там тоже дай! К чёрту всё: разведусь, бизнес продам, буду просто жить – вот как сейчас…» – грозился он. О многом ещё говорил богач-горемыка, не забывая опрокидывать стопки. Говорил, что нашёл здесь обронённую в детстве душу; говорил о Боге, до которого тут рукой подать, но который почему-то не спешит выказывать ему, несчастному, своего благоволения.
Квашнин слушал, однако сочувствовать не спешил. Звякнут завтра – и умчится, чтоб очередь к «Форбсу» не проворонить. Хотя, кто его знает: чужая душа – потёмки. Собравшись уходить, он поблагодарил Смирнова за медичку и за компрессы.
– Да брось, старичок, мы же как братья… – сказал тот и добавил: – А компрессами я, кажется, не занимался. Тётя Катя, наверное, позаботилась. Прекраснейшей души человечек, согласись, брат…
– А больше никто ко мне не заходил?
Смирнов ответил – снова прибавив «кажется», – что кроме тёти Кати он никого не видел. Квашнин попрощался и вышел. Постоял у крыльца, глядя на редкие огоньки Плотниково, подумал и двинулся к большаку.
Одиннадцатый час вечера; Плотниково в дрёме. Светящихся окон по пальцам перечесть, на улице – ни души. Пенсионеры и фермеры ложатся рано. Пустынной улицей Квашнин дошагал до дома Лены. Окна тёмные; на снегу – у калитки и за ней – ни следа. На двери замок. Минуту Квашнин прислушивался, не долетят ли откуда звуки хмельной пирушки, однако было тихо. Двинулся дальше. Остановился у ветхого двухэтажного коттеджа, подёргал дверь – заперто. Постучал. Через пару минут послышались шаги. «Кто?» – едва слышно спросили из-за двери. «Я это – Лёха», – сказал Квашнин.