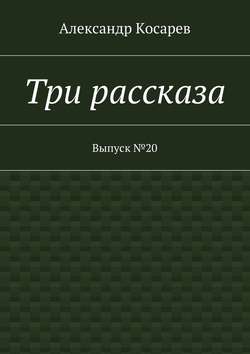Читать книгу Три рассказа. Выпуск №20 - Александр Григорьевич Косарев - Страница 2
Золотая, золотая, золотая Сечь
ОглавлениеКак во всякой приличной организации в нашей маленькой компании вольных кладоискателей тоже бывают ежегодные собрания. Пьём чай, вспоминаем былые походы, распределяем дивиденды и намечаем планы на будущее. Во время одной из таких посиделок кем-то и был поднят вопрос о «Кладе Запорожской Сечи». Даже не то чтобы поднят, скорее слегка обозначен. Упомянут в длинном списке незавершённых дел и тех полумифических объектов, само существование которых вызывает у трезвомыслящих поисковиков сильное сомнение. Но в тот раз разговор повернулся таким образом, что все единодушно сошлись на той идее, что в первый же большой выезд на юг, есть смысл уделить некоторое время именно этой теме. Дело в том, что впервые за долгое время было решено отправиться в Краснодарский край и Астраханскую область, чтобы проверить некоторые давно накопившиеся идеи.
Но понятно, что как бы мы не добирались до этих регионов, наш путь, так или иначе, пролегал бы по Ростовской области. Причем здесь Ростовская область? Какое она имеет отношение к золоту Запорожской Сечи? Сейчас расскажу и поясню.
Существует много мифов и легенд, связанных с кладами, зарытыми на просторах Ростовской области. Люди в надежде разбогатеть, настойчиво ищут их, изучают легенды, исторические факты и ветхие от времени карты. Известно несколько довольно крупных кладов Донской земли, но кажется, их до сих пор всё ещё не нашли. А первый, и, пожалуй, самый известный из них это «Клад Запорожской Сечи» (казна Запорожской Сечи). Усреднённая легенда (почерпнутая из разных источников) так повествует об этом историческом эпизоде: «Давно Запорожских казаков притесняли с одной стороны Польские рыцари, а с другой великая Российская держава. Когда в 1775 году Екатерина вторая своим указом закрыла вольницу Запорожской Сечи, одни казаки приняли её решение согласием, другие напротив, пошли против самодержавной власти. В надежде создать на иноземных землях свою новую вольную республику, они отправили два обоза гружённые драгоценностями (золотыми монетами, драгоценными камнями и пр.), общим весом примерно в одну тонну. Один обоз двинулся в сторону Каспийского моря, а другой отправился к Чёрному.
В каждом обозе перевозилось по 32 бочонка, залитых сверху смолой. Но один обоз, тот, что двигался на Донскую землю (к Каспию) был загружен дукатами (серебряные и золотые монеты), итальянскими цехинами (золотая монета весом в 3,5 гр.), всевозможными драгоценностями с камнями, военными трофеями и прочими высоколиквидными ценностями. Обоз бдительно охраняли молодые казаки с военным опытом, готовые в любую минуту защитить сокровища. А вот второй обоз двигался вполне отрыто, не придерживаясь какого-либо строгого маршрута, поскольку перевозил в очень похожих бочонках лишь песок да камни, так как приставленные к телегам казаки старались таким маневром отвлечь внимание дозорных Российской армии.
В конечном счёте, ложный обоз, ну конечно же, попался в лапы конных патрулей, предусмотрительно высланных князем Г. А. Потёмкиным по всем проезжим дорогам. Его разоружили и вроде как даже направили в Санкт-Петербург, дабы продемонстрировать ценный трофей Екатерине II. Ложный обоз, таким образом, свою задачу выполнил с блеском, приняв на себя основной удар преследователей. Но, что же сталось со вторым, настоящим обозом? Куда делась реальная казна? По стечению обстоятельств и он не дошёл до конечной цели. Запорожцы не получили поддержки Донских казаков и были вынуждены прятаться по балкам и буеракам. В конце концов, после ряда мелких стычек их осталось очень мало, и они спрятали казну Запорожской Сечи на донской земле, предположительно не так далеко от Ростова. Но вот где именно находится место упокоения клада запорожских казаков и поныне никому не известно…».
Само собой столь качественно слепленная легенда не могла остаться незамеченной. Многочисленные кладоискатели искали казну Сечи в ростовских катакомбах, в балке Сухой Чалтырь, где нашли останки волов с украинской упряжью. В конце девятнадцатого века предприимчивые кладоискатели даже создали акционерное общество, нацеленное на поиск утраченного сокровища. Они подробно изучили исторические факты и даже нашли некую указующую карту у монахов из Ростовской Нахичевани. Монахи срисовали её с татуировки на теле одного мастерового пришельца из Крыма, после его трагической смерти. Это был (вроде как) один из выживших казаков, зарывавших Запорожскую казну.
Как говорится в очередной легенде, члены акционерного общества смогли разгадать тайну карты, но помешали перемены, пришедшие на территорию Российской Империи (сначала случилась Первая мировая война, а следом пришли революция и гражданская война). Именно во время гражданской войны карту увезли за границу, а в 1942 году, во время оккупации Ростова, немецкий патруль задержал подозрительных румынских солдат с украденным металлоискателем. При них обнаружили карту в виде бумажной женщины с татуировками. Румынских солдат немцы за воровство расстреляли, но русские подпольщики, среди которых был краевед-патриот, успели заменить подлинник подделкой (мы балдеем). По одной версии теперь данная карта находится в Ростовской области на руках у этого человека (местного краеведа), но он никому ничего не говорит о ней и даже не показывает, охраняя тайну от посторонних. По второй версии она хранится в частной коллекции некоего жителя Ростова.
Посмотреть со стороны та эту историю – просто классика жанра! Тут тебе и коварные властители, замышляющие недоброе против свободолюбивого украинского казачества. Здесь и царские сатрапы, попавшиеся на хитрость всё того же казачества. Отважные воины, спасающие народное добро, секретный маршрут тайного обоза, таинственный казак с татуированной шкурой, спрятанные и многократно перепрятанные наидостовернейшие карты с указанием места заложения аж 1000 килограммового клада…! Эх, не нашлось на столь роскошный сюжет своего Роберта Л. Стивенсона, а то он точно бы написал продолжение своего неподражаемого «Острова сокровищ». Наверняка и название бы придумал что-то вроде «Секретные тачки в степях Украины».
Да, собственно говоря, дело даже и не в названии, как таковом, а в той исконно народной сказочности, которую безвестные создатели данного повествования не пожалели, при создании этого нетленного шедевра. То-то кладоискатели всех мастей так живо откликнулись на него, то-то перекопали все окрестности г. Ростова, да и не только их. В общем, настал наш черёд, чтобы наконец-то однозначно отделить зёрна от плевел в этом полуфантастическом сюжете.
Прежде всего, следовало понять, а была ли вообще у Войска Запорожского возможность скопить тонну ценностей на «чёрный день»? Не будем забывать о том, что «Запорожские казаки» это часть украинских казаков, первоначально, днепровские казаки, создавшие в XV – XVI вв. целый ряд стихийных военных организаций и укрепленных поселений за днепровскими порогами. На какое-то время они оказались вне зоны административной юрисдикции каких бы то ни было государств. Постепенно отдельные отряды объединились в централизованную военную организацию – Войско Запорожское, получившее своё наименование по названию региона проживания и расположения главного военного укрепления (и штаб-квартиры), именуемого «сечь».
После восстания Богдана Хмельницкого в 1648 году и перехода под контроль Войска Запорожского и власть запорожского гетмана территорий Речи Посполитой, располагавшихся на землях современной Северной и Центральной Украины (официально именуемой «Войско Запорожское», а после присяги на Переяславской раде в 1654 году и вхождения Войска Запорожского на правах автономии в состав Русского царства – «Малой Русью»). В Российской Империи они официально именовались «малороссийскими казаками». Примерно к этому же периоду относится первое письменное упоминание о создании в низовьях Днепра укрепленного казацкого лагеря (Сечи), оставленное польским хронистом Мартином Бельским. По его рассказу, казаки по Днепровским порогам летом занимались промыслами (рыболовством, охотой, пчеловодством), а зимой расходились по ближайшим городам (Киев, Черкассы и др.), оставляя в безопасном месте на острове в Коше несколько вооруженных огнестрельным оружием и пушками казаков. Рассказ Бельского о запорожцах позволяет сделать вывод, что объединение отдельных сечей в Запорожскую Сечь произошло, вероятно, где-то в 1530-х гг. К этому времени относит возникновение первой сечи и исследователь В. А. Голобуцкий. Впоследствии целый ряд «Сечей» в низовьях Днепра просуществовал до 1775 года.
Уже к началу XVI века запорожские казаки сложились в значительную военную силу, доставлявшую определенное беспокойство соседям. В 1524 году, при правлении великого князя литовского и короля польского Сигизмунда I, был выдвинут проект создания организованного казачьего войска, привлечённого на государственную службу Великому княжеству Литовскому и Русскому. Но из-за недостатка финансовых средств, проект тогда не был реализован. В 1533 г. староста черкасский и каневский, Евстафий Дашкович, предлагал устроить в низовьях Днепра за порогами постоянную стражу тысячи в две человек, но этот план также не был выполнен.
Помнили об идеях привлечения казаков на государственную службу в интересах отражения нападений с юга и в новообразованном после Люблинской унии 1569 года, польско-литовском государстве – Речи Посполитой. 2-го июня 1572 г. король Сигизмунд II Август подписал соответствующий универсал, в соответствии с которым, коронный гетман Ю. Язловецкий нанял для службы первых 300 казаков. Они давали присягу на верность королю и должны были, находясь в полной боевой готовности, отражать вторжения татар на территорию Речи Посполитой, участвовать в подавлении выступлений крестьян, восстававших против панов, и в походах на Москву и Крым.
Эти казаки были занесены в специальный список (реестр), подтверждавший их права и привилегии, связанные с их государственной службой. Из-за чего их называли «реестроевыми», т.е. переписанными. Так возникло «Войско Его Королевской Милости Запорожское». В сентябре 1578 года король Стефан Баторий издал указ под названием «Соглашение с низовцами». Количество реестровых казаков увеличивалось до 500 человек, а в 1583 – до 600. Реестровые казаки получили во владение городок Трахтемиров в Киевском воеводстве, где размещались войсковая скарбница (казна), архивы, арсенал, госпиталь, приют для бессемейных инвалидов. Король передал казакам знаки власти – клейноды (хоругвь, бунчук, булаву и войсковую печать).
То есть мы видим, что к временам правления Екатерины II всевозможные разновидности «сечей» существовали в Запорожье более 200-т лет! Они соединялись, распадались, воевали, но, тем не менее, удерживали под своей властью значительные территории, причём не только военной силой, но действуя и экономическими рычагами. Давайте рассмотрим, на чём держалась экономика казацких республик. Как и за счёт чего наполнялась военная казна Запорожской Сечи?
Финансовая система Запорожской Сечи сформировалась под влиянием польских, киевских и литовских бюджетно-фискальных институтов в Украине. В Запорожской Сечи имелся некий централизованный склад, который являлся хранилищем не только денег, но и различных ценностей, которые находились в распоряжение Коша. Сокровищница служила также архивом и составом воинских клейнодов и трофейных украшений. Она же выполняла роль центрального арсенала, где хранились боеприпасы и оружие. Данный институт функционировал и как кассовый центр, ответственный за выполнение запорожского «бюджета», т.е. как государственная казна, в которую стекались доходы и откуда производились необходимые платежи.
В служебные обязанности казначея – шафара принадлежало: Приём доходов; Выдача денег и вещей; Ведение учета кассовых сумм и материальных ценностей; Составление отчетов кошевому и казацкой Раде.
Шафар исполнял обязанности государственного казначея и интенданта. В состав скарбового старшины входили два шафари, два пидшафарии и кантаржей (хранитель мер и весов) с небольшим штатом канцеляристов. Для составления характеристики казны Запорожской Сечи рассмотрим доходные статьи бюджета, которые расходовались на оплату сечевой и паланковую администрации, церкви и школы, денежное и материальное обеспечение казацкой службы.
Главным источником доходов Запорожской Сечи, Войска Запорожского низового, кроме природного богатства большого черноземного края, были военная добыча, внутренняя и внешняя торговля, продажа вина, пошлина от товаров, подымный налог и царское жалованье.
Первым и прямым источником доходов запорожских казаков была добыча, полученная на войне с турками, татарами и поляками, Отправляясь в каждый поход, запорожцы присягали перед святым
Евангелием в том, что каждый из них не скроет ничего из военной добычи, а все добытое добро доставит в шалаш для разделения между всем обществом. Вернувшись из похода, запорожские казаки делили добычу, лошади, рогатый скот, овец. По обычаю лучшую долю добычи казаки отдавали на церковь, а ту, что оставалась, делили между собой. Одни её быстренько прогуливали до последнего гроша, а другие (более бережливые) хоронили на «черный» день.
Вторым источником доходов Войска Запорожского низового была всякого рода торговля, внутренняя и внешняя. Все торговцы, купцы и промышленники, которые вывозили и привозили на Сечь разный товар, торговали в слободах, селах и зимовках, вносили определенную плату к военной казны или полковых: от куфи муки или припасов – рубль, от рыбы, пойманной в Буге, – три первых десятки «колья» на полковника, писаря и есаула, которые были при рыбных заводах, и четыре других десятки – на сечевую старшину. Если рыба была продана или потеряна и не было выделено от ее доли для военных чинов, то с рыбаков взималась её стоимость деньгами. На всех запорожских рынках присутствовали особые начальники, военные кантаржеи, которые следили за правильностью весов и мер, назначали цену привезенный товар, собирали пошлину с торговцев в военную казну.
Особенно большую пошлину давали шинки, широко распространенные на Сечи. Будучи свободными, запорожские казаки имели право варить мед, пиво, брагу и продавать спиртные напитки. По документам архива 1770 г., во всех пределах запорожских казаков насчитывалось более 370 кабаков, которые приносили армии в целом 1120 рублей в год, в том числе от аренды обычного кабака, без погреба – 2 руб. 50 коп. А с погребом, где можно было держать пиво и мед – 4 руб. 50 коп. Это сумма распределялась на 45 паев между войском таким образом – кошевому судьи, писарь, приказчика, 38 куреням, церкви, войска, довбиша и пушкарей пополам – по 24 руб. 51 коп. Кроме того, валки, которые привозили на Сечь с Украины, Крыма, Польши белое вино или водку, также платили пошлину на церковь и старшину: на старшину с каждой куфи по рублю. Кроме денег, брали так называемое «представительное вино» – по одному ведру (которое у казаков назывался кружкой) тому, кто продавал вино или водку, или того, кто сам покупал их, – общим числом 7 ведер. Лишь тот, кто платил эту двойную пошлину, мог продавать свой товар, и то только по цене, определенной Кошем.
Весомым источником доходов запорожских казаков было также «мостовое» есть плата с проезжих купцов, торговцев, промышленников и чумаков за перевоз через реки. Запорожские казаки принимали «мостовое» от каждого воза и от всякого скота за перевоз через реки и делили эти доходы между старшиной и всем войском. Пошлина была неодинакова в разные времена.
Запорожский Кош настоятельно просил московского царя о праве получать пошлину за переправу Переволочанского на Днепре, и хотя царь Алексей Михайлович подарил в 1675 г. запорожцам особой грамотой право на половину сбора с той переправы, гетман Иван Самойлович задержал ту грамоту у себя, а при преемнике Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, совершенно лишил запорожцев права на владение Переволочанского переправой. Для сбора пошлины возле переправ существовала особая старшина, которая состояла из шафарь, подшафарь, писцов и подписарий. Трудно и даже невозможно определить с точностью всю цифру годового дохода, которую получал Запорожский Кош за перевозы через реки: это зависело от большего или меньшего движения чумаков, торговцев и купцов, в свою очередь зависело от урожая, улова рыбы, добычи соли, безопасности проездов через татарские степи и т. д.