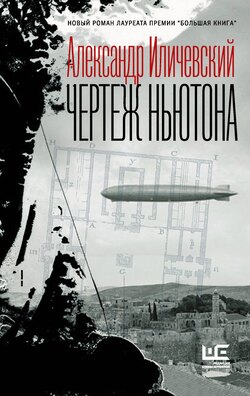Читать книгу Чертеж Ньютона - Александр Иличевский - Страница 10
Глава 9
Работа
ОглавлениеЯ все готов был стерпеть ради работы. Однажды проспал рассвет и в счастливом полусне приоткрыл глаза: в проеме ангара дышала огромная шерстяная спина с заложенными на загривок ушами-простынями. Я зажмурился и пробормотал, улыбнувшись: «Калощадка пришла», – махнул рукой, словно пытаясь погладить, но забылся, а когда снова открыл глаза, увидал, как широченная меховая спина рванула за угол ангара.
С тех пор калощадку я видел на склонах регулярно, гадая, что же она делала: паслась, слонялась, облизывая голые камни, или просто сидела там и тут – мне некогда было подолгу за ней следить. Она могла несколько часов кряду пробыть в одном и том же месте, понемногу сползая своими роговыми колесами по склону и вызывая осыпь, а то вдруг этот слоновый кролик начинал громко вздыхать, будто разгонял внутри мехи, и кидался со всего маху куда-нибудь, причем момент полета был великолепен: чудовищного объема живая масса внезапным скачком проносилась по склону, только развевались рваные кончики ушей да слышалось из-под земли идущее эхо удара.
А особа в красном появлялась вскользь, непременно в боковом поле зрения, пока я сканировал кройку; стояла скромно, прекрасное лицо ее было скрыто вуалью теней, и любая попытка обратиться к ней, даже мысленно, приводила к ее исчезновению: она пропадала, как вспархивает бабочка под протянутыми пальцами. Понемногу я привык к ней, поняв, что это один из примкнувших ко мне стражей, и, когда спускался с пирамиды и усаживался за кройку и сканирование, ждал ее появления – сначала напряженно, а потом уже слегка даже бравируя, мол, соскучился, – но все равно пугался, только меньше, ибо человек способен привыкнуть ко всему, в том числе и к рассеченной реальности.
И пусть работа спорилась, все же меня стало занимать, что происходит на станции, пока я сплю, – поскольку однажды окончательно пришлось себе признаться, что за ночь по мелочи, но неизбежно что-то меняется в обстановке: то пропадет рейсшина, то перепутана последняя кройка, то вдруг на пирамиде сдвинута кассета, даже вскрыта, но лист не убран, просто отложен в сторону, конверт с пленкой не тронут. Наконец, когда утром я не обнаружил на верстаке сканер и искал его в панике по всему ангару, а нашел только у лежанки, в ногах, спрятанный под рюкзаком, я из фотоувеличителя, выисканного в проявочной, соорудил штатив и укладывался теперь на сон грядущий под неусыпным оком видеокамеры, устанавливая ее под разными углами и в разных местах, пытаясь получить представление о ночной жизни на станции.
Несколько ночей понадобились мне, чтобы понять, что к чему. Я так изнемогал за день, осваивая верхотуру в ангаре, что едва успевал застегнуть спальник, как сон валил меня борцовски в партер небытия. И хоть и помнил я успокоительные слова Ашура, все равно после того, как утром проснулся с накопителем, зажатым в руке, мною овладела оторопь. В результате охоты за самим собой с помощью камеры стало ясно, что редкую ночь целиком я провожу на лежанке. Непременно через полтора-два часа покоя встаю, обхожу ангар, беру с верстака накопитель и с ним в руках возвращаюсь к пирамиде. Я взбираюсь на нее и затем по верхним швеллерам поднимаюсь на стропила, откуда шагаю ровнехонько под самый конек ангара, где и стою полночи. Несколько раз я слышал в записи знакомый рев, и однажды перед камерой метнулось что-то блескучее, как крылатая змея, и я сбросил все видеофайлы на ноут.
Вскоре пришлось всерьез сопротивляться погоде: облако наползло, уселось на мель на здешнем высокогорье, его клочья вползали в прорехи ангара, сбавляя видимость. Постепенно интерес мой к ночным похождениям ослаб, мне наскучило раз за разом видеть, как я прохожу на цыпочках мимо камеры, пропадаю из виду, а через некоторое время появляюсь в глубине кадра, взбираюсь на верхотуру, где простаиваю до предрассветного полумрака словно часовой. Днем в памяти вспышками возникали пугающие картины: я видел с высоты, как внизу подо мной бушевало и бесновалось крылатое существо, мельтеша потоками как будто бы зеркальных перьев, и мне непонятно было, отчего ему никак не удавалось прихватить меня своим клювом.
Однажды утром я заметил явный кавардак с кассетами. Пирамида понемногу таяла, вершина ее заострялась, становилась все меньше площадью, пустые кассеты приходилось из экономии сил складировать тут же, так что ангар внутри все больше напоминал скалистое урочище, лабиринт, в котором телу было проще ориентироваться, чем мозгу, и телесным наитием я понял, что за ночь что-то преобразилось в расположении пустых кассет, что-то произошло с их стопками, и это меня взволновало, ибо раз кто-то был способен перемешать пустые кассеты, то он же может перепутать еще не отработанные кассеты, что окажется труднопреодолимым препятствием при обработке данных.
Я отложил работу и принялся отсматривать запись. Сначала все шло как обычно: я отправился на свой пост – силуэт мой поместился в северо-восточную прореху в крыше ангара, – вскарабкался на самую макушку пирамиды и оттуда стал взбираться наверх обычным путем по стропилам, как вдруг кто-то отвернул камеру, в динамиках зашуршало чье-то прикосновение и дернувшийся кадр остановился на верстаке. Немного погодя камера задрожала от чьей-то поступи, затем промелькнул силуэт Ашура – а в замедленной съемке было ясно видно, как он летел в прыжке, занеся подобно копью свой посох. Какое-то время изображение тряслось и скакало, потом штатив опрокинулся, и наискосок я увидел, что происходит: Ашур бился с исполином. Нельзя было рассмотреть в подробностях, но постепенно стало понятно, что это некое соединение туловища человека с птичьей головой. Колосс, забранный в подобие стеклянно-перистой брони, блестевшей в темноте антрацитом, титан с тлеющими желтыми глазами чудовища и человеческой гибкой фигурой в полной тишине противостоял Ашуру, который бил его нещадно, орудуя посохом будто двуручным мечом. Все это время я видел себя стоящим высоко над сценой битвы; чудище с птичьей хищной головой щелкало клювом и пыталось вскинуться повыше, чтобы сбить меня, еле державшегося на мысках на узкой жердочке; я стоял, вытянув над головой руки с обмотанным вокруг пальцев шнурком накопителя, словно стараясь уберечь бесценный груз, как стоят, замерев, на краю трамплина прыгуны в воду. В какой-то момент птичья химера, издав гортанный рокот, низкий, но недостаточный для рокового пробуждения сомнамбулы, изловчилась и в хитроумном кульбите, выставив вперед плюсну, сумела выбить у Ашура посох. Потом запись оборвалась.
Я взглянул на часы и спохватился. Ясно было, что делать нечего, остается только ускорить работу и поскорей исчезнуть отсюда. В тот день я решил не ставить камеру на запись, считая, что раз уж дело приобрело столь угрожающий вид, лучше зажмуриться.
На следующее утро я проснулся от сильного солнца, вставшего во весь рост своими теплыми пятками на мои веки. В ясные дни станция и горы вокруг преображались и переставали быть декорациями чистилища, предбанника ледяного гиперборейского рая – ада для смертных, расположенного двумя километрами выше. Я потянулся, щурясь на два сахарно-каменных пика, проступивших в прозрачном воздухе, и решил залениться сегодня, сделать себе подобие выходного – отлежаться и потом сварить овсянку на сухом молоке с лишней горстью изюма. Но тут взгляд мой упал на пирамиду и метнулся к вершине ангара. Солнечный луч, бивший в прореху в крыше, ложился на лицо и тело обезображенного могучим ударом нагого человека. Привязанный за руки к потолочной балке, располосованный снизу доверху, над моим сокровищем висел Ашур.
Я кинулся наверх. С трудом распутал веревки, тело скользнуло на склон пирамиды, и суфий застонал. Я уложил Ашура на брезент. В тот день должен был явиться с продуктами Хуршед, и он не заставил себя ждать. Вместе мы перетащили Ашура в машину и отправились в путь.
Но не успели мы миновать кишлак, как Хуршед вдруг ударил по тормозам и выскочил из машины. На ближайшем гребне четыре волка рылись во внутренностях какого-то существа. Хуршед зашагал в их сторону, волки ощерились и зарычали; тогда он развернулся, достал из багажника дробовик, побежал и не сбавляя хода выстрелил – дробь хлестнула и застучала по камням, а волки затрусили прочь. Вблизи нам предстала картина развороченной части туши – груда мяса и лоскуты кроличьей шкуры. Хуршед покачал головой и пробормотал: «Верхние чудят». Я сообразил, что это кусок калощадки, и крикнул: «Поехали!».
Мы отвезли Ашура в Хорог. Выжил он чудом только потому, что раны еще в дороге необъяснимым образом стали сами затягиваться.
Прошла неделя, а я все не решался вернуться на станцию, жил теперь в пещере хазрата, отчасти подменяя Ашура: поддерживал огонь в очаге, принимал паломников, рассказывал им, что случилось с суфием, те цокали языками и бормотали молитвы. Каждую ночь приходил к пещере хирс, и я выхватывал головню из костра, другой рукой собирал кусочки лепешек, брал плошку с недоеденным «дошираком» и выносил медведю. Последние два дня я проводил время на метеостанции, помогая Хуршеду.
Вдруг он спросил:
– Когда работать пойдешь?
– Боюсь я, Хуршед.
– Ашур велел: не бойся. Кончил дело – гуляй смело. Меня так в армии учили.
Я промолчал, но на следующий день все утро провел у порога пещеры, собираясь с духом перед возвращением на станцию. Я сидел, глядя из бельэтажа на партер гористых увалов, на светлую нитку дороги на станцию, вспоминал всякую всячину и думал о том, что делает отец в самый ответственный момент моей жизни.
Следующие две недели я пробыл на станции, завершил запись данных до самого последнего фотоэмульсионного листа и благополучно, без приключений вернулся в Москву, прежде навестив в больнице идущего на поправку Ашура.