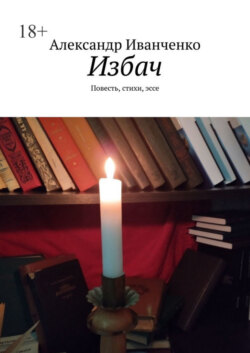Читать книгу Избач. Повесть, стихи, эссе - Александр Иванченко - Страница 5
Избач
2
ОглавлениеВ редкие минуты одиночества, когда избач находился в лёгкой прострации, перебирая в голове, что нужно сделать в первую очередь, смотря на огонь через треснувшую плиту печки и слушая потрескивание дров, вспоминал те минуты из своей короткой жизни, которые забыть невозможно. Но обязательность и должностные обязанности, к которым он относился с явным рвением, заставляли забыть тягостное в мыслях.
Село привыкало жить мирной жизнью. Пацаны 14—16 лет, приходили в избу, так как зимой круг интересных занятий сужался. А начавшая весна пока не радовала теплом. Самое интересное начиналось тогда, когда в тесные помещения избы-читальни принимали долгожданных гостей – это вчерашние фронтовики, которых можно было слушать и слушать.
Их рассказы о войне чередовались с популярными песнями на военные темы, «гулявшие» на передовой и поднимающие бойцам настроение и боевой дух и быстро распространились в самые дальние уголки необъятной родины. Затем они сменялись откровенно блатными песнями.
Добродушные селяне, видя скудность сохранённых и отремонтированных книг, старание избача вести своё, вверенное ему «хозяйство» в порядке, приносили из дома сохранившиеся книги.
Когда Иван отнекивался, от скромности, дарители говорили:
– Это же не тебе лично, а для благого дела. Пусть пользуются. Я же не Плюшкин, да и не Кощей Бессмертный – мы все смертные, а литература, книги, они бессмертны, они на года и на века…
С какой радостью селяне встретили новость об освобождении района от немецко-фашистских оккупантов, с прорывом Миус-фронта. Всем хотелось поделиться радостной новостью, порадоваться коллективно, что всегда было заложено в русской душе – это щедрость душевная. Радостью спешили поделиться всему миру, а с горем часто оставались наедине до тех пор, когда оно не удерживалось внутри и прорывалось, толи потоком слёз, толи видом, когда смурнее тучи, толи неадекватным поступком, коих ранее не наблюдалось. Вот тогда и узнавали все о том, что и выносить на обсуждение не хотелось.
Но были и часто в эти годы, родные, жены и матери получали похоронки. Тогда голосило, как правило полсела, а вторая половина, лишь всхлипывала, так как уже все слёзы по своим выплакала сполна, и они становились душевно очищенны и в первое время даже не реагировали на внешние раздражители, не говоря уже на оклики или обращение соседей и односельчан.
Странно было видеть, когда не старики уговаривали, успокаивали плачущего мальчугана, паренька-подростка, даже не юношу, а наоборот. Случалось так, что и те, кто ему даже не в матери, а в бабушки годились, слушая уговоры юнца, стыдливо отворачивали или опускали глаза, кивая, как нашкодившие школьники, а потом приподняв замутнённый слезами взгляд, признавались:
– Ты прав, Иван… – замявшись, добавляли, – … Фёдорович.
А Фёдоровичу накануне, всего неделю назад исполнилось шестнадцать лет.
Избач сидел в гордом одиночестве напротив коптившей керосинки. Она коптила из-за того, что была заправлена тем содержимым «палевом», содержащую смесь топлив и воды. Его собирали всей деревней после артобстрелов и авианалётов в то время, когда стоял, хоть и не продолжительно фронт и были боевые действия в районе села, в балке, в котлованах и взрывных воронках. А туда горючее попадало из множества разрывов нефтепроводов, две «жилы» которых отчётливо виднелись, пролегая на узкой речушкой Каменка и метров по пятнадцать в одну и другую сторону, пока не «вгрызались» в толстый слой почвы возвышенностей по направлению нефтепровода «Грозный – Лисичанск». По ним перекачивались различные продукты переработки нефти.
Люди, живущие в прифронтовой полосе, были в какой-то степени даже рады таким вот зияющим дырам в толстостенных трубах, из которых в большом количестве вылились столь важные, для жизнедеятельности жидкости. Их хранили в больших количествах в самых разных ёмкостях так, как хранят дождевую воду для стирки или припрятывали в сараи. Кто-то рисковал даже в подвалах, если там уже и не пахло снедью или… Тогда снедь можно было выбрасывать. Да и откуда она возьмётся после оккупации немцами.
Фитиль коптил, а парень смотрел, как огонь потрескивал от капелек воды, которые вместе с топливом попадали в зону горения и думал о своём, о том, что произошло за последние два года и даже чуть больше. Посетители давно разошлись по домам. А окно в избе-читальне мерцало тусклым огнём керосинки.
Иван вспоминал, как в домашнем «полку» семьи Федора Филипповича, после убытия взрослых детей, прибыли другие люди, и прибыли детей его же детей, а вернее сказать, детей избранников и избранниц его детей. Как это может быть? Не только в сказках может быть, но и в реальной жизни случается. Но лучше по порядку.
Ещё в августе 1941 года ушёл добровольцем на фронт старший сын Фёдора, Алексей. Ему шёл уже 39-й год, он не так давно женился, проще сказать взял женщину с «довеском», как говорили в селе. И им, этим «довеском» оказался забавный карапуз лет пяти. Алексей любил Арину, да и быстро привык к её сыночку, чертами лица похожему на мамку.
Алексея в селе и в колхозе уважали. Он был примерный работник, выучившись на водителя, работал сначала в родном колхозе на одном из двух, так называемых «полуторок», грузовиков марки ГАЗ-АА. Работа ему очень нравилась, да и в те, довоенные годы, профессия шофёра, была почётней, чем через необозримое будущее быть космонавтом.
– Ванюха, – говорил с самым меньшим старший брат Алексей, – что это мне на тебя мамаша жалуется, что ты стал к учёбе негоже относиться и табаком от тебя уже, как от забулдыги прёт за версту. Ты, что? Наш Гриша скоро институт заканчивает, инженером будет. Таких у нас в селе ещё не было, учёный у нас брат, я – шофёр, в партию приняли, в почёте даже в районе на доске почёта. А ты? Из тебя же и поганого тракториста не выйдет. Эх, Ванюха-Ванюха?!
– Да чё ты, Алёшка? Может я артистом хочу стать, каким-нибудь Чарли Чаплиным. Ещё не решил… Меня мазута не привлекает, и партия… Меня ещё может быть и в комсомол не примут. Сказали, что… Да, сам же знаешь, за шо… За всё хорошее.
– Так ты исправляйся, бросай курить, учиться старайся, в школе не шали… И глядишь, на октябрьские примут в комсомол. Не позорь меня, брат! Договорились?
– Ну… ну, ладно, договорились, если дашь порулить немного, а? А-то меня пацаны всё пытают, мол давал брат руля или не…
– Вот, как исправишься, так и сразу. Обещаю! Прям по Закауровской и по Петинской улицам дам проехать.
– Вот це по-пацански! – Ваня подпрыгнул от радости с сияющим лицом.
***
Незадолго до войны, на отчётном партийном собрании коммунистов, был заслушан отчёт секретаря партийной организации колхоза «Труд». В результате прений, был выявлен ряд серьёзных недоработок и упущений секретаря партийной организации, в следствии чего встал вопрос о переизбрании секретаря. Наряду с кандидатом, «привезённым» из района секретарём райкома партии, колхозники предложили кандидатуру Алексея.
– Ваш кандидат, товарищ первый секретарь, быть может и хорош, но мы его не знаем, ни как человека, ни как коммуниста, ни как работника, – взяв слова, начал старый коммунист Савелий Лысенко, – а у нас есть своя кандидатура. Могём мы или не могём, свого, местного, всем знакомого коммуниста и знатного работника предложить?!
– Кого же товарищ Лысенко желает предложить в качестве кандидата в председатели колхоза? – с еле заметным ехидством спросил секретарь райкома и, исподлобья, насупив брови, заложив руки за спины и смешно прогнувшись вперёд, посмотрел на секретаря парткома Раскошного Тимофея.
Тот нервно заёрзал на стуле, так как такого поворота дела на общем собрании колхозников он не ожидал. Ведь он привык исполнять все, доводимые сверху указания, без разногласий и раздумий.
«Там, наверху, у начальства головы побольше и им виднее с высоты-то» – думал всегда парторг и не имел привычки идти наперекор волеизъявлению райкома партии.
– Алексея Прасола! – после короткой, но успевшей затяготить всех неизвестностью, паузы, громко огласил Савелий.
– Хорошо! – не без стали в голосе, пробежав своим «колючим» и «холодным» взглядом по присутствующим, как бы пытаясь внушить всем то, что этот кандидат, которого он представляет, проверенный и перепроверенный и в революционной борьбе, и на «фронте» коллективизации, и достойней оного ни в жизнь не сыскать.
– Хорошо, – уже более спокойно продолжил секретарь райкома, – я тоже лично знаю Алексея Фёдоровича. Мне первый секретарь Анастасиевского района, будучи начальником политодела, при Милость-Куракинской МТС, Цегоев, как-то уши прожужжал о молодом коммунисте, работающем в МТС водителем. И, если за эти годы, уже не такой и молодой, а зрелый коммунист не растерял в себе пролетарского порыва и преданности делу партии, и тем более, имеет рекомендации товарищей по партийной ячейке, то милости просим. Я не имею лично ничего против. Так, товарищи?!
Все присутствующие одобрительно загудели.
– А теперь позвольте вам представить, хоть и мало кому из присутствующих известного, но не менее заслуживающего своими успехами на предыдущем месте работы, кандидаты в руководители партийной организации.
Первый секретарь райкома ВКП (б) рассказал о Протасове, который успел даже немного поработать в одном из отделов райкома и, по словам рекомендуемого, сможет наладить работу в колхозе, повести актив организации за собой, а стало быть, и поднять показатели хозяйственной деятельности колхоза, сделав его передовым, среди других в Милость-Куракинской МТС.
Речь была «пламенной, иначе не скажешь. Оставалось только объявить о вручении товарищу Протасову Б. А. Ордена Ленина.
– Если больше кандидатур нет, то переходим к голосованию.
Товарищи, кто за кандидата, Протасова Бориса Алексеевича, прошу поднять руки… – закончив речь, первый секретарь райкома, традиционно, по привычке поднял руку первым, задавая присутствующим «вектор движения» рук.
Так как коммунисты начали голосовать нерешительно, поддаваясь больше желанию угодить начальству, представитель партийной власти тянул свою руку всё выше и вперёд, в направлении собравшихся в зале избы-читальни колхозников. А так как в руке зажимал в крепкой, «мёртвой» хватке картуз, то напомнил, для тех, кто хоть раз видел репродукцию картины Василия Хвостенко «В. И. Ленин на броневике в 1917 году».
Люди переглядывались, желая увидеть одобрение среди своих односельчан данному товарищу и, нерешительно или поднимали руку, или вертелись на лавках, не находя «козырного» аргумента. Председатель собрания не спешил с подсчётом голосов, поглядывая на районную власть и надеясь, что она вот прямо сейчас достанет из кармана кожаной куртки тот самый небьющийся козырь. И заметив, что нерешительно поднятые руки стали, то там, то здесь стыдливо прятаться за спинами впереди сидящих, быстро сосчитав голоса и попросил опустить руки.
Объявили голосование за второго кандидата. Даже без подсчёта был виден результат волеизъявления коммунистов колхоза.
Подсчитали голоса. Большинством голосов был избран коммунист Прасол. Партийный вожак района поблагодарил присутствующих и выразил надежду, что их выбор явится началом расцвета колхоза, как и во времена политотделов, когда Милость-Куракинская МТС была известна на всю страну, и жалеть о выборе не придётся.
Первый секретарь жал крепко Алексею руку, не отпуская руку вновь избранного коллеги по партийной работе, делал амплитудные подъёмы и опускания, как будто пытался что-то вытряхнуть или, наоборот, вбить. При этом всё что-то приговаривал в плане напутствий. Конечно, Алексей, из всего того ничего вразумительного для себя не смог запомнить и единственное желание было – когда же он его отпустит.
Потом, встрепенувшись, вспомнил и сделав растерянные глаза, спросил:
– А, как же автомашина? Ведь у нас-то в «Труде» всего две «полуторки» и запасных водителей пока нет. Нет! Я не могу!
– Не переживай, Алексей Фёдорович! На сколько я знаю, списочный состав коммунистов в вашем колхозе пока ещё позволяет быть парторгом, как говорится, полуосвобождённым. А, если подготовишь человек 10—15 кандидатов в члены партии, вот тогда и «под завязку» будешь «при портфеле». А пока личным примером показывай на уборке, перевозке зерна и грузов хозяйственного назначения, что коммунисты – передовой авангард не только рабочего класса, но и трудового крестьянства. Я знаю, у тебя, Алексей, получится.
И только после этого отпустил руку Алексея с онемевшими пальцами. Силён партиец, однако! Как только первый секретарь отошёл, сразу откуда-то, как из подполья, вырос товарищ Алексея, Василий Пужалин.
– Фёдорыч! Ты же того… коли будешь передавать свою машину, не забудь, мы же с тобой с самого начала. Только моя уже «леченная», а твоей ещё двух годков нет. А то дадут какому-нибудь молодому недоумку, сам знаешь…
– Не переживай, Вася, я не передаю машину, пока не передаю.
– Ну, если что, имей ввиду, – Василий неспешно отошёл, опустив голову и казалось, что он был ответом Прасола огорчён.
Алексея встретил дома отец, смачно затягивающийся табаком-самосадом, щурясь от едкого дыма, струившегося, как из печной трубы дым, в морозную безветренную погоду, вертикально вверх и кряхтел, толи от удовольствия, толи от того, что никотин раздирал бронхи, что шаловливый котёнок шторы в богатых панских домах. Он смотрел на сына, неспеша шествующего вдоль сложенных, вместо ограды, двух рядов бутового камня песчаника по, местами выезженного колёсами бричек, спорыша, как по ковровой дорожке к пьедесталу. Алексей прихрамывал на одну ногу и слегка её волочил. В свои 38 лет больше был похож на ветераны боевых действий на Халкин-Голе, чем на партийного вожака колхоза.
– Алёшка! Вот дивлюся на тебе и не зрозумію, шо лучшей кандидатуры в парторги во всём колхозе на знайслошь? – придав ухмылкой, в сочетании с прищуром высокоироничное выражение лица, что кто другой мог и обидеться.
Алексей слишком хорошо знал своего отца и потому поддержал его иронию, ответив6
– Стало быть не нашлось, коли меня, недотёпу выбрали. А вам, папаша, хиба сорока на хвосте новость принесла?
– Ну, да, она самая.
«Вот, народ, ничего в селе утаить нельзя. Ты только подумаешь что-то сделать, а всё село о твоих планах знает…» – привычно, словно оббивает снег с сапог, ударил каблуками о доски помоста у входной двери, нагнулся и вошёл в избу.
Мать встретила старшего сына с уважением и похвалой:
– Гриша, средненький, через год инженером будет. А тебе, уже сколько лет, а всё баранку крутишь. Пора и тебе в начальстве походить. Кушать будешь, насыпать или…
– Или, мамаша, все будем семейно ужинать, как скотина в стойла станет. А я должен в себя прийти, обмозговать, что произошло и смогу ли?
– А як же, конечно, сможешь! «Коня железного» смог «зануздать» и объездить, а люди у нас понятливые, тебя уважают… справишься!
– Спасибо, мама!
С гулек прибежал меньший брат Ванюшка. Долговязый парень, а просторной рубахе, залатанных на коленях штанах домашнего пошива и стоптанных башмаках, донашиваемых от старших братьев, ехидно улыбнулся Алексею и спросил:
– Вас теперь как величать? Алексей Фёдорович или товарищ парторг?
– Ванюха! Вот задам я тебе, не по партийной линии, раз ты ещё даже не комсомолец, а по-братски, в целях профилактики и понимания, как нужно обращаться к старшим.
– Так это будет негуманно?! Лучше на партбюро вызови, да пропесочь, как следует.
– Ванька, не доводи до греха. Хоть я и противник физических мер воздействия, но для тебя могу сделать исключение, проявив диктатуру и строгость, на правах старшего брата, а также с одобрения папаши, – при этом Алексей бросил взгляд на отца, который потешался над сыновьями, у которых разница в возрасте была в четырнадцать годков.
Отец Фёдор опустил голову над сбруей, которую взялся починить и медленно его улыбка стала угасать и сменяться на серьёзность, даже строгость. Он отложил в сторону незаконченную работу, привычно, большим и указательным пальцами разгладил прокуренные усы и устремил свой взгляд в сторону сыновей. При этом, если проследить траекторию пронзительного взгляда, то он пролёг мех спорящими братьями, куда-то дальше, пронзая время и расстояние. Фёдор вспомнил, как без малого четырнадцать лет тому назад, в самый разгар жатвы, когда вся семья гнула спину, умело орудуя серпами и увязывая ловкими движениями снопы, мать Анастасия, медленно расправляя спину, отягощённую тем, кто был в утробе, застонала и начала крениться, опускаясь на колкое жнивьё.
Первым заметил это старший сын Алексей и зычно кликнул отца. К опустившейся на горячую июльскую землю матери, со слезами на глазах подбежала шустрая восьмилетняя старшая дочь Нюрочка, присела рядом на корточки и не знала, чем она может помочь матери.
«Мама! Мамочка!» – только и могла, сквозь слёзы, произнести она.
Подошедший Фёдор отправил Алёшку на соседнюю делянку:
«Алёша, беги быстренько, позови тётю Федору, и скажу, пусть захватит… ну, что там у неё есть. Скажи, что мать рожает…».
В этот жаркий июльский день, под копной появился самый меньший из сыновей у Фёдора Прасола, которого и назвали Иваном. Назвали так видимо потому, что из самых значимых праздников в июле был прошедший день Рождества Иоанна Крестителя.
И вот теперь уже тот, кто был свидетелем рождения меньшего брата, теперь выслушивает «нравоучения» этого самого недоросля.
«Жизнь идёт, не заметил, как дети выросли и самому уже „полтинник стукнул“, как же годы летят?!» – подумал Фёдор и снова принялся за починку сбруи.
***
Вечерами, когда в избе-читальне наступали редкие минуты одиночества, Ваня, оставшись в ситуации «сам-на-сам», предавался раздумьям. И часто, они были невесёлыми. Да и откуда было взяться весёлым воспоминаниям, когда уже третий год отрочества парня, как и его сверстников, было связано с войной. Она была везде и вол всём. В ежедневных разговорах, которым, избач, был реже невольным свидетелем, а чаще в их эпицентре. И мало того, сам был их инициатором. Это требовали и должностные обязанности – доводить до населения правдивую информацию о событиях на фронте. Да и сам фронт не один месяц находился в непосредственной близости, и слышимости. Фронт полгода стоял вдоль реки Миус, а через село на запад проходили колоны войск на фронт и на восток санитарный обоз доставлял в лазареты и полевые госпитали раненых бойцов. Ближайший из них находился в с. Камышовка.
Ваня часто вспоминал своего старшего брата Алексея. И не только потому, что четыре довоенных года средний брат учился в институте и он его видел редко, а Алексей всегда был рядом. Была другая причина.
Он раньше часто язвил старшему брату, чего, конечно, не мог позволить по отношению к родителям. Слова отца или матери в семье – закон для детей. Так было в большинстве семей в то довоенное время. Война внесла свои коррективы, но только в то, что дети раньше становились взрослыми и менялось их мировоззрение. Даже шалости были не по годам взрослые, да и не шалости это, а поступки, которые подростки совершали вопреки предостережениям старшим, наперекор некоторым запретам.
Иван часто вспоминал Алексея. И, если бы он мог теперь что-то изменить в своём отношении к брату, поступкам по отношению к нему, изменить его судьбу, предостеречь от чего-то, посоветовать своему старшему брату, но очень честному и потому наивному. К сожалению, не мог он ничем помочь и не мог повлиять на его судьбу. Разве, что нужно было молить Бога об этом, так он же неверующий. А теперь к тому же и активист, пропагандист, человек, которого в селе уважают, прислушиваются – нет, религия – это не его. Книги – это его, в книгах можно многое узнать, лучше познать философию жизни, хоть и само слово «философия» парню представлялось в виде лекции где-то в университете заслуженным профессором умным студентам или аспирантам, будущим учёным, которые в свою. Очередь будут писать книги, а по ним уже будут обучаться дети в школах и студенты в «храмах науки».
У Вани была своя собственная философия, которую он слагал в лабиринтах коры головного мозга, даже не записывая на бумаге, да и где её в то время можно было взять – дефицит, как и мыло, даже похлеще того. Он старался выводы и умозаключения раскладывать «по полочкам», чтобы в нужный момент можно было воспользоваться. Что-то забывалось, конечно. А, чтобы не забывалось, нужно было устраивать тренинг, иначе говоря, как стихи повторять. А ещё лучше, если эти высказывания будут озвучены в публичном социуме, для людей. Вот тогда будет видна реакция: будут смеяться с него люди; будут перебивать, забивая контраргументами или слушать, как слушают докладчика, лектора, выступающего с интересной темой и, важно, чтобы сам рассказ был не занудным, а интересным.
После того, как брат Алесей ушёл добровольцем на фронт, произошло много событий, над которыми Иван часто думал, пытаясь понять, что же произошло с братом и как бы он сам поступил на его месте. И дело не в том, чтобы пойти добровольцем на фронт. Мало кто из местной детворы не высказывали на «сходках» мнения, как бы сбежать на фронт, конечно же, без ведома родителей. Фантазировали, как они будут беспощадно бить врага, сжимая до хруста сухонькие кулачки и демонстрируя всем свою «мощь».
Дело было в другом. С фронта Алексей не написал ни одного письма. А через четыре месяца явился домой весь изорванный, истощённый, заросший и совсем неузнаваем. Он был больше похож на 70-летнего старика, с той лишь разницей, что борода его была не седая, а рыжая.
Трудно передать, как родители пережили то душевное потрясение, при виде сына. И первая мысль, конечно, была такой, что их сын, в прошлом парторг – дезертир. Все селяне, знавшие давно и очень хорошо Алексея, не могли тому поверить, что он, сначала ушёл добровольцем, хотя его долго уговаривали и, вдруг, предатель.
Ваня после этого потерял дар речи. Он не реагировал ни на чьи слова, замкнулся намертво в себе. Его мозг закипал в попытке осознать то, что произошло, но не мог. В нём боролись два чувство. Он не хотел, не мог даже подумать, что такой, предельно-честный, положительный во всём человек, мог стать дезертиром.
«Нет! Нет-нет, не может быть, чтоб Алёшка…» – гнал Ваня из головы постоянно атакующие разум сомнения.
Вечером за столом, Алексей, рассказал свою невероятную историю, которую не всегда даже встретишь в приключенческих, фантастических повестях и романах. Алексей, покушав, поблагодарил мать, отложил ложку с миской в сторону, положил на стол руки, скрестив пальцы замком, как на исповеди, обвёл взглядом всех, пребывавших в полном молчании членов семьи: родителей, старшую и меньшую сестру, а затем повернулся и к Ванюшке, который отсел на лавку у стены, сидел с опущенной головой. Как-то измученно попытался улыбнуться, но это плохо получилось и, глядя прямо в глаза папаше, начал свой длинный рассказ.
И чем дальше уводило повествование Алексея родных, тем напряжённей становились их лица, выражения лиц сменились на сочувственные к пережитым моментам, дням и месяцам, проведённых сначала в аду, а потом в поиске дороги из того ада.
Из рассказа следовало, что Алексею повоевать пришлось менее трёх месяцев и большую часть этих дней приходилось пытаться прорваться из окружения. Изначально, Алексей, служил водителем на такой же «полуторке», как и на гражданке, с той лишь разницей, что подвозить приходилось снаряды на передовые позиции. В одном из боёв вражеским снарядом автомашину разнесло вдрызг. Бог миловал, и Алексей отделался лёгкими ранениями и контузией.
Фронт продвигался на восток так стремительно, что «угнаться» за ним, да ещё и скрытно, украдкой, чаще ночами, было невозможно. В одном из селений изнемождённого бойца приютила женщина, накормила, дала одежду мужа, который также находился где-то на фронте. Книжку красноармейца и партбилет Алексей прикопал на усадьбе хуторянки.
Больше месяца Алёша догонял фронт, чтобы попытаться его перейти. И догнал в аккурат на родной земле, когда фронт ненадолго остановился на рубеже Миус-фронта. В одну из тёмных октябрьских ночей, под постоянным обстрелом рубежей фронта с обеих сторон ему удалось форсировать Миус.
На левом берегу, когда он добирался домой, при встрече с красноармейцами, даже его возраста, его называли дедушкой. Он был настолько неузнаваем, что даже родители, крестясь, отталкивали его, как прокажённого.
Сколько лишений, боли и испытаний отражалось в его, после бриться и отмывания лица, глазах, что все сомнения, хоть и не сразу, ушли прочь. Все эти изменения хорошо отслеживались на поведении меньшего брата. Он сначала искоса посматривал на брата, потом всё уверенней и уверенней, и вскоре он смотрел на брата, и слушал его с таким интересом и сопереживанием, что казалось, если в его полуоткрытый рот влетит воробей – он бы и глазом не повёл.
Действительно, всё сказанное было нереально и, казалось невозможным вымыслом, но до тех пор, пока слушателей не убедила та прямота взгляда, с которой Алексей смотрел, без утайки им в глаза и душевная прямота с искренностью, что сомнений не осталось. Родители поняли, что сын говорит истинную правду. А сестры были готовы своей душевной теплотой обнять брата и защитить от дальнейших невзгод, которые ему ещё предстояло пройти. И ещё неизвестно, что было труднее, пройти сотни километров по территории, оккупированной захватчиками или тот путь и все испытания, которые только предстояло ещё пройти.
Закончив рассказ, после того, когда в доме наступила испытывающая терпение тишина, Алексей первым её прервал, попросил отца:
– Батя, дай табачку!
– Алёшка! Ты же… Да, конечно, держи! – протянул сыну кисет с самосадом и, доставая бумагу, добавил, – сам или свернуть?
– Сам, батя, сам!
Ваня смотрел на брата совсем другими глазами. Он пытался его сравнить сначала с Пашкой Корчагиным, потом с русскими богатырями из былин и после недолгих поисков прототипа, решил: «Алёшка – ни на кого не похож и ни с кем не сравним. Алёшка – он Прасол! Он не книжный, не былинный, а настоящий, он – Алексей Прасол!»
Отец спросил старшего сына:
– Что думаешь делать? Ведь о тебе, как я понял, командование ничего не знает?!
– Да, батя, завтра пойду в военную комендатуру или что тут вас есть, пусть временная власть прифронтовой зоны. Всё расскажу и попрошу связаться с командованием моей части, если б знать…
– Что, Алёша, если б знать?
– Если б знать, что и кто от неё, этой части осталось. Там такое было, что не расскажешь всего, просто жутко вспоминать, когда земля горит, металл горит…
– На том и порешили. Утро вечера мудреней.
В ту ночь, наверное, никто не мог уснуть. А Ваня уж точно. Он прокручивал рассказ брата, как киноленту фильма, возвращаясь тем или другим событиям дважды-трижды, чтобы прочувствовать всё так, если бы вместо Алёши там был он сам и продумать, как бы сам поступил в той или иной ситуации.
Утром, когда Ваня проснулся, Алексея уже в хате не было, не было его и во дворе. Ванюшка позаглядывал во все места, где мог только уединиться брат, но его нигде не было.
«Опоздал! Он ушёл, а я ему хотел что-то важное сказать… Ну ничего страшного. Придёт и скажу. А, если… Да никаких „если“, придёт, а как иначе?» – не находя себе места, думал Ваня.
Алексей пришёл ближе к обеду. Он был серьёзен и задумчив. Рассказал, что встречался с командиром временно размещённого, для пополнения батальона, направляемой на Миус-фронт дивизии. Тот, узнав его историю и то, что Алексей водитель, предложил пополнить ряды его подразделения. На просьбу Алексея он ответил, что связаться с его бывшим командованием он не сможет, так как это не только другая дивизия, армия, но и фронт не Юго-Западный, а Южный. После отказа Алексеем продолжить службу в его подразделении, комбат предложил дождаться особого отдела, который, разобравшись в ситуации, решить его судьбу.
Догадывался ли Алексей о том, какая судьба его ждёт? Скорее да, чем нет. Но это будет уже завтра или послезавтра.
А послезавтра Ваня видел своего старшего брата последний раз. Алексею «повезло», если так можно в этом случае выразиться, что он сам пришёл с явкой и многие факты, после проверка по каналам особого отдела, подтвердились. И потому, одним из самых страшных преступлений, по словам капитана государственной безопасности было то, что Алексей «избавился» от партбилета.
Приговор был, что гром, среди ясного неба – «восемь лет лишения свободы, без права переписки».
***
Второй год Иван Прасол заведовал избой-читальней. Если изначально было кое у кого опасение, что не справится, ребёнок-то ещё. А теперь уже скоро исполнится 17 лет. И работа ладится и зиму пережили. И в результате Белорусской наступательной операции лета 1944 года, Красная армия вышла на рубежи довоенной границы СССР.
Семья получила весточку, что Алексей Фёдорович пропал без вести, без подробных объяснений, где, когда и при каких обстоятельствах. Осталось только догадываться, что скорее всего, он участвовал в боевых подразделениях штрафбата, где и потерялась, только что появившаяся ниточка его судьбы.
Иван, рождённый в конце июля, ожидал призыва в армию, так как призывали теперь с 17 лет. И, хоть у него были ограничения, но на военное время это ограничение по состоянию здоровья не действовало.
Возвращались фронтовики, списанные по ранению и инвалидности, безрукие, безногие и по других показаниям. Продолжали приходить и похоронки, а кому-то и такие же извещения, с формулировкой «пропал без вести». Редко какую хату миновала беда, у кого-то не стало хозяина семейства, у кого-то сына и не одного. Но, несмотря ни на что, общий настрой был более-менее позитивный. Красная армия гнала врага и итог войны был давно известен, оставались считанные месяцы. Но они стоили десятков и сотен солдат, освобождавших восточную Европу от «коричневой чумы».
Те селяне, которые знали, хотя бы в общих чертах, о той трагической случайности, которая приключилась со старшим братом избача, старались не затрагивать эту больную тему. Да и в каждой семье были свои трагедии, с которыми нужно было просто смириться и жить дальше. Село жило одной болью, которую им в один момент преподнесла война и лишь в дополнении к общей боли, в разные моменты пронзала сердца тех или иных ещё и личной болью, которая сливалась так или иначе в общий котёл и переносилась людьми от поколения к поколению. Одним из «обменных пунктов» и была изба-читальня – информационный, культурный и духовный центр жизни села. Церкви-то в селе не было. Ближайшая находилась более, чем в 15 км и не каждый мог посетить и отстоять службу, поставить свечи за родных и близких, чтобы Господь их хранил, за воинов-освободителей русской земли от фашистской нечисти, и поставить свечи за упокой душ убиенных.
Конечно, юноша, к которому вечерами стекался люд, чтобы ощутить единство мыслей и чаяний, поделиться радостью за родных и близких, бьющих врага на фронте, не мог им заменить духовника, но в какой-то степени приходилось принимать исповеди людей, особенно, когда это происходило в доверительных беседах, в спокойной обстановке, когда эмоциям каким-либо событием был дан толчок и вот уже льётся поток откровений. Остаётся только внимательно слушать, не перебивать и, упаси. Господи, не осуждать. А ведь порой «открывались» и те, кто совершил когда-то преступление по отношению к другому человеку, и оно не было связано с убийством врага на фронте… Не позавидуешь молодому «духовнику».
Чтобы поставить точку на теме мучавшей парня, по поводу того, каким был его старший брат, Алексей Прасол, нужно перескочить на десять лет вперёд, в то время, когда, после смерти вождя всех народов И. В. Сталина десятки тысяч осуждённых были выпущены по амнистии и в село вернулись те, кто вёл отсчёт не дней в окопах, а в застенках тюрем и лагерях.
Как-то зашёл в сельский клуб, с первого взгляда незнакомый человек, но по чертам худощавого, морщинистого лица, напоминающий одну из фамильных династий местных жителей. Он был беспечно-самоуверен, сделал несколько шагов, окинув всех присутствующих равнодушным взглядом и произнёс:
– Вечер в хату!
Подошёл в библиотеке к столу, где лежали книги, принесённые читателями, но ещё не распределённые на полки по алфавиту и тематике, машинально перелистал несколько страниц верхней книги и продолжил, обращаясь к Ивану:
– Ты, что ли тут писаниной заведуешь? А ты чей? Не припоминаю, чьих будешь…
– Завклуб, Прасол Иван…
– Думаю, кого это ты мне напоминаешь. Так это кем тебе Алексей доводится, дядей или братом?
– Алёша – брат мой.
– Знавал я твого брата, знавал. А, что он, вернулся из мест не столь отдалённых?
– Нет. Он пропал без вести…
– Во, как! Ладно, если побег… Хотя за ним и двери не нужно было закрывать, а просто скажи: «Отсюда ни шагу!» – никогда не уйдёт. Редким был твой брат, как не от мира сего.
– Он коммунистом был.
– Повидал я и бывших коммунистов там много. Но этот… Этот, нет чтоб кусок хлеба на шконке втихаря заточить, со всеми поделится. Я же говорю, что он не от мира сего. Там так нельзя, не выжить. Он – мужик, честный чересчур. И это могло его погубить. Хотя, если «пропал без вести», то возможно ещё раз пороха нюхнул разве, если «подписался»… А там, где мы с ним хату делили, он точно весь срок бы не вытянул. Я тебе точно говорю, парнишка. Он не как все был, а может…
Бывший зек замолчал, достал пачку папирос, предложил Ивану и сам закурил и предложил:
– Помянем молчанием, если Бог его забрал к себе… Я в Бога не особенно верую, но говорят, что Он лучших к себе в первую очередь забирает. Не знаю, парень, утешит ли тебя это, но твой брат был правильным, и не важно, что он коммунист, он был человеком. Поверь мне, я за дюжину лет всякого брата там насмотрелся и знаю, что говорю…
Сначала у избача было желание побольше расспросить у незнакомца о своём брате. Но, немного подумав, решил, что он узнал главное, что мучило его долгие двенадцать лет. И то, что рассказал этот человек, который уходя повернулся к Ивану и улыбнувшись произнёс:
– Будь здоров, тёзка! И пойми честным и правильным – не всегда есть хорошо. Заклюют, затопчут. Это в библиях говорится «ударили по одной щеке – подставь другую…». А на нашей грешной земле, не будешь держать удар – забьют, уничтожат. Вот видишь, я здесь. А где твой брат?