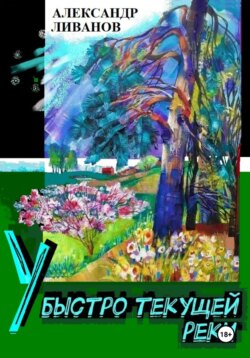Читать книгу У быстро текущей реки - Александр Карпович Ливанов - Страница 5
Чем душа жива
Месть
ОглавлениеМонгольское лето над Ундэр-Ханом, целый месяц оглашаемое гулом самолетных моторов, пальбой корпусных гаубиц с Хинганского перевала, обложенным стрекотом зениток с обеих сторон Керулена, – в этот год, видно, перепутало все календари. Осень все еще не смела подступиться. Сентябрь стоял знойный и сухой, точно на дворе только начался июль, когда таежные пади далекого, теперь для нас, Забайкалья усеяны простодушно обнаженной голубикой, а лукаво-застенчивая брусника пунцово и зазывно рдеет, выглядывая из низкой травы…
Под крылом своих Пе-2 мы в эти дни прохлаждались, бездельничая после короткой войны с Японией, после напряженных ночных полетов и выматывающих нервы готовностей «номер один», томительных часов ожидания и будоражащих воображение россказней про смертников-камикадзе и харакириющихся летчиков-асов… Днем мы или отсыпались («выбирали люфты», выражаясь по-авиационному), сунув под голову парашют, зимний моторный чехол, а то и попросту противогаз, или до одурения забивали «козла» на чьем-то обшарпанном, повидавшем виды чемодане с помятыми боками, но – точно старый боевой конь свои подковы – сохранившем сверкающие железные уголки…
Вечером, после ужина, мы подшивали подворотники к выгоревшим до белесости гимнастеркам (перегнутый пополам лоскут от ветхой простыни), густо ваксили техническим вазелином свои размочаленные корабли-скороходы, навивали потуже и повыше спирали чертовых голенищ – обмоток, и, вообразив себя на вершине солдатской элегантности, – отправлялись на танцы. Каждый вечер на пятачке возле продпункта, за две недели сплошных танцев растоптанном до глубокой пыли, светили посадочные прожектора и хрипел трофейный аккордеон.
На десятки километров вокруг лежала монгольская степь, унылая и голая, с такими же унылыми, убегающими за горизонт сопками-гольцами. До боли в глазах смотрели мы вдаль, пока окончательно терялось ощущение реального и сопки начинали казаться нам уснувшим стадом баранов или грядой озябших облаков. В эти минуты далекое Забайкалье, откуда мы сюда прилетели, с его студеными, быстрыми речками и дремучими кедрами на островерхих сопках, главное, с его лютыми морозами, представлялись нам чуть ли не землей обетованной…
Я дежурил у штабной палатки с вылинявшим флажком на острие шеста и слышал беседу командира полка Дерникова с заместителем по политчасти майором Кудиновым.
– Надо чем-нибудь занять народ, командир, – проговорил замполит Кудинов. Он, как всегда, говорил, негромко, на полутонах…
Чувствовалось, разговор был старый, и, судя по тому, как долго не отвечал Дерников, тема была не по душе нашему «бате».
– Эх, комиссар, и охота тебе в бирюльки играть! – с досадой отозвался Дерников, – Хорошо повоевали люди, пусть отдохнут! Небось скоро приказ о демобилизации подоспеет. Надо же им прийти в себя, подумать о гражданском своем житье-бытье… Верно я говорю? Или прикажешь «курс молодого бойца», «подход к начальнику с рапортом», «отдавание приветствия»? Теперь как-то обидно для победителей.
Комиссар не спешил с ответом. Кудинов, я знал это, был настырный мужик и своим ровным и бесцветно-настороженным голосом, точно верная супруга своего мужа, умел доводить Дерникова «до точки» и добиться своего.
– Праздность, командир, не к лицу победителям, – продолжал гнуть свою линию Кудинов. – Армии крепнут в походах и разлагаются в бивуаках. Это старые, как мир, истины… Да и вообще, – праздность мать всех пороков… Всех смертных грехов…
– «Смертные грехи», «разложение»!.. Вечно тебе страсти мерещатся. И какие уж тут, скажи, комиссар, грехи? Степь да тарбаганы. «Ни баб тебе, ни блюда», – как сказал поэт… А в общем – чего ты хочешь? – вроде как бы поостыв немного, примирительно спросил Дерников. – Снова занятия по матчасти? Так ее скоро на утиль спишут, матчасть нашу. На реактивных будем летать, комиссар! Или, может, соскучился по политбеседам на тему «Священная ненависть к врагу»? Но враг-то повержен, капитулировал враг, как тебе известно… Последние эшелоны пленных отбыли в леспромхозы. Не самураи, а пай-мальчики. «Служили Микадо, послужим Сталину…» Фарисеи азиатские!..
– Да это я все понимаю, – перебил Кудинов склонного к отвлеченности Дерникова. – Может, наконец, какую-нибудь самодеятельность организовать? Ведь еще никто не знает, когда этот приказ о демобилизации придет. А у личного состава – знай одно дело: козла забивать, а вечерами пыль месить на танцульках. Стыдно за авиаторов.
– Что ж, – самодеятельность – неплохая мысль, – как-то просветлел голосом Дерников. – Но как ты ее организуешь? Всех талантов, помнится, побрала у нас еще в прошлом году эта самая… как ее… фронтовая агитбригада. Кстати, ты не знаешь, куда она запропастилась? Небось, в Чите да Иркутске прохлаждается. Генералитет развлекает. Таланты и поклонники!..
– Насчет талантов, командир, не беспокойся. Это уж моя забота, – загадочно усмехнувшись, сказал Кудинов и вышел из палатки. Я самую малость вытянулся, обозначив уставную стойку смирно, майор же сделал вид, что она ему без надобности – как обычно уж авиация обозначает безо всякого рвения все пехотинское. Тем более: война кончена.
– Сбегай, пожалуйста, за Рыкиным, – шепнул мне Кудинов и даже как-то попытался доверительно подморгнуть мне.
Откинув за спину бессмертный противогаз и придерживая его рукой, я побежал, впрочем, не слишком быстро («война кончена»!) выполнять приказание заместителя командира полка по политической части. «Ну, если Рыкин – скучно не будет!» – подумалось мне.
Небольшого роста, белоголовый («седой», как мы его называли), с глазами какой-то пронзительной, насмешливой и смущающей голубизны, ефрейтор Рыкин, как всегда улыбаясь всем лицом, за что удостоился второго, еще более популярного прозвища – Швейк, через несколько минут стоял перед командиром полка.
У вечно не унывающего Рыкина, моториста нашей второй эскадрильи и моего друга, было никем неоспоримое амплуа полкового остряка и еще запевалы на строевых смотрах, впрочем, довольно редкостных за последнее время. Любую беду (а у Рыкина взысканий было больше, чем это вообразить можно было) он сносил с непостижимой для меня беззаботностью. Он сыпал шутками и повторял свой излюбленный афоризм: «Даже смерть не стоит минуты дурного настроения». Можно было подумать, что смертей на долю Рыкина выпало не меньше, чем взысканий, и он свой афоризм успел основательно проверить.
– Ну, как, – сможешь? – без всяких предисловий и в упор спросил Дерников у невозмутимо улыбающегося моториста. Командир полка понимал, что предисловия ни к чему, что у его замполита и у этого моториста уже состоялся предварительный сговор. Недаром Кудинов с таким безразличным видом уселся на штабной сейф в углу палатки. «Хитрец! Ничего просто не сделает… Или такой уж трудный характер у меня, что никак нельзя ему без фиглей-миглей?» – глядя на Рыкина, подумал Дерников про своего комиссара.
– Смогём, товарищ полковник! – Рыкин лихо вскинул руку к пропотевшей и замаслившейся, к тому же еще в белых пятнах соли – точно от морской воды – пилотке.
– Не скоморошничай. Разговор-то серьезный, – нахмурил выгоревшие брови командир полка.
– Есть разговор серьезный! – отозвался Рыкин. – Когда прикажите выступить? После обеда или после ужина.
– Да ты что – смеешься? – сам рассмеявшись, посмотрел в сторону Кудинова развеселившийся командир полка. Майор Кудинов как ни в чем не бывало, сосредоточенно рассматривал свой клееный плексигласовый портсигар – производства моториста Ефимьева – большого мастера на всякие безделушки.
– Как прикажете, – стараясь больше не улыбаться и уважительно окинув глазами ордена на командирской груди, наморщил лоб Рыкин. И словно самому ему вдруг прискучило собственное легкомыслие, перешел на деловой тон.
– Видите ли, МХАТ или ансамбль Моисеева я вам гарантировать не могу. Все равно не получится… Так что дело не в сроках и не в числе репетиций… Тут нужно нечто принципиально новое, стихийное что ли! Солдатам по душе гротесковое, ералашное… Но конкретно я сейчас – ничего сказать не могу. Надо подумать! Искусство и творчество… «Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?» Сюитку спроворим. Чтоб было смешно… По-умному смешно…
Командир полка пристально следил за Рыкиным.
«Так вот он какой, Швейк наш!.. Изъясняется-то как!» – думал Дерников, в который раз уже за командирскую жизнь свою испытывая это чувство неловкости за поверхностное, уставное знание людей своих. И с запоздалым покаянным чувством вспомнил сейчас Дерников, как накануне войны с Японией держал он Рыкина десять суток подряд на хлебе и воде…
…Занятная история тогда с Рыкиным произошла. И смех, и грех вспомнить. Во время учебных стрельб, вместо «конуса» (этого огромного цилиндрического перкалевого мешка, буксируемого самолетом и свертываемого в большой клубок перед выбросом) Рыкин вытолкнул в нижний люк… свой парашют. Это было тройное преступление. Мало, что он сорвал стрельбы и явился причиной убыли казенного имущества. Сверх того, он – тогда еще стрелок-радист – как бы расписался в том, что нарушил устав, во время полета самовольно освободил себя от обязанности носить на себе парашют…
Прежде, чем отбыть на гауптвахту, Рыкин, разжалованный из стрелков-радистов в мотористы, три дня – по приказу Дерникова – искал этот злосчастный парашют по всей тайге. Задача, пожалуй, похитрее, чем отыскать пресловутую иголку в стоге сена…
– А правду говорят, что ты на гражданке артистом был? – поинтересовался у Рыкина Дерников.
– Я состоял в филармонии. Правда, по молодости меня все больше в резерве держали. Хотя на «чечетку» или «цыганочку» бывало по пять раз вызывали… Барахлишка, товарищ полковник, поверите ли, вот такой вот сундук за мною багажом следовал. Одних галстуков-бабочек дюжина!.. Э-эх, жизнь моя – иль ты приснилась мне?
– Ну, опять пошел! Довоенное барахлишко вспомнил, – добродушно проворчал Дерников. – Говори толком, чего тебе требуется. Сообразно с нашими условиями, разумеется. Сундук с галстуками мы тебе, понятно, не можем дать…
– А и не надо, товарищ полковник! – Выделите мне команду человек пятнадцать-двадцать. И все будет – окей. Сегодня же можно первый концерт дать!
– Серьезно?
– Абсолютно серьезно, товарищ полковник.
– Бери команду! Из своей эскадрильи подберешь! У себя ты лучше людей знаешь. Скажешь старшине Худякову я приказал. А там мы с комиссаром поглядим, какой ты у нас… Станиславский. В общем, смотри у меня! Не надейся, что гарнизонной гауптвахты здесь нет. Соорудим, если что! Для тебя специально соорудим!..
– Само собой, товарищ полковник! – опять вытянулся, шаркнул каблуками и так же лихо козырнул Рыкин, будто пообещали ему не очередную гауптвахту, а по меньшей мере медаль.
– Да, скажи-ка, – вспомнил Дерников, – почему же это тебя – артиста – фронтовая бригада обошла?
– Это их убыток, товарищ полковник, а не мой. Дилетанты… Боятся профессионала! – тут же ответствовал Рыкин и в дрожавшем голосе его, как показалось Дерникову, послышалась обида. – Видите ли, мол, не хватало музыкантов, а танцоров – перебор… Дураки!
– Ну, ладно, я вижу, от скромности ты не умрешь! В общем, комиссар, даю вам мое командирское благословение. Покажите на что вы способны… Не из зоопарка ведь… Ну, жили прежде, поживем в надежде.
Кудинов с видом человека, ловко обделавшего свое дело, вопреки всяким воинским уставам, возложив руку на плечо Рыкина, слегка подтолкнул его к двери. Было похоже, что замполит опасается, как бы ефрейтор не сболтнул бы чего лишнего и не повредил бы удачному началу… И как по тонкому льду, оба побрели к выходу…
Все старшины на свете в некотором смысле неравнодушны к левому флангу. Назначают ли на работу, выделяют внутренний наряд или посылают в караул, – считать они принимаются обязательно с левого фланга, малорослым приходится отдуваться. Зато, если, скажем, увольнение разрешено только двадцати или тридцати процентам состава, здесь уж, можете не сомневаться, счет старшины ведут, «как положено», с правого фланга… во имя представительности подразделения!..
Наш старшина Худяков не был исключением в ряду себе подобных, и, выслушав Рыкина, пожал плечами, поворчал для порядка на тему, что «начальству легко приказывать, а старшине всю жизнь выкручиваться» – и принялся исполнять приказание командира полка. Наш старшина был свято уверен, что ему надлежит выделить людей на работу – то ли штабные сейфы опять перетаскивать, то ли все окурки перед столовой собрать («мало ли что начальству в голову стукнет!») и послал гонцов – собирать из-под самолетов срочную службу эскадрильи: строиться.
Счет старшина Худяков, конечно, начал с левого фланга, где стоял и я, уже освободившийся от дежурства у штабной палатки. Худяков было просунул руку за правым плечом пятнадцатого моториста, уже набрал воздух в старшинскую грудь, чтобы надлежащим командирским голосом погромче и впечатляюще произнести «На-пра-а-во!», когда Рыкин сказал: «Одну минуточку».
На глазок уполовинив нас, он сам просунул в строй руку, дав понять старшине, что берет лишь хвост строя, т.е. нас, семерых, последних «недомерков». Затем он таким же манером отобрал восемь верзил с правого фланга, соединил обе группы и отошел подальше от строя, чтобы полюбоваться на творение своей фантазии. Стык между «недомерками» и «верзилами» образовал как бы ступень для великана. Возможно, Рыкин, глядя на нее, вообразил сейчас, как по ней взойдет наша артистическая слава…
Глядя на удалившегося по своим делам старшину, сделав довольную гримасу и энергично потерев руки, Рыкин вступил в права командования. Перекрестился, пробормотал до середины «Отче наш», сказал:
– Итак, товарищи, нам приказано стать артистами, – торжественно возгласил он, – Считайте, что с этой минуты вы не мотористы. А служители муз. Зря что ли сказано: «Авиация славится чудесами и чудаками»? Выступать будем сегодня после ужина! Не робки отрепки, рви до лоскутов!
– Че-го-о? – Уродил тебя дядя на себя глядя…
– Ты сдурел, видно, Швейк? Или с гауптвахты сбежал?
– Братцы, он, никак, антифриза хлебнул!.. Откачать надо!
–А-ш-шо. Пущай хоть и артисты, но паек двойной чтоб! Ведь авиация – все понарошку и верх дном. Абы лишь не вышло б по-людски…
Рыкин терпеливо поворачивал голову в сторону каждой реплики. С пониманием и удовольствием внимал и, наконец, он поднял руку:
– Тихо. Прежде всего – по-ря-до-чек! Кто струсил – не держу! Пожалуйста, – шаг вперед!
Строй не шелохнулся: ни один из нас затею эту всерьез не принимал. Мы пересмеивались и ждали.
– А что нам надо будет делать? – вместо этого раздался чей-то рассудительный голос.
– Плясать, играть… В общем, что полагается от артистов. Иначе – всех на губу. Со мною – в голове колонны, – пильнул себя по горлу Рыкин.
Никто, однако, не рассмеялся. Гауптвахта у Рыкина была не в шуточном, самом явном обиходе.
Мы с тоской посмотрели на отдалившийся строй нашей второй эскадрильи. Колонна ее – в шеренгу по четыре – уже приближалась к большой госпитальной палатке, где у нас помещалась столовая. Хорошенькое дело – люди пошли на обед, а мы… Мы будем «артистами»! Черт знает что!.. Впутал нас в историю наш Швейк!.. С кем связались!
И все же Рыкин был нашего поля ягода и сразу учуял причину тревоги своих подопечных.
– Обедать теперь будем на час позже. Не скулить, братцы! Вся гуща в котле нам достанется! Довольно об этом. При-и-сту-паем к делу! Та же работа! Что хрен, что редька, что бабуля-соседка!..
И посвящение нас в артисты – началось. Речь шла, насколько я понимал, о пляске. Кто-то пытался протестовать, что «он в жизни не плясал», кто-то пожаловался на радикулит, на то, что в детстве «медведь на ухо наступил», – но Рыкин тут же призвал к порядку нерадивых. Он еще раз напомнил о «всеобщей губе» и непосредственно приступил к показу, что именно нам как артистам, «надлежит выделывать нижними конечностями».
– Вот так, вот так! С каблука на носок – и снова с носка на каблук… По пять раз! В уме считайте! Кто до пяти считать не умеет, смотри на товарища! – воодушевлял нас Рыкин, и – самое странное – мало-помалу «работа» эта стала нам нравиться. Через десять минут мы топали и хлопали с таким азартом, что сами себе удивлялись. Причем, мы не просто смеялись, а приходили прямо в неописуемый восторг от собственной неуклюжести…
Женю Карпова, щеголеватого моториста командирской машины и Сергея Стукало с метеостанции – единственных обладателей сапог (все мы были в порядком поношенных и растоптанных башмаках американского происхождения и в замаслившихся до блеска «чертовых голенищах») Рыкин поманил пальцем, дабы не помешать нашим занятиям. Шепотом сообщил он им: «Поберегите, мальчики, свои фартовые сапожки для танцев на пятачке. Пойдите наденьте ботинки с обмотками. Как все! Помните, чтó гласит одна из заповедей устава – «форма одежды должна быть единой»! Ботинки лучше возьмите у старшины из списанных. Живопись! Поняли? Если не поняли – ауфидерзейн, присылайте замену!
– Ну, а как насчет музыки? – догадался кто-то. – Неплохо бы все же и какую-нибудь музыку… Гармошку хотя бы?..
– Не отвлекаться! – строго воскликнул Рыкин. – Я все знаю! Будет и музыка, и вообще полная опера! Только все в свое время! Как сказано в священном писании? «Дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток!» Продолжайте работать! Ча-ча-ча! Отлично, ребята! Вот так, вот так!.. Р-р-ойте землю, р-ры-саки! Ай да тройка, снег пушистый!
Рыкин и впрямь был доволен нами. Он заранее отвел нас на край аэродрома, подальше от людских глаз. Через полчаса, там, где работал наш кордебалет, у нас под ногами не было ни травинки! Я, впрочем, убежден, что в том месте на монгольской земле, где мы в сентябре одна тысяча девятьсот сорок пятого года готовились к хореографической карьере, трава вообще никогда уже не будет расти…
Рыкин требовал от нас только одного: самоотверженности. «За десять минут танца надо выложиться так, как при смене обоих моторов на сорокапятиградусном морозе!..»
Незачем было нас подогревать упоминанием о «сорокапятиградусном». Мы трудились, обливаясь потом, не жалея ни рук, ни ног, ни наших бедных и без того разбитых «колес». Носок-каблук: руки вразброс!
Еще через десять минут Рыкин, громко гаркнув «отставить!», заявил нам, что с пляской все обстоит благополучно, что пора нам приступить к «музыкальной части программы».
Оказывается, на другой окраине аэродрома Рыкин высмотрел старую полузавалившуюся землянку, в которой еще с незапамятных 30-х годов остались музыкальные инструменты! По правде говоря, это был полусгнивший, потрескавшийся хлам, брошенный за ветхостью какой-нибудь авиаэскадрильей тяжелых бомбардировщиков вроде «тэбэтретьих»: балалайки вовсе без струн, контрабасы со слоем ржавчины в палец на уцелевших струнах, даже одна скрипка без нижней деки и грифа… От всей этой рухляди и гнили Рыкин был в восторге!
В почти истлевшем баяне мирно жило-поживало большое и почтенное семейство серых земляных лягушек. Мне жаль было потревожить их покой, и я с должной дипломатичностью намекнул Рыкину: «Пожалуй, им он скорей подходит». Но не тут-то было. Сделав страшное лицо, явно подражая сердитому старшине Худякову, Рыкин двинулся на меня:
– Раз-го-во-ры! Выполнять команду! Р-рьяно и неукоснительно!
И как для археологов, дорожащих своими хрупкими ископаемыми находками, готовыми немедленно рассыпаться в прах от первого нормального выдоха, транспортировка инструментов из землянки составила серьезную проблему. Рыкинские ободрения сыпались на нас беспрестанно. «Обряжайся! Мизюль в карман! Шарбир на шейку! Гармонь на плечо!»
Сам Рыкин уже успел погрузить на себя огромный барабан без днищ, большую охапку дюралевых пюпитров, а, главное, – толстую и слипшуюся стопу нот. Эту драгоценность он уж, конечно, никому не передоверил бы. Войдя в транс, он, как шаман, уже не выходил из него.
– Приготовиться к занятиям! – тут же, едва мы успели выбраться на свет божий из сырой и сумрачной, как преисподняя, землянки, раздалась команда Рыкина, новоиспеченного начальства нашего, – приготовить к сыгровке инструменты!
«Силен орать Швейк!» – смеясь и удивляясь, ворчали мы. – «Ему-то что. «Взять инструменты!» «Приготовить инструменты!» Будто всего-то и дела, что разобрать из ружейной пирамиды винторезы перед очередной чисткой».
Да, с «винторезами» нашими дело и впрямь обстояло проще. Их-то мы и ночью с завязанными глазами, даже не сверившись с номером, умели разобрать в один миг. При этом мы ухитрялись даже не царапнуть друг друга штыком! Также управлялись мы с пулеметами «ШКАС». А здесь… Что взять? Как взять? Большинство из нас их в жизни в руках не держали, инструменты эти! Впервые в глаза видели! Но мы хорошо поняли службу! Солдат – тот же артист! Шилом бреется, дымом греется! Армия! «Не знаешь – научим, не хочешь – заставим!» «Наши же-о-ны – ружья заряжены, наши матки – белые палатки!» Держи хвост пистолетом! «С родной земли не сгонят – дальше фронта не пошлют!..»
И вот мы уже, «быстро и четко разобрав инструменты» и затаив дыхание, расселись перед своими пюпитрами и смотрим на свое художественное начальство. Ждем дальнейших распоряжений. Все же Рыкину мы верили, как богу. Еще бы – до войны еще был артистом! Затем он нам успел все же кое-что объяснить. Мол, это будет «имитированный концерт», «концерт-пародия»… Швейк, конечно, знал, что он делает!
Между тем живот у нас подводило, под ложечкой сосало, будто в том месте полковые прибористы подключили большущую трубку Вентури… Что поделать, в это время мы привыкли обедать, а не «исполнять классику» на бесструнных и заплесневевших гнилушках. Солдатские желудки наши не желали терпеть подобный беспорядок. Однако Рыкин пресекал в корне всякое недовольство по этому поводу. «Великие голодали и творили!» – укорял он нас. В чем, в чем – в одном по меньшей мере он похож был на нашего командира полка Дерникова. Оба они обожали афоризмы и сленг, поговорки и всякую цветастую словесность.
Я с грустным любопытством взирал на малоутешительную метаморфозу в облике моего друга Васи Рыкина. Чем дальше, тем больше входил он в роль начальника! Бывали минуты, когда друг мой как бы вовсе растворялся, исчезал из моего восприятия и передо мной вырастала малосимпатичная фигура некоего двойника старшины Худякова, прославленного уставного служаки. Во всяком случае, Рыкин уже так виртуозно отчитывал нас, так упоительно поругивал, что мне становилось не по себе. Надо же, какой солдафон дремал в артисте – мотористе – стрелке-радисте!..
«Что же будет дальше? Эх, как власть портит человека!» – горестно подумывал я в те редкие мгновения, когда Рыкинская самодеятельность еще оставляла возможность для мимолетной мысли.
Все же, как бы там ни было – Рыкин еще раз угадал наши сокровенные чаяния, связанные тогда вовсе не с артистической славой и честолюбивой карьерой в искусстве, а более чем прозаичным полкотелком щей, несколькими ложками каши-размазни из ленд-лизовского гороха и двухсот пятидесяти граммовой пайкой хлебушка. Все же, видать, был он наш брат…
– Последний удар по врагу, братцы, – и через пятнадцать минут отправимся на обед! Сам быка проглотил бы и еще попросил бы чего-нибудь мясного на добавку! Сегодня вечером – наша, так сказать, премьера! Нажмем, братцы, – осрамиться нам никак нельзя! Иначе – за милую душу сможем стать губешниками, расстаться с нашими красивыми брезентовыми ремнями, полевыми погонами с голубой окантовкой, и возлечь на жесткое ложе из горбыля без матраца, но с неограниченным количеством клопов!.. Вы не любите клопов? Я тоже! Авиаторы и клоны – две вещи несовместные! Итак: трам-та-ра-ра – та-рам-па-па!
Я изумлялся энергии Рыкина. Он велел расплести несколько добротных еще, не совсем поржавевших, тросов и пряди – вместо недостающих струн – натянуть на наши покрытые плесенью и чем-то, напоминавшим свежевырытые трупы, инструменты: балалайки и домры, мандолины и гитары. Затем он, любезный друг мой, самолично своей острой финкой, сработанной из расчалки, вырезал два больших круга из старого брезента. Брезент этот, как я заметил, знавал лучшие времена и в тридцатых годах именовался не как-нибудь, а самолетным чехлом Р-10, представителя вымершего, забытого племени разведчиков. Рыкин работал, раскачивался, напевал, дирижировал. Что там какой-то Цезарь!
Круги он тут же натянул («присобачил», – сказал он) – на барабан. Однако, ударив раз-другой гантелями (чего только не было в этой чудо-землянке!), он остался недовольным глухим звуком. Безо всякого почтения тут же дал он барабану пинок ногой, откинув его навзничь и приказал мотористу Кузину вовсю лупить гантелями по железному боку барабана. «Так музыки больше! Бей в барабан и не бойся! Целуй маркитанку звучней!» – заключил Рыкин стихами, и Кузин безропотно принял к действию это ценное указание, подкрепленное авторитетом бессмертного Гейне. За неимением маркитанки он отдавал всю свою солдатскую мужественность железным бедрам барабана!
Кто-то выразил робкое сомнение в музыкальных достоинствах баяна. Неодобрительно покосившись на маловера, Рыкин, присев на бомбовую кассету, ловко, с хваткой настоящего баяниста, лично попробовал инструмент. Он, растянув насквозь прогнившие меха, силой стал их сдвигать обратно, пока они не раздулись вроде коровы, объевшейся клевером. При этом раздался скрип и скрежет, как если бы нерадивый хозяин закрывал на ночь свои немазаные ворота со ржавыми петлями. Баян тягуче и непристойно испускал утробный дух.
– Это то, что надо! – восхищенно причмокнул губами и поднял к небу палец Рыкин. – Музыка – не звуки – а ритм!
Посрамленный баянист, слегка покраснев, тут же поспешно, но бережно взял обратно бесценный инструмент из рук маэстро.
Вдруг Рыкин вскинул свою красивую голову, сделал нам рукой знак – «тихо!» и сосредоточенно стал к чему-то прислушиваться.
Женя Воробьев наяривал на мандолине «Светит месяц»! На миг он прервался, чуть подтянул какую-то струну, раз, другой, побренчал по ней, чутко проверив настройку (вместо медиатора – в пальцах зажимал он осколочек от спичечной коробки), и снова заиграл весело и задорно, как от древности до наших дней положено играть эту популярную у струнников мелодию. Нас даже оторопь взяла…
– Ты – что?.. Игра-ешь? На самом деле? – медленно, с расстановкой от изумления, спросил Женю Рыкин. Мы, не менее нашего художественного руководителя изумленные, окружили Воробьева.
– До войны я учился в музыкальном техникуме. Я и на скрипке могу, – оправдывался покрасневший Женя – сухопарый и молчаливо-застенчивый верзила из правофланговой половины.
– А еще что умеешь? – спросил Рыкин.
– На память могу «Турецкий марш» Моцарта, «Чардаш» Монти… Ну и другие… А по нотам – все…
– Ясно! – отрезал Рыкин. – Встать, ефрейтор Воробьев! Отправляйтесь к старшине Худякову и доложите, что вы мне не подходите! Пусть он мне немедленно пришлет замену. У меня – ансамбль! Мы числом берем, а не умением. А солисты и консерватóры – это, брат, совсем по другому адресу! Втерся в доверие!.. Диверсант! Происки врага!
Спохватившись, что слишком уж круто обошелся с ефрейтором, но все еще досадуя на этот курьез, Рыкин повернулся на носках и шикнул на нас: «Всем помнить о бдительности! Продолжать занятия!».
– А теперь общая установочка! – ровно через пятнадцать минут прервал нас Рыкин. – Слушать всем! Каждый подходи и получай ноты. Возложить на пюпитры – эти штуки пюпитрами называются, но это неважно – ноты! Чтоб публика видела – ноты это, а не моторные формуляры! Можно возложить верх ногами, но смотреть в них – загипнотизировано! Благоговея! Классика! И меня видеть! Начинаем по моей команде – я махну рукой – и кончаем – тоже по моей команде. Наконец, самое главное: никаких хиханек-хаханек! Не скалиться, не лыбиться. На чьей физии хоть малейшую улыбочку замечу – своею властью накажу! Как предателя и разгильдяя! Ясно?.. Вопросы есть?..
Вопросов не было. Любой, кто вздумал бы сейчас задавать вопросы, втихую получил бы хорошего тычка. Никакие пюпитры не спасли б его. Чтобы знал, как задерживать обед!
– Сколь скоро вопросов нет, – мрачно прохаживаясь перед строем и щурясь на нас, как Худяков, говорил Рыкин, – проведем генеральную репетицию! Максимум стараний – и тут же отправимся принимать пищу! Музыка должна быть самая громкая, а движения рук – сплошное мелькание! Поработайте так, как во время ручной подвески бомб по боевой тревоге, когда лебедки заперты в каптерке, а ключ в форменных штанах у мирно почивающего в гарнизоне инженера по вооружению!..
И снова мы поняли прозрачные намеки Рыкина. Ведь он оперировал не абстракциями, а, увы, конкретными фактами из еще не написанной истории нашего славного и ночного авиаполка пикирующих бомбардировщиков «Пе-2».
И мы уж во всю старались! Это была умопомрачительная какофония, и Рыкин, встав на бомбовую кассету, самозабвенно дирижировал. Он даже закрыл глаза от избытка чувств и чесал одну ногу ботинком другой. Ни земля, ни небо Монголии никогда не слышали подобной музыки! Будто завыл, заревел, заскрежетал целый зоопарк диких животных (а вместе с ним еще и колонна самых современных грейдеров и бульдозеров, с эскадрильей бомбардировщиков в придачу).
Вдруг Рыкин уловил какой-то изъян в дирижерской трактовке. Видно опять барабан подводил…
– Бей погромче! Не жалей гантелей – кого бояться! – крикнул он ударнику.
– Жрать охота, Вася… То есть, пардон, товарищ дирижер. После обеда – так грохну, что чертям и всем самураям тошно станет! Честное слово!
– Честное слово моториста – вещь серьезная! Ладно! Посмотрим!.. В колонну по одному – на обед – ста-а-новись! – залился соловьиной трелью, громко, точно нас было не пятнадцать человек моторяг, а целая армия, готовая ринуться в атаку, возгласил вдруг Рыкин наш скромный, по третьей наркомовской норме, технарский обед.
Отшвырнув инструменты, мы побежали строиться.
Три «Студебеккера», сомкнув свои горизонтально приспущенные борта, образовали довольно просторную сцену. Ее освещало несколько посадочных прожекторов (танцплощадка, пятачок наш пустовал сегодня) – один спереди, двое сбоку. У штаба полка, у продпункта и на проезжем тракте Рыкин распорядился заблаговременно вывесить три афиши – большие фанерные щиты, оповещающие всех о нашем концерте. Красным суриком (мы им метили бомбы перед подвеской) метровыми буквами на щитах было написано:
«25 сентября 19 часов
Концерт
Струнно-бомбокассетно-барабанного оркестра энской авиачасти.
Исполняется Хинганско-Ундурханско-Забайкальская классика в западно-модернистской интерпретации.
Универсальное соло на саперно-шанцевых инструментах в сопровождении авиамоторов на форсированном газу.
Пляски – ритуальные, самурае-погребальные, в меру нахальные и прочие из классической сюиты «Когда чертям тошно…»
Далее в алфавитном порядке и в невообразимо высоких музыкальных рангах перечислялись мы, оркестранты и исполнители сюиты «Когда чертям тошно». Не забыт был и «художественный руководитель – Маэстро из мотористов, Заслуженный гауптвахтник В.Л. Рыкин».
Одним словом, афиши были весьма внушительные, и не удивительно, что к началу концерта публики возле «Студебеккеров» набралось столько, что, казалось, по меньшей мере стрелковая дивизия военного формирования уселась на какой-то небывалый митинг. Передним даже сидеть не разрешили, им пришлось попросту лечь. Это был огромный полукруг сплошных гимнастерок и пилоток, редкими цветными вкрапинами на котором пестрели береты и косыночки вольнонаемных штабных девушек. На периферии – расположились наши гости – монголы, прибывшие в своих кибитках и верхом…
Как настоящие оркестранты, строго-торжественные, инструменты – на коленях, расселись мы перед своими пюпитрами с нотами. Наконец, Рыкин объявил первый номер «музыкальной программы». И, поднявшись на бомбовую кассету, взмахнул своей дирижерской палочкой (вернее, обломком биллиардного кия, прихваченным из той же землянки, столь счастливо сохранившей для нас весь реквизит сегодняшнего концерта).
Мы помнили уроки нашего учителя и, не улыбаясь, деловито взирая на ноты, вовсю дергали ухающие и стонущие авиационные тросы на наших гитарах и мандолинах, сжимали и растаскивали скрежещущие меха баянов. Все было солидно и умопомрачительно громко – глухой не смог бы пожаловаться, что не слышит!.. Кузин, ударник наш, – тот, что поклялся «честным словом моториста», клятву свою сдержал вполне: он с такой яростью колотил чугунными гантелями по железному боку барабана, что, казалось, – от этого непосредственно зависело, как скоро наступит приказ о нашей демобилизации…
Минут десять публика недоумевала и с напряженным вниманием смотрела на сцену, на оркестр, как бы силясь разгадать какую-то непостижимую загадку… Когда уже все вот-вот готово было разразиться оглушительным хохотом, Рыкин сделал знак коротышке Петрову, и тот, как подобает солисту, с достоинством шагнул на авансцену. В руках его все увидели новый, незнакомый инструмент.
По правде говоря, в руках у Петрова был самый тривиальный водяной патрубок системы охлаждения мотора. Не масляный, не бензиновый, а именно водяной, поскольку – как все могли видеть – он, согласно обдумчивой авиационной эстетике, был выкрашен в свой – ярко-зеленый цвет. Рыкин его стащил из палатки инженера полка Мельченко, где красивый патрубок хранился как сувенир в память печального «чэпэ» и очень грозного технического разбора…
Через этот, в полете, по недосмотру технарей, надпиленный (каким-то тросом управления) патрубок вытекла вода из мотора. Самолет вернулся с задания и благополучно совершил вынужденную посадку. А моторист Петров тогда прямо с техразбора, также благополучно, отправился на десять суток строгой гауптвахты…
Теперь моторист исполнял музыкальную импровизацию на тему «Так вот где таилась погибель моя». Уморительно приседая от натуги, Петров дул в трубу, не жалея ни легких, ни щек, и она стонала и выла, как бы и впрямь оплакивая свою печальную участь. Оркестр – с полным знанием дела – элегически и не очень громко, чтобы не заглушать солиста, осуществлял музыкальное сопровождение…
Трубу эту хорошо помнили все наши полковые технари. Шутка ли сказать, это ею, метая громы и молнии, целый час в гневе праведном, размахивал тогда на техразборе инженер полка Мельченко, великий мастер разносов! Это ее простирал он над нашими головами, предавая анафеме бедного моториста Петрова!.. Естественно, что выступление моториста у наших полковых, – да и не только у наших – имел огромный успех…
Номер с трубой уже шел к концу, когда я, дергавший тросы на контрабасе, заметил какое-то волнение в передних рядах. Это из подъехавшего «Виллиса» вышел генерал, командир дивизии Александров. Вслед за ним ступало разнообразное дивизионное начальство рангом ниже. Сзади шел адъютант – с адъютантской же – фамилией: Школенко.
Я видел, как мгновенно исчезли улыбки и прочие следы легкомысленного веселья на лицах Дерникова и Кудинова. Только что сидевшие рядышком на поверженной бомбовой кассете, они, при виде дивизионного начальства вскочили на ноги, точно целующаяся парочка, некстати застигнутая строгой мамашей.
Дерников сунул в карман кителя свою трубку и шагнул навстречу генералу. Слава богу, что устав в подобных случаях был снисходительным и не настаивал на традиционной команде «смирно» и рапорте. Мне вдруг жалко стало «батю», и я в душе проклинал и себя, и особенно Рыкина, чье дурачество сможет дорого обойтись командиру полка. Главное щиты-афиши – это уж было слишком…
Обменявшись рукопожатиями, командование полка гостеприимно уступило бомбовую кассету командованию дивизии. Судя по смущенному виду Дерникова и Кудинова приезд генерала и свиты был для них полной неожиданностью.
Только одному Рыкину было не до генерала. Не оборачиваясь – все так же спиной к публике – великая дирижерская привилегия – продолжал он управлять оркестром, возвышаясь на своем пьедестале.
Дерников и Кудинов, в напряженно-почтительных позах, замерли позади генерала и дивизионного начальства. Я, на миг приподняв глаза над нотами, увидел, как командир и комиссар полка, вытянувшись, внимательно следили за выражением лица генерала. Концерт Рыкина им, видимо, теперь, как и мне, казался страшным хулиганством. Они, верно, уже казнили себя за панибратство с подчиненными, за ротозейство и готовы были получить по заслугам от крутого командира дивизии…
Но вот последовал последний взмах Рыкинской палочки, она еще на миг, другой трепетно подрожала в воздухе, означив наивысшее звучание финала, и резко упала вниз, заставив замолкнуть оркестр.
Воцарилась тишина. Слышно было, как стрекотали движки прожекторов… Рыкин долго, со скромной церемонностью отвешивал поклоны.
Генерал оглянулся на командиров и вдруг, как от резкой боли, схватился за живот. Он так хохотал, что чуть не свалился с бомбовой кассеты. И тут же – словно одновременно пальнула добрая сотня крупнокалиберных ШКАСов, – публика разразилась взрывом смеха и аплодисментов.
Как положено артистам, мы почтительно и скромно кланялись. Никто не оказался «предателем и разгильдяем». Никто не усмехнулся. Затем мы снова садились к пюпитрам, снова вставали, снова кланялись, и, наконец, стоя с инструментами в руках, выслушали валом накатывающиеся на нас заключительные аплодисменты, прерываемые даже криками «банзай!» и «ура!».
«Держись, братцы!» – сделав разбойничью рожу, незаметно показал нам кулак Рыкин. Он имел в виду второе, хореографическое отделение… Все зависело от командира дивизии: останется или, найдя неподобающим для себя развлечение, – уедет.
Нет, генерал и не думал уезжать! Из кармана летнего комбинезона достал он сигарету, попросил у Дерникова огонька. Тот торопливо захлопал по карманам брюк и кителя, и, не найдя спичек, протянул свою курившуюся трубку. Генерал, не торопясь, внимательно рассмотрел трубку, одобрительно покачал головой, затем, изловчившись, прикурил от нее.
Рыкин, только на один миг стрельнув взглядом за край нашей сцены, полностью разобрался в ситуации. Короткая вспышка ликования на лице, и он снова уже воплощенная строгость и распорядительность. В качестве солиста – он начал со своей огнистой чечеточки!
«Ну, и талант!» – влюбленно подумал я, чувствуя себя в эту минуту готовым в огонь и воду за свое «художественное начальство».
Мы быстро перешли к последнему отделению концерта. Нет нужды говорить, что оно прошло еще с большим успехом, чем первое. Генерал хохотал до слез. И без того полнокровное лицо его, казалось, вот-вот лопнет от прилива крови. Он то хватался за портупею, то за ремень, то платок прикладывал к глазам. А в одном месте пляски, когда Рыкин солистом с уморительными вывертами и коленцами прошелся по недавнему противнику (с дуршлагом на голове Рыкин изображал самурая, сдававшегося в плен) – генерал не стерпел, даже ногами затопал от смеха. Нет, стоило нам потрудиться, чтоб так рассмешить генерала!
Одним словом, мы были довольны поведением нашего командира дивизии и по такому поводу пребывали в отличном настроении. Тем больше было оснований к этому у Дерникова и Кудинова…
Концерт затянулся. Мы, забыв про усталость, несколько раз бисировали и каждый раз все с тем же потрясающим успехом.
Еще раз громко заухали в ночи обрезки рельсов, по которым вовсю колотили ломиками прилежные дневальные. Подразделениям уже третий раз возвещался – отбой, святыня, на которую не смеет посягать срочная служба…
Последний раз мы бисировали специально для гостей, для монголов, которые после ухода полковых получили возможность подтянуться своими кибитками и лошадьми поближе. Мешая русские и монгольские слова, они выражали нам свой восторг и просили приехать – дать концерт в ближайших сомонах.
– Детишкам, мал-мал, смотреть!.. Шибко хорошо! Женчинам смотреть – ай-ай, шибко хорошо! Барашкам колоть будем, барашкам жарить будем! – галдели они, и мы кивали головой, что, мол, поняли, обязательно приедем. И в зыбком свете прожекторов было видно, как умиленно улыбались кирпично-красные и круглые лица наших гостей.
Мы сдержали свое обещание. Командира полка осаждали ходатаи, вернее то и дело прибывавшие верхом на лошадях гонцы. Барашков «за труды» мы честно передавали на пищеблок, в общий полковой котел… Дарители подчас не уточняли себя – кто и за что…
И странно, наша слава росла изо дня в день. Казалось бы – шутка, испокон веков не терпящая повторения, она должна бы давно исчерпать себя. Но не тут-то было. Нас еще – и еще раз хотели видеть и слышать! И не только в сомонах, и соседних полках. За нами стали приезжать танкисты и зенитчики, пехотинцы, а однажды даже из «химической части особого назначения». («Особсачки!» заметил Рыкин).
Все эти дни мы жили в каком-то нервном порыве, в небывалом воодушевлении – все куда-то мчались, спешили. Наш «реквизит» то и дело подвергался погрузкам в глубокие «Студебеккеровские» кузова. По ночам нам снилась огромная масса смеющихся лиц и мы сами улыбались во сне…
Рыкин с некоторых пор стал проявлять заметную тревогу по поводу наших успехов. Вскоре мне все стало понятным. Он показал мне помятый номер дивизионной многотиражки, в которой, между прочим, сообщалось, что к нам прибывает (наконец-то!) фронтовая агитбригада. Пока я читал два абзаца газетного петита, лицо нашего «художественного начальства» оставалось грустным. И глядя в какую-то невидимую точку впереди себя, Рыкин, вдруг, тряхнул своей красивой «седой» шевелюрой, то и дело ниспадавшей ему на глаза.
– А знаешь что, старик? Давай-ка отмочим такую штуку…
Наклонившись ко мне и сверкая своими смутительной голубизны глазами, в которых всегда плясали озорные чертики, он шепотом изложил мне свой план.
Я как-то не сразу сообразил, что это был замысел коварной и беспощадной мести. Глубоко, значит, затаил мой друг обиду на то, что его, почти профессионального эстрадника, не взяли во фронтовую агитбригаду!.. План был прост и неотвратим, как удар ножом в спину.
– В тот же вечер, когда должен будет состояться первый концерт агитбригады – выступим и мы. Отвлечем зрителей и оставим их с носом! – злорадно потирал руки мое «художественное начальство». – Вы – подчиненные и ничего не знали! Ваше дело – солдатское: исполнять приказ. Я за все в ответе… Зато какой это концерт будет – животики все надорвут! Я придумал совершенно новые номера. Кстати, где это наш консерваторник, Воробьев? Наконец, и его можно будет выпустить. Пусть исполнит на мандолине Сен-Санса. Он ведь сноб, воспитан на классике… А вместе с ним выпустим Петрова. Способный малый, доложу тебе! Наденем на него полную зимнюю обмундировку – полушубок, ватные штаны, валенки с галошами и шапку-ушанку. С патрубком исполнит «Умирающего лебедя». Уланову он в кино видел – ему это пара пустяков! Получится танец – экстра-класс! Высший пилотаж, а не танец! Эх, жаль генерала не будет… Теперь слушай сюда, как говорят тонкие знатоки русского языка города Одессы. Второй номер…
Я пытался урезонить своего друга и уважаемого художественного руководителя. Я говорил ему, что, дескать не «капказский человек» он; что кровная месть – низменный и варварский пережиток; что во фронтовую агитбригаду не взяли его потому, что у них тогда чечеточников и так уже было свыше штата; наконец, что он и без того –талант, а талант всегда пробьется – хоть ты его в землю закопай…
Рыкин, однако, стоял на своем. И тут же развернул свою бурную деятельность: снова раздобыл щиты-афиши, чтобы исправить на них дату и уточнить программу, принялся звонить в автороту насчет «Студебеккеров» и прожекторов.
Он уже готов был начать новую репетицию, когда запыхавшийся посыльный доставил ему прямо под крыло самолета пакет. Из штаба дивизии! Сургучных печатей, правда, на пакете не было. Значит, не секретный, тем более не совсекретный, – сразу же отметили мы, отложив домино.
– Что хорошего из дивизии пишут?
– Неприятность, Васек? В писаря зовут? – затревожились мы все, кто присутствовал при этом необычном событии. Ведь и вправду не каждый день получают ефрейторы персональные пакеты из штаба дивизии…
Рыкин молчал. Мы видели, как он даже слегка побледнел. Рука, когда-то бесстрашно швырнувшая парашют вместо «конуса», сейчас подрагивала. Наше «художественное начальство» было не на шутку взволновано.
«Видно, что-то и впрямь нехорошее», – подумал я, будучи не в силах вспомнить хотя бы один случай, когда Рыкин бы разволновался. Нет, на него это совсем не похоже было!
– Дела-а, братцы, – упавшим голосом проговорил Рыкин. – Читай. Громко – и с выражением!.. – отдал он мне письмо.
И я прочитал его, как велено было, – и громко, и – в меру возможностей – «с выражением».
«…Командиру части т.Дерникову. Заместителю командира т.Кудинову. Копия – ефрейтору Рыкину В.М.
Срочно откомандируйте в распоряжение начальника фронтовой агитбригады подполковника Лямзина С.П. ефрейтора Рыкина В.М. Обеспечьте его комплектом офицерского обмундирования первой категории, аттестатами по всем видам надлежащего офицерского довольствия.
Исполнение доложите.
Заместитель начальника политотдела
дивизии – полковник…»
Хоть подпись была неразборчива, но печать и внушительный типографский бланк не оставляли сомнения в подлинности документа.
Мы еще не вполне поняли, что теряем Васю, нашего полкового Швейка, друга и «любимца масс». Мы просто радовались удаче товарища. Лишь у него было все то же убитое лицо. Жаль было расставаться?
– Ка-ча-а-ать именинника!
– Два раза подбросить, один раз поймать!
Рыкин с притворным испугом стал отбиваться от нас. Юркнув из-под крыла самолета. Где на чемодане, пестрой змеей растянулась недоигранная партия «козла», он укрылся в кабине стрелка-радиста и захлопнул за собою люк. Еще мгновенье и вот он уже, как озорной малец, показывает нам язык и строит уморительные рожи сквозь плексигласовый купол турели. Но, видимо, решив, что и этого мало, он правой рукой, не забывшей еще прежнего дела, быстро повернул турель против нас. Вместо отсутствующего пулемета он на всю длину просунул левую руку с увесистой дулей, изображавшей, вероятно, мушку. Нам ничего не оставалось делать как поднять руки – «сдаваться».
– Ну, а как же с местью? – спросил я Васю Рыкина, вскоре вслед за ним пробравшись в кабину через незапертый люк.
– Отменяется, старик! А впрочем… Почему не привести в исполнение задуманное? Они – концерт для нас, мы – концерт для них. И посмотрим, где больше сбор будет!.. Но – если начальство разрешит! Я теперь снова артист – стало быть: дисциплинирован!
Неделю спустя концерты – оба притом, – состоялись. Трудно сказать где сбор был больше, но в чем можно быть вполне уверенным, так это в том, что в этот вечер никто в гарнизоне не скучал. Разве что суточный наряд.
А вскоре мы провожали Рыкина на поезд. Само собой разумеется, что «музыкально-бомбокассетная команда» прибыла на полустанок в полном составе. На Рыкине была новенькая офицерская форма и она пришлась ему к лицу как нельзя лучше. Без неуклюжих ботинок и обмоток, в ладно подогнанном обмундировании он вдруг предстал перед нами стройным, прекрасно сложенным и даже помолодевшим. Нет, не форма его – он красил форму…
– Поручаю ансамбль тебе! – завещал мне Рыкин. – Людям нравится, значит, продолжать стоит. Только не эпигонствуй – твори! Выдумывай! Пробуй! Правда, братцы?
«Братцы» откликнулись что-то без особого воодушевления. У всех было грустно на душе от близкой разлуки. Что же касается наследования командой, никто – и я первый – не верил, что мною, или вообще кем-нибудь иным, можно заменить Рыкина, наше «художественное начальство».
Приказ о демобилизации пришел через месяц, и мы разъехались кто – куда. Рыкин, ко мне дошли слухи, остался во фронтовой агитбригаде на сверхсрочную.