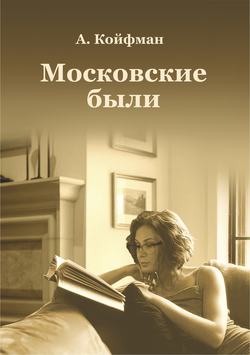Читать книгу Московские были - Александр Койфман - Страница 4
Время любить – время собирать камни
Глава 3. Время строить
Оглавление1981–1985 гг.
К этому времени я уже стала профессиональным редактором. Работать приходилось с неопытными авторами. Написав какое-то количество страниц и удивляясь самому себе, что удалось связать воедино столько слов, такой автор поначалу считает, что создал чуть ли не шедевр. А редактор должен исправить лишь грамматические ошибки. Не говоря уж о том, что на каждой строчке «шедевра» густо теснятся «я – я», творец совершенно не задумывается над вопросом, зачем он вообще написал свой труд. Какие цели преследовал, что он хотел сказать, описывая будни своего завода, шахты, колхоза? Каждый раз, когда редакционный совет принимал решение о публикации, предполагалось, что на то и редактор, чтобы из этой кучи предложений слепить нечто похожее на книгу. Ведь имеется план работы издательства, и там черным по белому зафиксировано, сколько книг необходимо выпустить в текущем году. Будь добр, работай.
Помню, Веня однажды привел на «среду» у Вали одного приятеля – сына известного переводчика с фарси. Назову его Саша, тем более что его действительно так звали. И Саша с юмором рассказывал, как отцу приходилось переводить на русский язык безграмотные вирши узбекских, таджикских поэтов. Сначала приходилось формировать подстрочники. Приходилось даже иногда самому выдумывать подстрочники, так как у автора не проглядывался смысл его строк. Потом создавался на русском языке совершенно новый текст. Авторы были безумно признательны переводчику, и признательность выражали конвертами с деньгами и ценными подарками. Ведь без публикации сборника на русском языке им было не попасть в Союз писателей. А это кормушка на всю жизнь: должности, творческие командировки за счет Литфонда, гонорары за любую чушь, которую обязаны печатать местные издательства. Книги все равно не читают, их сваливают в подвалы, а авторы получают положенное вознаграждение.
Вот так же приходилось работать и с русскоязычными авторами в нашем издательстве, то есть переводить их труды с русского языка на русский. Правда, судьба этих книг была аналогичной. Их сваливали в подсобных помещениях торгов и магазинов, так как те не имели права отказаться от литературы партийных издательств.
Было одно существенное отличие: русскоязычные авторы не имели обыкновения что-то дарить редактору кроме цветов. Ведь они тоже почти ничего не получали (кроме незначительного авторского вознаграждения) за свой труд. Только моральное удовлетворение. Бывали, конечно, исключения, когда автор, изумленный преображением своего текста, вручал какой-то подарок, усиленно приглашал в ресторан или, смущаясь, пытался вручить конвертик с пятьюдесятью рублями.
А над текстом очередной книги приходилось работать больше месяца, снова и снова возвращаясь к давно проработанным страницам, каждый раз находя все новые упущения или возможности чуть-чуть улучшить текст. Часто, когда выпуск книги задерживался, приходилось брать рукопись домой и просиживать над ней допоздна.
Некоторые из относительно молодых авторов пытались установить неформальные отношения, но я всегда была категорически против этого.
Стандартный случай. Дают мне утром четверга в работу «труд» директора угольной шахты в Кузбассе и знакомят:
– Петр Васильевич Приходько, директор шахты «Первомайская». А это Ольга Афанасьевна, она будет редактировать вашу книгу.
Приходько – здоровенный дядька лет пятидесяти, плечи – во, кулачищи огромные, лицо обветренное, грубое. Встает, пожимает мне руку, говорит, что очень рад. Уходим в мою комнату, и я, не раскрывая толстенную рукопись, начинаю его расспрашивать о шахте. Он преображается, начинает с гордостью рассказывать, как его шахта перевыполняет планы, какой спаянный коллектив на шахте. Минут через пять прерываю его и начинаю выяснять, долго ли он писал текст, проверял ли кто-нибудь грамматику. Он начинает путаться.
Понятно. Текст, возможно, судя по его рассказам, писал кто-то другой.
На этом нельзя заострять внимание, пока не познакомились поближе, пока он еще не доверяет мне. Спрашиваю его, надолго ли приехал в Москву, сколько у него времени на работу по книге.
– А чего там работать? Книга написана, нужно посмотреть опечатки и запятые. Я в них немного путаюсь.
– Да, конечно, мы все посмотрим. Но сначала я должна прочитать книгу.
– За пару дней прочитаете? Мне ведь в воскресенье улетать.
– Нет, думаю, на первое прочтение уйдет неделя.
– А что так долго? Я ее прочитал за два дня. А ведь это после работы.
– Но редактор читает совсем по-другому. Я должна вдуматься в текст, понять, зачем вам нужен каждый абзац, почему вы написали его именно так. И каждую главу рассматривать отдельно.
– Я не понял, извините. Почему рассматривать каждый, как его?
– Абзац?
– Да, абзац. Раз написано, значит, наверное, нужно.
– Обычно каждая мысль, положенная в основу абзаца, нужна. Но часто абзац или построен неправильно, неточно выражает главную мысль, или, иногда, вообще не несет никакой нагрузки, является лишним.
– Если лишний, вычеркните его да и все.
– Но для этого я должна посмотреть, не связан ли он с другими местами в тексте. Не опирается ли на него какая-то мысль.
– Что-то очень сложно. И сколько все это займет времени? У нас меньше чем через три месяца юбилей. Я хотел бы раздать людям книгу перед праздничным собранием.
– Очень мало времени. Я, конечно, постараюсь уложиться в полтора месяца, но вы поговорите с нашим главным редактором, чтобы он нажал на типографию. Они могут протянуть целый месяц, а могут сделать все за две недели. Ведь нужно еще будет отправить вам тираж.
– Весь тираж не нужно, нам хватит штук сто. Я буду вручать только передовикам. Так что можно будет отправить авиа. Мы оплатим доставку. А остальные книги можно раздать в торгующие организации, как обычно. Мне ваш главный так говорил.
– Вы можете улететь в понедельник вечером? Я тогда подготовлю основные вопросы к понедельнику. И мы сможем обсудить все здесь до обеда. Это помогло бы ускорить работу. А сейчас я хотела бы посмотреть книгу «вчерне». Мы можем встретиться здесь после обеда, часика в четыре?
– Как прикажете. Это у меня главная цель командировки. Есть, конечно, и дела в министерстве, но их можно отложить.
– Прекрасно, значит, сегодня в четыре часа.
Я даже не пошла на обед, только перекусила бутербродом. Листала книгу, кое-где читала отдельные места. Во что-то целое не сложилось. Обычный набор ошибок построения: путаница в людях, перечисление личностей, о которых потом ничего не говорится, разрывы в описании событий. Нет, не специальные, для создания особого эффекта. Просто автор перескакивал иногда через десяток страниц и начинал потом снова говорить о том, что уже упоминалось. Ясно только, что основной герой не директор, а сама шахта. Хоть это хорошо. Но представляю, как интересно будет это читать постороннему читателю, не работавшему на этой шахте, или хотя бы на другой, аналогичной. При тираже двести – триста экземпляров книга вполне могла бы найти своего читателя. Но ведь главред говорил о пяти тысячах.
Я не обращала внимания на стиль, на грамматические и синтаксические ошибки. Это все ерунда, это исправимо. Но основной идеи книги, вокруг чего должно строиться все описание, я не вижу. Наверное, об этом и не думали. Пока это груда, перечень фактов и несколько маленьких описаний истории развития шахты. Уже около четырех, а у меня только несколько закладок на совсем непонятных мне местах.
Ровно в четыре пришел отдохнувший, немного порозовевший Петр Васильевич:
– Уже прочитали? Здорово. Я даже не ожидал этого.
Он просто увидел, что рукопись раскрыта на одной из последних страниц.
– Много вопросов?
– Я не прочитала – проглядела. И вопросов пока мало. Вот скажите, зачем здесь рассказывается о том, как красиво танцует Людмила Осиповна? Ведь здесь перечисляются передовики, работающие под землей на врубовых комбайнах. А она вроде из заводоуправления?
– Что? Как она сюда попала? Это ж нормировщица Люська! Та еще бабенка. Вот…
Он явно хотел выругаться, но остановился.
– Вот черт этот Парасюк. Вставил свою зазнобу среди передовиков.
– Кто такой Парасюк и почему он что-то вставил в вашу книгу?
– Понимаешь, милая, я тебе как на духу скажу, у меня ведь не было времени писать столько страниц. А в райкоме потребовали, чтобы на обложке было мое имя. Мол, так солиднее. Я поручил писать начальнику отдела научной организации труда, все равно ему нечего делать. А он поленился и перепоручил все этому Парасюку. И даже не проверил.
– Но вы читали книгу?
– Конечно, читал. Но знаешь, на пятой странице уже так спать хочется. Я ее два дня читал, вроде все правильно, ничего он не переврал. Просил нашего инженера по технике безопасности прочитать. Он говорил, что все нормально. Да вырежи ты эту Люську, и дело с концом.
– Петр Васильевич, я ведь это только как пример привела. Мне нужно понять, что здесь главное для вас. Я сейчас не о том, что написал ваш Парасюк. Это все можно исправить. Но что вы хотели показать здесь? Есть ли что-то, за что вы боролись? Не только вы, но и весь коллектив. Что мешало? По нашей терминологии: в чем был конфликт?
– Да вроде ничего не мешало. Я бы конфликтов у себя на шахте не допустил.
– Ну, может быть, начальство не давало денег на перевооружение шахты? Может, кто-то ставил палки в колеса?
– Олечка, да зачем же писать о плохом? И так в жизни много плохого, еще и в книгах об этом писать.
– Но иначе читателю не интересно. Если нет конфликта, то это уже лакировка.
Здесь Петр Васильевич забеспокоился.
– Нет, лакировки тоже не должно быть. За это в райкоме не похвалят. А что ты посоветуешь?
– Давайте так, вы подумайте дома, что мешает шахте и как вы с этим боретесь. Приедете, и мы обсудим, исправим, вставим что нужно, что бы хоть что-то было в книге интересное.
Мы еще посидели минут сорок. Я указала на несколько совсем непонятных мне мест. Автор с изумлением слушал, всматривался в текст и тоже ничего не мог сказать, только ругался (про себя). Потом он посмотрел на меня, сказал, что доверяет мне полностью, разрешает править так, как я посчитаю нужным. Пообещал, что через две недели будет в Москве «как штык».
Я захлопнула рукопись: добилась некоторого взаимопонимания. Петр Васильевич обрадовался.
– Может быть, я угощу тебя ужином? Не подумай чего. Просто ты здесь сидела без обеда, читала эту галиматью. Ну Парасюк! Будет ему на орехи. Оставлю без премии.
Он уже давно перешел на «ты». Вероятно, ему это удобнее и привычнее. Я рассмеялась.
– Спасибо, Петр Васильевич, за заботу. Но я поеду домой.
– Что, дети ждут?
– Нет, но у меня дела дома.
– Ну как знаешь. Тогда до понедельника. А потом я дней через десять приеду.
Дальше события развивались по обычной схеме: я подготовила кучу вопросов, на которые Петр Васильевич в понедельник не смог ответить и перепоручил мне придумать, что бы это могло означать. Мы с ним поработали через полторы недели целый день. Потом я сидела неделю и еще раз перерабатывала сюжет. Затем выверяла нестыковки, сформировала на что-то похожее начало. Еще неделю работала над стилем. И наконец пошла самая простая часть работы – устранение его и моих ошибок, опечаток. К этому времени от исходной рукописи мало что осталось, и я сдала ее перепечатать. Так как главред нажимал, рукопись перепечатали за два дня. И я снова уселась за чтение и устранение нестыковок, опечаток. Наконец смогла сдать рукопись корректору. Еще четыре дня, и можно было сказать приехавшему Петру Васильевичу, что он может подписать готовую рукопись. Он даже не стал читать, только заглянул в начало, увидел, что там ему ничего не знакомо, молча подписал и сказал в очередной раз:
– Олечка, я тебе полностью доверяю. Если ты сделала так, значит, так и нужно. Давай скорее передавай в типографию, я пришлю парочку парней, и они увезут нужные мне сто экземпляров в багаже. Нет времени отправлять по почте.
Мне действительно осталось только подписать у главреда. Все, остальное – не моя забота. Можно законно отдохнуть пару деньков. Начальство не прицепится.
Год после разрыва со Степаном психологически был очень трудным. Я значительно реже стала посещать «среды» у Вали, так как там мне все напоминало о Степане, да и можно было столкнуться с ним лицом к лицу. Мы снова стали было встречаться с Ниной, но меня уже шокировало ее постоянное стремление знакомиться и завязывать отношения с все новыми и новыми мужчинами. Это был период, когда муж ушел от нее окончательно.
Разошлись мы с Ниной после того, как она заболела сифилисом. В 1982 году лежала в больнице в Москве. Степан, единственный из наших общих знакомых, навестил ее там. Как он пробрался в эту больницу, где только заразные больные, – не знаю. Я не решилась посетить. Вылечилась она потом где-то в Средней Азии, отправленная туда родителями. Один раз звонила мне после возвращения в Москву, но дружба с ней как-то не возобновилась.
Немного скрашивали одиночество редкие встречи с Веней. Нет, отношения у нас по-прежнему оставались просто дружескими. Я великолепно помнила свой прежний афронт. Мы встречались иногда у Вали на «средах». Именно в это время Елена Владимировна рассказала мне случай, когда она увидела пассию Вени. Мы шли с ней от Вали к метро, но остановились у кинотеатра «Октябрьский» и стояли, пока она выкладывала, посмеиваясь, эту сплетню. Клара – начальник отдела кадров их института – однажды «по секрету» сказала ей, что видела, как Вениамин Семенович дожидался кого-то на углу Среднего и Большого Николопесковских переулков. Это как идти от театра Вахтангова к Новому Арбату. Потом подъехала машина, за рулем которой была относительно молодая женщина. Вениамин Семенович сел в машину, и они уехали.
– Представляешь, Оля, мне, конечно, стало очень интересно. Ведь Веня ни с кем в институте не заводил шашни, а у нас это очень необычно. Многим на работе хочется отвлечься от семейных дел, семейных обязанностей. Поэтому пары возникают и расстаются очень часто. Парторганизация к этому относится спокойно, лишь бы скандалов не было, но в курсе всегда нужно быть. Естественно, я пару дней смотрела, куда Веня направляется после работы. А на третий день увидела – действительно, стоит наш Веня, озирается. Все уже ушли с работы, дураков нет задерживаться, вроде и озираться незачем. Но он, видно сразу, чего-то побаивается. Подъезжает машина, внутри дамочка, он прыгает в открытую дверцу – и был таков. Но я-то стояла чуть впереди, там движение одностороннее, мне все видно. Разглядела дамочку. Ничего так, чуть моложе нашего Вени – лет тридцати пяти, очень ухоженная, я бы даже сказала, что симпатичная. На следующий день прижала нашего Веню в коридоре, ухватила за пуговицу, чтобы не слинял, и говорю ему: «Колись, Венечка, с кем ездишь на машине? Кто такая, почему я ничего не знаю?»
Не буду пересказывать в деталях, но Елена Владимировна поведала мне по секрету, что, оказывается, Веня уже два года периодически встречается с супругой начальника одного из главков их министерства. Она увозит его обычно на дачу своих родителей, где они имеют возможность побыть вместе, когда муж уезжает в командировку. Вот и объяснение, почему он ведет себя в институте так странно. Она рассмеялась:
– Я однажды расставила ему сети: он же мне нравится. Поехали к одному из наших ребят домой. Хозяин одинокий, очень понятливый, смылся минут через пятнадцать, успев приготовить нам кофе. Отличное у него, к слову, кофе. Он его готовит на горячем песке, подогреваемом снизу спиралью. Извинился, что на полчасика должен отлучиться. А Веня наш сделал вид, что ничего не понимает. Проболтали с ним эти полчаса и разошлись, когда хозяин вернулся. Вот уж хозяин потом посмеялся надо мной, когда я ему все рассказала.
Когда я спросила Веню о его приятельнице, он неохотно ответил:
– Их брак был обговорен в свое время родителями. Почти династический союз. Отцы – видные руководители этого же министерства – работали вместе еще со времен войны. Его отец, уходя на пенсию, хотел держать руку на пульсе министерства. Поэтому предложил отцу Марии устроить этот брак. Это было лет пятнадцать назад. Значительно позднее отец Марии ушел на пенсию и успел серьезно продвинуть карьеру ее мужа. Теперь он верный кандидат на пост замминистра. Но детей у них нет, каждый живет своей жизнью. Главное, обговорили, чтобы все было без скандалов.
Как-то я предложила Вене сходить вместе на финал международного конкурса танцоров балета. Он обычно не любил ходить на спектакли, так как плохо слышал, но здесь-то не нужно ничего слышать. Мне было приятно, что Вене конкурс понравился. Он удивился:
– Не предполагал, что между исполнителями, занявшими первые, вторые и третьи места такая большая разница в технике исполнения. А, главное, что это заметно даже мне, ни разу не бывавшему на балете.
В январе очередной, весьма влиятельный московский автор подарил мне два билета в Большой театр на «Щелкунчика». Я пригласила Веню, потом он достал билеты на «Жизель». Удивительно, мы встречались всегда либо у Вали, либо на улице. Ни разу он не пригласил меня к себе, а я тоже не приглашала. Почему мы так вели себя тогда – не знаю.
Веня спросил однажды, закончила ли я писать тот детективный рассказ, который мы когда-то обсуждали. Пришлось признаться, что бросила его. Не хватает терпения писать страницу за страницей.
– Но ты ведь журналист по образованию, неужели так и будешь только править чужие тексты?
– Добавь, чужие осточертевшие тексты. А ведь раньше с жаром бросалась на них. Было даже интересно смотреть, как тексты преображаются под моим воздействием.
– Так кто тебе мешает? Что, нет сюжетов? Давай выдумаем.
Веня в это время перешел от увлечения Италией двенадцатого – пятнадцатого веков к истории Пскова. Почему именно Пскова – не представляю. И он на следующей встрече через неделю предложил свой сюжет.
«Два мальчика сидят на берегу реки Великой у костра после рыбной ловли, мечтают о дальних странах. Потом они пробираются через подземный ход (зачем подземный ход, не помню) в Псков. А дальше, сопровождая отряд, разгромленный ливонскими рыцарями, попадают к немцам в плен. Один из них погибает во время побега, но второй убегает, странствует по Германии и оказывается в Италии. Там он становится подмастерьем у скульптора, работает по металлу, пишет картины, учится инженерному делу и потом возвращается в Новгород».
Дальше уже не помню.
Сюжет он подробно рассказал и предложил мне писать роман. Тогда это был вполне пробивной сюжет. Под него при старании можно было бы получить аванс в подходящем, но не нашем, издательстве. Я посидела над текстом, написала несколько страниц, почему-то описывая мирный вход молодого Александра Ярославича в Псков и воодушевление народа. Но Веня сразу раскритиковал, мол, мирного входа не могло быть. Впервые Александр Невский вошел в Псков примерно в 1242 году, но это был отнюдь не мирный вход. Да, ему был только двадцать один год, но он с большим трудом выгнал тогда из Пскова ливонцев и пригласивших их бояр. Я как-то увяла, написала еще что-то и остановилась. Не чувствовала этот сюжет. Так это и осталось все на бумаге.
Других сюжетов Веня не предложил, к тому же наконец в ближнее Подмосковье переехала его жена с ребенком, и ему стало некогда заниматься чужими проблемами.
В это же время у меня была случайная связь с юношей из соседней редакции нашего издательства. Немного стесняюсь этих воспоминаний, так как связь курьезная. Его по блату после школы пристроили в редакцию. Я заметила, что он всегда, когда встречает меня в коридоре, смотрит на меня (вернее на мой бюст), немного приоткрыв рот. Смешно, здоровенный парень и такой балбес. Но как-то я купила книжные полки на стенку (копила деньги несколько месяцев, вернее откладывала случайные деньги – подарки благодарных авторов). Просверлить дырки в стене, повесить полки – все это не для женщины. Когда он в очередной раз уставился на мой бюст, я улыбнулась ему и спросила, не может ли он помочь мне повесить полки? Он с радостью согласился. Усердно сверлил стену, завинчивал шурупы, в общем, старался. Полки мы повесили, я его накормила, даже налила стаканчик вина и похвалила. Он на меня глядел такими бараньими глазами, что я не выдержала, рассмеялась:
– Ты так хочешь туда? – и показала на кровать.
Он не смог ничего сказать, только сглотнул и кивнул головой, испуганно глядя на меня. В общем, туда мы и пошли. Он еще пару раз заходил ко мне, но на третий раз я его не пустила на порог. Ни к чему мне такая связь. Тем более что он был очень неумелый и торопливый.
В 1983-м временно перешла на работу в музей «Абрамцево». Это случилось спонтанно. Летом пошла за водой на заветный родничок и познакомилась у него с Аллой – заведующей фондами музея. Поболтали, я рассказала, чем занимаюсь. А она пригласила в музей, посмотреть, «проникнуться старинным барским духом». Столько лет я снимала летом поблизости дачу, несколько раз заходила в музей, даже приводила туда знакомых, но была только в мемориальных комнатах. Конечно, интересно пройти по музею не как экскурсант. На следующий день после завтрака дошла до музея. Алла встретила меня и показала не только стандартный маршрут, но и рабочие помещения фонда.
Только здесь я поняла, что приглашение было не случайным. У них как раз уволилась девушка, занимавшаяся литературным наследием. И Алла предложила перейти к ним работать. Она тут же пошла к директору, обговорила с ним все и представила меня. Мне показалось, что директору совершенно безразлично, кого Алла хочет взять на работу, но несколько формальных вопросов он задал. А потом сказал, что в течение месяца музей будет держать для меня ставку.
Я пару дней думала, посоветовалась с нашим замом главного редактора. Он сразу сказал:
– Иди без раздумий. Нельзя сидеть много лет на одном месте. Я последние пять лет сижу здесь, потому что пора на пенсию. А ты молодая, тебе расти нужно. Без движения, как ты вырастешь?
– Туда далеко ездить, а зарплату только чуть-чуть обещают увеличить. Да и с нашей редакцией расставаться жалко.
– Но там новые люди, новые идеи. Вот ты сколько времени уже здесь сидишь? А делаешь то же самое, что и два года назад.
В результате я пошла к главному и положила на стол заявление.
– Закончишь книжку – и пожалуйста. Но помни, я тебя назад приму, если там не понравится. Другое место не ищи.
Никогда не думала, что он обо мне такого мнения: ведь раньше ни разу не хвалил, только ворчал:
– Давай, давай, что-то ты долго возишься со своей книжонкой.
Конечно, я не представляла себе, что мне придется делать в музее. Видела картины, неплохо знала, какие знаменитые художники работали в поместье во времена Аксаковых и Мамонтовых. Поместье для меня было окутано ореолом славы этих имен. Но когда за неделю ознакомилась с литературной частью музейных коллекций, все несколько поблекло в моих глазах. Да, около двух тысяч редких книг, более двух тысяч рукописей. Это, безусловно, богатство. Но это богатство для искусствоведов, занимающихся историей живописи и художественных промыслов девятнадцатого века. А меня интересует литература. И количество имен литераторов, связанных с поместьем, оказалось совсем небольшим: Аксаков, Гоголь, Тургенев. Несколько позднее Бунин и Шмелев. Если не считать Аксакова, все остальные мало связаны с этим поместьем. А книги Сергея Тимофеевича Аксакова мне совсем не интересны.
В университете я интересовалась творчеством Лермонтова. Причем не поэзией, а его прозой. В чемоданчике хранила свою курсовую работу по раннему творчеству, в основном по роману «Вадим». Можно назвать его романом, как я предпочитала, можно скромно обозначить как повесть. Меня привлекали в нем романтика, упоение свободой. Конечно, я доказывала в своей курсовой работе поэтизацию автором расправы, учиненной угнетенными народными массами над «верхами». Я правильно заметила, что Лермонтов обратился к этой теме раньше Пушкина, и делала акцент не на мысли «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Показывала фатальную предопределенность восстания. Восстания Пугачева могло не быть, но было бы другое восстание, на пять, на десять лет позже. И я старательно пыталась показать свое понимание процессов, происходящих в обществе того времени, на десяти листах своей курсовой работы. За курсовую получила пятерку, но теперь, когда вынула ее из чемоданчика и пролистала, только рассмеялась. Рассмеялась, так как вспомнила, как усердно переписывала свои умозаключения и выводы из трудов маститых авторов, не заботясь даже хоть чуть-чуть переработать их.
Мне хотелось продолжить свои «изыскания» в области лермонтоведения, но фонды музея не давали на первый взгляд никакой надежды найти что-то новое, неизвестное. Я поделилась своими сомнениями с Аллой. Она в ответ рассмеялась. Фонды в порядке, новые поступления достаточно редки. Кто тебе мешает работать над интересующими проблемами?
Два месяца изучала все, что было написано о творчестве Лермонтова. В библиотеке музея почти ничего не было из интересующего меня, но Алла сразу же разрешила ездить два дня в неделю в Ленинскую библиотеку. И вот я, перегруженная информацией, сижу и думаю. Опять изучать, как реалисты сороковых годов развивали тенденции, намеченные в «Княгине Лиговской»? Исследовать, как его проза уравновешивала влияние ранних рассказов Гоголя на творчество последующих писателей? Заниматься проблемами интерпретации образа лишнего человека в романах писателей середины и второй трети девятнадцатого века?
Да и Тургенев в образе Базарова развивает в новую сторону идеи «Героя нашего времени». Если во второй части романа Герцена «Кто виноват?» масштаб драмы сопоставим с коллизией лишнего человека Лермонтова, то ничтожный Лучков в «Бретере» Тургенева является как бы тем же Печориным, искаженным кривым зеркалом. И Авдеев в «Тамарин», и Писемский в повестях «Тюфяк» и «М-r Батманов» пытаются, довольно успешно, развенчать «печоринство», довести его до уровня пошлости.
И что уж говорить о Раскольникове Достоевского, в котором некоторые из худших черт Печорина доведены до крайности, до возвеличивания собственной вседозволенности, права судить людей и решать их судьбу. И совсем гротескно образ Печорина трансформируется в Ставрогине («Бесы»). Это уже памфлет, полностью принижающий «печоринство».
Все это хорошо, это интересно, но уже давно раскрыто в диссертациях и книгах маститых литературоведов. Трудно с ними состязаться. И ни к чему. Я решила не распыляться, ограничиться влиянием стиля, структуры и символики «Героя нашего времени» на литературу конца девятнадцатого – начала двадцатого века. Да, Чехов учился у Лермонтова точности, простоте и краткости построения фраз. А Лаевский и фон Корен в «Дуэли»: разве не повторяют оба многое из Печорина, но по-разному? Разве отсутствует личное сопоставление? Да и Лев Николаевич Толстой не гнушался позаимствовать кое-что из лермонтовского наследия.
И я начала работать. Благо, что над душой никто не стоял, никто не подгонял, не нужно было в срок чистить и сдавать в типографию чьи-то очередные опусы. К своему удивлению и у Набокова нашла реминисценции из «Героя нашего времени». А я считала, что хорошо знаю Набокова. И у других писателей то тут, то там находила осколки лермонтовских мыслей, лермонтовского миропонимания.
А жизнь в Абрамцево была совсем не похожей на прежнее мое существование. Я могла оставаться ночевать в хозяйственных помещениях музея на несколько дней, уезжая в Москву только на субботу и воскресенье. Могла бродить по любимым окрестностям, обдумывая прочитанный вчера материал. Могла просто лечь на пригорке, созерцать плывущие по небу облака и мечтать. И это были уже не мечты молоденькой девушки о прекрасном принце, приезжающем на белом коне. Это мечты о спокойной жизни с мужем, без чрезмерных забот о хлебе насущном, без неустроенности, пусть даже без эмоционального богатства жизни, но и без постоянных разочарований.
От работы над статьей, я уже называла про себя подготавливаемый материал статьей, меня оторвала Алла. Приближалась юбилейная конференция. Коллектив все силы бросил на подготовку мероприятия. А коллектив малюсенький, всем достались поручения. Мне поручили проблемы транспорта и проживания. Бесконечные звонки приглашенным, выяснение, когда прилетят или приедут, когда возвращаются, нужна ли гостиница. А потом заказ гостиниц, билетов на обратный путь. Хорошо хоть, что питание на меня не сбросили.
И вот день регистрации. Две молодые сотрудницы из отдела художественного наследия и я отмечаем прибывших, выдаем буклеты, записные книжки, авторучки и еще какую-то мелочь. Я выдаю картонки с названиями гостиниц и заказанными номерами, снова уточняю даты выезды. Часть гостей, не добившихся в своих организациях официальной командировки, направляем в нашу своеобразную гостиницу. Мы приспособили один из флигелей, поставили в комнатах кровати, сделали цивилизованные душ и туалет. Именно там я позднее оставалась ночевать, когда засиживалась над своей работой и не хотела возвращаться вечером домой.
Конференция меня не очень интересовала: доклады были о картинах, о жизни и жизненных перипетиях художников. Но на третий день после обеда (мы организовали питание, хотя это оказалось очень трудно) объявили вечер отдыха.
Молодежь даже немного потанцевала. Я себя уже не причисляла к молодежи и скромно сидела в уголке. Но ко мне подошел один из участников, мужчина лет сорока пяти, и стал задавать вопросы о жизни в этом захолустье, о том часто ли я езжу в Москву, не скучно ли мне.
Все понятно, тебе скучно, хочется развлечься с одинокой женщиной.
Сначала отвечала спокойно, но потом мне что-то совсем не понравилось, и я в упор спросила:
– А у вас сколько детей: двое или трое?
Вопрос ни к селу ни к городу, мужчина сразу съежился, как-то поник, ответил скороговоркой что-то невнятное и слинял. Потом мы проводили гостей: отвозили их партиями до станции Хотьково на микроавтобусе. «Праздник» кончился. И прекрасно. Можно снова заняться своей работой.
После обнаружения связи Набокова и Лермонтова я стала прочитывать подряд всех российских писателей начала двадцатого века. Действительно, то тут, то там из текстов, описывающих новые события, новые общественные движения, выглядывал каким-то краем Лермонтов. Писатели иногда даже не подозревали об этом. Литературоведы соотносили подобные места к «заимствованиям» из Чехова, Льва Николаевича Толстого, Достоевского. И я вдруг поняла, что это и будет основой моей работы. Изобретен термин «опосредствованное заимствование». И название работы: «Лермонтовское наследие в произведениях авторов двадцатого века. Опосредствованное заимствование».
Дальше все просто. Последовательно перечитывала всю русскую и советскую литературу первой половины двадцатого века, подчеркивала интересные места, составляла сводки и краткие выводы. Уже через полгода работа была готова. Я осмелилась выйти с ней на семинар в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Отпросилась у начальницы на пару дней, благо мое присутствие в музее обычно совсем не обязательно, поехала в Ленинград на набережную Макарова, дом 4, пообщалась с сотрудниками и получила приглашение на семинар. Семинар состоялся через три недели. Перед началом произошла небольшая заминка. Оказалось, что подготовленное помещение мало – пришло на удивление много людей – и мы перешли в зал. Доктор Прянишников – руководитель семинара – извинился за задержку и сказал, что люди пришли, так как на семинар приехал Михайлов. Я не обратила внимания на фамилию, так как ужасно волновалась. Мое выступление не вызвало большого интереса у аудитории, но после того, как я закончила говорить и ответила на пару вежливых вопросов, доктор Прянишников попросил подойти к члену-корреспонденту Валентину Павловичу Михайлову. Оказывается, у него тоже имеются вопросы, которые он хотел бы обсудить приватно. Я вдруг вспомнила: с ума сойти – Михайлов Валентин Павлович. Я великолепно помнила эту фамилию еще со студенческих времен, хотя в университете на его лекциях не была. Пушкиновед, признанный специалист и знаток всей российской словесности конца восемнадцатого, начала и середины девятнадцатого века. Что ему нужно от меня, какие у него могут быть вопросы?
Быстро собрала свои бумаги и подошла вместе с Прянишниковым к благообразному старичку, скромно сидевшему во втором ряду. Часть слушателей уже ушли, но он остался, и вокруг него столпилось несколько человек. Всмотрелась в него и вдруг узнала одного из приятелей Викентия. Мы были у него на Плющихе.
Очень хорошо помню, как Викентий представлял меня, называя в очередной раз музой. Тогда я не обратила внимания на его довольно распространенную фамилию. И разговор совсем не касался литературы, вспоминали постановки тридцатых годов. Собственно, разговор у них почти все время шел о пьесе Мейерхольда «Список благодеяний». Я в те годы вообще ничего не слышала об этой пьесе. А они сыпали именами и сценами. Порой мне казалось, что они говорят о разных пьесах. Михайлов напирал, что все сцены в Париже – безмерная глупость. Олеша, возможно, имел представление о Берлине, но так, как он описывает Париж и Лелю Гончарову в Париже – это ведь полнейшая чушь. А Викентий говорил о красоте Зинаиды Райх, как он жалеет, что ему не пришлось рисовать ее в костюме Гамлета. Ее гамлетовская походка – восхитительна.
Совсем ничего не понимаю. Где Гамлет, а где Париж? Почему у женщины «гамлетовская походка»? О ком они говорят: о Гончаровой или о Райх?
И тут вдруг Михайлов осекся:
– Викентий, что мы делаем? Спорим о давно ушедшей красавице нашей молодости и совсем забросили нашу милую гостью. Оленька, простите нас, старых.
Так мы были у знаменитого Михайлова?
– Я извиняюсь, Оленька, что отрываю вас. Но мне очень интересно снова увидеться с вами. Если не ошибаюсь, мы были знакомы лет пять тому назад. Нас знакомил Викентий у меня на Плющихе. Если я ошибаюсь, извините меня, Бога ради.
– Да, Валентин Павлович, это я, Ольга.
– Ну, слава богу, значит, не ошибся. Я хорошо помню тот ваш визит с Викентием. Викентий тогда был молодцом, не то что я. Видите, теперь только с палочкой.
– Викентий Нилович тоже с тросточкой ходил.
– Ну это он красовался. Постоянно тросточки менял. Впрочем, сейчас он тоже плох. Вернее, совсем плох. Вы, Оленька, давно видели Викентия?
– Да нет, как-то не приходилось в последние годы посещать его.
– А он о вас всегда вспоминает с теплотой. Называет последней музой.
– Почему последней? После меня у него была другая натурщица.
– Да, и не одна. Но он вспоминает только вас. Вас и ваши «лучистые глаза». Вы, наверное, видели его картину «Муза»? Вы там просто обворожительны.
Признаться, я даже не слышала об этой картине. Смущенно улыбалась, а он продолжал:
– Зайдите, зайдите к нему. Порадуйте старика. Впрочем, что это я все о Викентии? Я хотел сказать, что с интересом выслушал ваш доклад. Ведь специально приехал в Ленинград послушать его. Опосредствованное заимствование! Интересно звучит, главное, очень ново. Действительно, этот феномен иногда упоминается, но предметом серьезного исследования пока не был. Знаете, это даже звучит как заявка на серьезную работу. Я попросил бы вас подготовить тезисы вашего доклада, страницы на три, не больше. Опубликуем их в нашем очередном сборнике.
– Спасибо, Валентин Павлович. Обязательно подготовлю. А вы переехали в Ленинград?
– Нет, по-прежнему живу на Плющихе. Но теперь веду только спецкурс в университете.
– Еще раз спасибо вам. Постараюсь в ближайшую субботу навестить Викентия Ниловича.
Доклад сжала до трех страниц. Получилось не так доходчиво, многое пришлось опустить. А в субботу поехала к знакомому дому в Козицком переулке. Дверь открыла дородная женщина в белом медицинском халате.
– Вы к кому?
– К Викентию Ниловичу.
– К нему нельзя, он очень болен.
Из комнаты донесся знакомый голос:
– Мария Федоровна, кто там пришел?
– Викентий Нилович, это я, Оля, ваша натурщица, помните меня?
– Олечка? Мария Федоровна, ведите ее сюда скорее.
Женщина с явным неудовольствием пропустила меня в квартиру:
– Только недолго, Викентий Нилович очень плохо себя чувствует.
Викентий Нилович действительно выглядел совсем неважно. Он и раньше был худощав той старческой худощавостью, которая увеличивает количество морщин на лице, но делает пожилого мужчину стройным, подтянутым. Теперь на лице остались только вытянувшийся острый нос и глаза. И эти глаза смотрели на меня с улыбкой. Не знаю, насколько плохо он себя чувствовал в этот момент, но явно пытался радоваться.
– Олечка, какими судьбами? Ты присядь в кресло, мной тут командуют, но сейчас потерпят.
А голос, голос все тот же, хрипловатый, чуть насмешливый.
– Мне Валентин Павлович сказал, что вы немного прихворнули.
– Хорошо сказал. Немного! Да, он звонил, доложил, что видел тебя, расхваливал твой доклад. Очень меня порадовал.
– А что с вами, Викентий Нилович?
– Во-первых, просто Викентий. Ты что ж забыла, как меня называла? А болезнь простая – рак. Мой врач говорит, нужно готовиться. Впрочем, зачем тебе это? Я еще живой. Лучше расскажи о себе. Не вышла замуж? Пора бы уже.
– Нет, Викентий, никто меня не берет.
Я рассмеялась:
– Да я и не хочу замуж. Поздно уже.
– Что ты говоришь? Никогда не поздно начать жить с хорошим человеком. Другое дело, что хорошие люди не растут вдоль дороги. Открою тебе секрет: я очень жалел о том, что ты от меня уходишь.
– Что вы, Викентий. Это ведь вы сказали, что мы выполнили наш контракт.
– А что я мог сказать? Просить, чтобы ты осталась у меня еще на какое-то время? Признаться, я даже хотел предложить тебе двойную плату, но побоялся, что ты обидишься. А если по чести – совестно удерживать девушку возле старика. Знаешь, я все хотел предложить тебе деньги, что бы ты осталась еще у меня натурщицей, хоть на какое-то время, но стеснялся. Я же видел, что тебе нужно было расти не около старичка, а самостоятельно. Или, еще лучше, вместе со своим сверстником.
– Не надо так. Мне было хорошо около вас. Я ушла с сожалением.
– А я-то, старый дурак… Да что уж теперь говорить.
– Давайте о другом. Валентин Павлович говорил мне о картине «Муза». Стыдно сознаться, но я ее не видела.
– О, это лучшая моя картина за последние десять лет. Помнишь тот этюд? Я еще тебе сделал копию.
– Да, копия у меня дома, на стене.
– А у меня этюд в гостиной, будешь уходить – посмотри снова. По этюду и другим зарисовкам я два года работал. Говорят, получилось. Сейчас она в Третьяковке. Я обещал все картины отдать в музей, ведь племянники мои меня совсем забыли. Но этюд, если хочешь, завещаю тебе. Оставь свой телефон Марии Федоровне. Она медицинская сестра, но толковая, хотя и надзирает за мной, как Цербер. То нельзя, это вредно, будто мне жить еще несколько лет, а не недель.
Зашла Мария Федоровна и категорически объявила:
– Все, больше Викентию Ниловичу нельзя разговаривать и волноваться.
Как будто слышала, что говорил Викентий. А может быть, слышала.
На прощанье поцеловала его чисто выбритую щеку и вышла, пообещав зайти через неделю. В гостиной задержалась на минутку – на стене в простой деревянной рамке висел тот самый эскиз. Смотрела на него и мне казалось, что как будто и не было этих пяти-шести лет, что это я, молодая, смотрю сама на себя. Ладно, нужно уходить.
Специально пошла в Третьяковскую галерею, нашла «мою» картину и долго, долго смотрела сама на себя, молодую, оживленную, ждущую кого-то или что-то. И глаза у меня, действительно, лучатся, сияют. Картина не очень большая, только раза в два больше этюда. Но на этюде только я прорисована тщательно, а здесь свет, падающий из окна, освещает всю комнату, виден туалетный столик, собачка, лежащая на ковре, картина на стене.
Мне захотелось немедленно повидать Викентия. На этот раз Мария Федоровна встретила более приветливо.
– Проходите, только вряд ли он вас узнает.
Викентий лежал неподвижно, глаза открыты, но в них ничего не отражается. Мария Федоровна пожаловалась, что он только временами приходит в себя. Проходя мимо гостиной, обратила внимание на пустой светлый квадрат на стене, где раньше висел этюд. Его, аккуратно завернутый в плотную бумагу, мне вручила Мария Федоровна, когда я уходила. Сказала, что так велел Викентий Нилович. Еще через неделю она позвонила мне и сообщила, где будут похороны. Потом были похороны, а еще через две недели адвокат передал мне письмо. Что было в письме – не скажу. Это мое, личное.
А жизнь продолжалась.
Примерно в 1984-м удалось сменить комнату на однокомнатную квартиру на третьем этаже трехэтажного дома в прекрасном районе около метро «Динамо» (Планетная, дом 4). Незадолго до этого появился новый знакомый. Это был чех – Павел Шевчик. С ним меня познакомил Веня. Знакомство было шапочным, то есть встретила их на улице Маяковского, теперь это Мясницкая, около магазина «Чай-Кофе». А позднее, тоже случайно, встретила Павла, когда спускалась по Кузнецкому мосту, шла в Петровский пассаж. Нам было по пути, он что-то рассказывал о Праге, я проявляла из любезности любопытство. Неожиданно он предложил зайти в кафе на площади, выпить кофе. После кофе попрощались, я пошла в Пассаж, а он направился к улице Горького.
Через пару дней он позвонил мне на работу, оказывается, телефон ему дал Веня. Они были знакомы по коллекционным делам. У меня в это время не было никого, и мы несколько раз встречались. Пару раз сидели вместе вечером в кафе, просто гуляли по Москве. Не знаю, какой бизнес у него был, но чувствовалось, что деньги у Павла водятся. Он приезжал в Москву на две-три недели, потом уезжал в Прагу и Берлин. Что он делал, что возил – не знаю, но, когда у меня появился этот вариант обмена, и я рассказала ему о нем, он без удовольствия, но согласился оплатить его. Правда, думал два дня. Но это у него всегда так: никогда сразу ничего не решает.
Это были почти новые времена, платить пришлось две тысячи семьсот рублей. Просили три тысячи, но Павел выторговал десять процентов скидки. Спокойный, уверенный, он доказал, что платить нужно две с половиной тысячи, но он добавляет еще двести. Как это у него получается? Реально, он оплатил долларами. Рублей у него было не так уж много. Я сама никогда бы не смогла оплатить обмен. Ведь с зарплаты 100, потом 110 и 120 рублей денег на обмен не соберешь. Эта квартира до сих пор моя, и я иногда захожу в нее: посидеть, вспомнить молодость, да и пишется в ней лучше, чем в новой, трехкомнатной.
Как-то так получилось, что после этого мы стали встречаться у меня дома. Признаться, воспоминания о Павле не очень яркие, но нам было удобно бывать вместе. Он приходил всегда с бутылкой хорошего вина, два раза даже с французским коньяком. Приносил что-нибудь вкусное. Павел был молчалив, да и говорить по-русски ему было трудновато, хотя говорил он правильно. А я болтала, рассказывала ему редакционные новости. О политике мы не говорили: ни ему, ни мне это не было интересно. В постели он был нормальный, хотя немного скован. Нет, мне не нравятся мужики-экспериментаторы, постоянно ищущие в постели что-то новое. Но Павел был уж слишком традиционен. Ничего кроме позы миссионера не признавал. Однако трудился добросовестно, и мне не приходилось слишком стараться, чтобы получить полное удовлетворение. Пишу это потому, что мне со многими мужчинами не везло. Приходилось упрашивать их не торопиться. Даже Степану я иногда говорила, если чувствовала, что он уже на взводе:
– Подожди, не двигайся, я все сама.
О Викентии я не говорю, он старенький. Какой с него спрос? Но Терентий Федорович был просто свинья. Только позднее я поняла, что он вымещал на нас, молодых женщинах, свое огорчение за несложившуюся жизнь, выплескивал свое сожаление о несостоявшейся молодости, проведенной в казахской степи, когда голыми руками строили стены новых корпусов, когда не было ни сил, ни желания встречаться с девушками, да и девушек вокруг почти не было. Этими издевательствами он отыгрывался и за злобную расплывшуюся жену – малограмотную деревенскую девушку, поймавшую его на беременности.
Я была с Павлом восемь – девять месяцев. А потом он исчез. Долго не знала его дальнейшую судьбу. Вене не нравились мои отношения с Павлом, но он предпочитал не говорить на эту тему. Как-то упомянул, что у Павла были проблемы на границе и ему закрыли въезд в СССР. Уже в девяностые он еще раз упомянул о нем, рассказав о неприятных деталях смерти Павла. Чувствовалось, что у него имеются причины не говорить о нем ничего хорошего, но мне-то Павел не сделал ничего плохого, мне его было жаль.
Много времени ушло на устройство на новом месте: денег совсем не было. И снова одна – возраст уже не тот, чтобы легко знакомиться, ведь на танцульки не пойдешь. Знакомые по работе уже все женатые. Так, переспать разок все согласны, но на отношения не готовы. А зачем мне такое?
И вдруг я встретила у метро «Чистые пруды» Степана. Я шла мимо метро, а он только что вышел. Постояли, поболтали и пошли пешком по бульвару до Трубной площади. Я часто так ходила, если погода хорошая. Там я предложила зайти ко мне на чай, и он согласился, но предупредил, что времени не очень много. Мы зашли в метро и поехали ко мне. Я действительно напоила его чаем, немного поговорили о жизни и распрощались. Он упомянул, что жена и дети приехали уже к нему, поэтому он спешит домой, ехать далеко. Дала ему свои новые телефоны. Как ни странно, мы неоднократно встречались после этого, даже иногда проводили вместе время в постели, когда ему удавалось немного раньше убежать с работы. Обычно-то он на работе задерживался, я всегда возвращалась с работы раньше его. Меня немного удивляло, почему он продолжает встречаться со мной. Ведь семья уже приехала, не так просто выдумывать каждый раз причины долгого отсутствия. Он объяснил как всегда просто: «Я к тебе привык. Тянет меня к тебе».
Я как-то посчитала: со Степаном у нас были отношения не менее восьми лет, правда, с очень большими перерывами. Честно признаюсь, временами я мечтала, что он разойдется с женой, и мы будем жить вместе. Но это только мечты. Никогда он не обещал ничего подобного, даже когда я еще до поездки в Прибалтику обманула его, сказав, что беременна. Он тогда помолчал, потом сказал:
– Ну что ж, рожай. Я постараюсь помогать.
Я разозлилась, наорала на него, но понимала, что он действительно готов помогать, однако никогда не бросит свою семью. Но ведь и я не способна зачать и родить. Деньги «на аборт» он дал, пришлось взять, не скажешь же, что это все ложь. Тем более что я собиралась тогда купить телевизор, черно-белый. Злилась на него, недели три не разрешала приходить, но потом успокоилась.