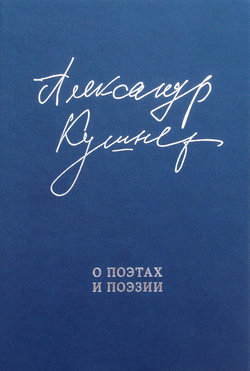Читать книгу О поэтах и поэзии. Статьи и стихи - Александр Кушнер - Страница 6
О Некрасове
ОглавлениеНекрасовская тема ушла. Должна бы, кажется, произойти катастрофа. Та самая, которую предсказывал Некрасов: «Прости меня, страна моя родная: бесплоден труд, напрасен голос мой!» Между тем поэзия Некрасова ощущается нами как живое, насущное явление. Причин для этого много. И может быть, главная – высота нравственного примера. Темы, как бы значительны они ни были, устаревают, отменяются. Но нравственные критерии, и прежде всего сострадание к чужим несчастьям, – остаются.
Если позволительно ввести в поэзию понятие тяжести, Некрасов – поэт тяжелый. Удельный вес его трехдольника – в самом низу шкалы.
Сказать, что весь Некрасов мне одинаково дорог и необходим, было бы преувеличением. Любовь к поэту, по-видимому, определяется потребностью в перечитывании его стихотворений. Пушкина хочется читать всегда и с любой страницы, открытой наугад. У Некрасова особенно дороги несколько стихотворений, прежде всего «Рыцарь на час», «В деревне», «Песня убогого странника» из «Коробейников», обе части стихов «О погоде», «Балет», «Мороз, Красный нос».
В русской поэзии голос Некрасова, некрасовский «звук» мне напоминает звук басовой струны, и я сравнительно недавно научился ценить это звучание. Так, я открыл для себя великолепные стихи «О письма женщины, нам милой!» с их горьким советом не перечитывать старые письма: «А то нет хуже наказанья, как задним горевать числом». Вообще поразительна некрасовская угрюмость, жесткость, какая-то неуклюжесть и стремление к нагой правде, как бы она ни была сурова:
Начнешь с усмешкою ленивой,
Как бред невинный и пустой,
А кончишь злобою ревнивой
Или мучительной тоской…
Эта некрасовская бескомпромиссность и определенность связаны с пренебрежением к поэтическим условностям. В том же стихотворении Некрасов не боится употребить прозаическое, неслыханное в поэзии слово «портфель», как будто речь идет не о женских письмах, но о журнальных рукописях: «О ты, чьих писем много, много в моем портфеле берегу!»
Еще удивительнее в этом смысле гениальные стихи «Слезы и нервы»: «Кто ей теперь флакон подносит, застигнут сценой роковой? Кто у нее прощенья просит, вины не зная за собой?..» Любовная лирика Некрасова, построенная на поразительной точности в передаче психологического портрета русского разночинца, втягивает в себя также замечательный бытовой, предметный материал, вплоть до посещения с любимой французской лавки:
Кто говорит: «прекрасны оба» —
На нежный спрос: «который взять?» —
Меж тем как закипает злоба,
И к черту хочется послать
Француженку с нахальным носом,
С ее коварным: «С'еst joli!»
И даже милую с вопросом…
Кто молча достает рубли,
Спеша скорей покончить муку
И, увидав себя в трюмо,
В лице своем читает скуку
И рабства темное клеймо?..
Все это представляется мне поэтическим бесстрашием Некрасова.
Некрасов исключительно строг к себе. Трудно найти другого поэта, который с такой беспощадностью изображал бы в стихах самого себя: «Погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей…»; свой день: «Я проснулся ребенка слабей. Знаю: день проваляюсь уныло, ночью буду микстуру глотать…»; свои пороки: «Друзья мои, картежники! для вас придумано сравненье на досуге…»; свой характер: «Мне совестно признаться: я томлюсь, читатель мой, мучительным недугом… Недуг не нов (но сила вся в размере), его зовут уныньем…»; свои заблуждения, ошибки, неверные шаги: «Зато кричат безличные: ликуем! спеша в объятья к новому рабу и пригвождая жирным поцелуем несчастного к позорному столбу…» Некрасов не щадит даже своей внешности: «Итак, любуйся, я плешив, я бледен, нервен, я чуть жив…»; он подсмеивается над собой вместе с крестьянскими детьми: «Такому-то гусю уж что за охота! Лежал бы себе на печи!»
Этот трезвый и саркастический взгляд на себя со стороны, эта способность явиться на глаза читателю в неприукрашенном и нелестном виде, этот строжайший суд над собой, наверное, и есть составная часть того, что мы определили словом совесть. Все это делает честь Некрасову-поэту. Мне кажется, самолюбование в стихах, некоторая доля рисовки, приписывание себе всяческих достоинств и боязнь предстать перед читателем в своем подлинном, не всегда героическом облике – одна из досадных и неизвинительных наших слабостей. Надо сказать, что и редакторы часто поощряют нас в этом, не одобряя наших робких попыток сказать о себе нечто, принижающее нас. Им тоже нравится, когда поэт выглядит в стихах молодцом. Между тем в школе Некрасова мы могли бы научиться настоящему мужеству, поэтической и человеческой смелости.
Вообще способность смотреть в глаза ужасу – одно из главных свойств Некрасова. Не знаю ничего страшней и неистовей его стихов о лошади, избиваемой человеком. Кажется, сказав о погонщике, схватившем полено («показалось кнута ему мало»), можно остановиться, – нет, Некрасов не пропустит ни одной страшной подробности: ни того, что лошадь уже бьют по «плачущим, кротким глазам», ни ее полосатых от кнута боков, ни «нервически скорого» шага. «А погонщик недаром трудился – наконец-таки толку добился!..» Некрасов не жалеет нас, и, может быть, в этой безудержности, нежелании считаться с нашими душевными возможностями – главная доблесть и сила этих и других его лучших стихов. Недаром Некрасов в этих стихах опережает прозу Достоевского, кошмарный сон Раскольникова. Впрочем, представление о поэзии как о царстве сплошной гармонии и красоты вообще вряд ли справедливо.
Тем, кто любит поговорить, например, о пушкинской соразмерности и гармоническом равновесии его сознания, советую перечесть стихотворение «Какая ночь! Мороз трескучий…» с ужасным, нечеловеческим описанием орудий пыток, скорченных на кольях мертвецов, котлов с остывшей смолой, с грудами пепла, разрубленными трупами. Что это? Восторг вдохновения, не останавливающийся ни перед чем? Гениальность, не знающая страха и запретов? И уж не сам ли Пушкин – тот «кромешник удалой», способный проскакать под виселицей? «Борзый конь» не решается, упирается, рвется назад, а всаднику все нипочем: «“Мой борзый конь, мой конь удалый, несись, лети!..” И конь усталый в столбы под трупом проскакал».
Этой безоглядной смелости, понимаемой широко, этой способности идти до конца в выявлении сути вещей учит нас подлинная поэзия.
Некрасов весь как будто создан в опровержение представлений о нормах и правилах поэзии, даже почти бесспорных. «Служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво». Но, странное дело, именно суета притягивает нас в некоторых стихах Некрасова. Некрасов настаивает на своей фельетонности, злободневности, «невысокости» по сравнению с другими поэтами. От рассказа Миная, рассыльного, трудно оторваться:
Знал Булгарина, Греча, Сенковского,
У Воейкова долго служил…
. . . . . . . . . . . . . .
Походил я к Василью Андреичу,
Да гроша от него не видал,
Не чета Александру Сергеичу, —
Тот частенько на водку давал.
Курьезное перечисление оборачивается трагедией:
Да зато попрекал все цензурою:
Если красные встретит кресты,
Так и пустит в тебя корректурою:
Убирайся, мол, ты!
Глядя, как человек убивается,
Раз я молвил: сойдет-де и так!
– Это кровь, говорит, проливается,
Кровь моя, – ты дурак!..
Вижу, что сбиваюсь на откровенное и безудержное цитирование. Объясняется это просто: Некрасов для меня поэт «неосвоенный», зато на каждом шагу ждут открытия. И кроме того, в душе живет радостное предчувствие, что настоящее понимание Некрасова – для меня впереди.
1971