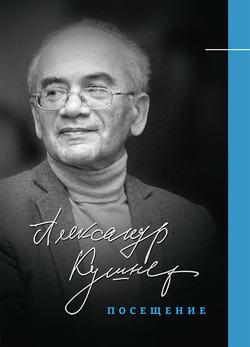Читать книгу Посещение - Александр Кушнер - Страница 33
Семидесятые
«Прямая речь» (1975)
Оглавление«Приятель мой строг…»
Приятель мой строг,
Необщей печатью отмечен,
И молод, и что ему Блок?
– Ах, маменькин этот сынок?
– Ну, ну, – отвечаю, – полегче.
Вчера я прилег,
Смежил на мгновенье ресницы –
Вломился в мой сонный висок
Обугленный гость, словно рок,
С цветком сумасшедшим в петлице.
Смешался на миг,
Увидев, как я растерялся.
И в свитере снова возник,
И что-то бубнил, и на крик,
Как невская чайка, срывался.
Вздымала Нева
За ним просмоленную барку.
Полдня разгружал он дрова.
На небо взглянул – синева.
Обрадовался, как подарку.
Потом у перил
Стоял, выправляя дыханье.
Я счастлив, что он захватил
Другую эпоху, ходил
За справками и на собранье.
Как будто привык.
Дежурства. Жилплощадь. Зарплата.
Зато – у нас общий язык.
Начну предложенье – он вмиг
Поймет. Продолжать мне не надо.
«Себе бессмертье представляя…»
Себе бессмертье представляя,
Я должен был пожать плечом:
Мне эта версия благая
Не говорила ни о чем.
Как вдруг одно соображенье
Блеснуло ярче остальных:
Что, если вечность – расширенье
Всех мимолетностей земных?
Допустим, ты смотрел на вилку,
Не видя собственной руки,
Двух слив, упавших за бутылку,
И раскрасневшейся щеки.
Теперь ты сможешь на досуге
Увидеть вдруг со всех сторон
Накрытый стол, лицо подруги,
Окно, деревья, небосклон.
«Быть нелюбимым! боже мой!..»
Быть нелюбимым! боже мой!
Какое счастье быть несчастным!
Идти под дождиком домой
С лицом потерянным и красным.
Какая мука, благодать
Сидеть с закушенной губою,
Раз десять на день умирать
И говорить с самим собою.
Какая жизнь – сходить с ума!
Как тень, по комнате шататься!
Какое счастье – ждать письма
По месяцам – и не дождаться.
Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на всё согласен?
Он равнодушен и жесток.
Зато воистину прекрасен.
Что с горем делать мне моим?
Спи, с головой в ночи укройся.
Когда б я не был счастлив им,
Я б разлюбил тебя, не бойся!
«С утра по комнате кружа…»
С утра по комнате кружа,
С какой готовностью душа
Себе устраивает горе!
(Так лепит ласточка гнездо.)
Не отвлечет ее ничто
Ни за окном, ни в разговоре.
Напрасно день блестящ и чист,
Ее не манит клейкий лист,
Ни стол, ни книжная страница.
Какой плохой знаток людей
Сказал, что счастье нужно ей?
Лишь с горем можно так носиться.
«Показалось, что горе прошло…»
Показалось, что горе прошло
И узлы развязались тугие.
Как-то больше воды утекло
В этот год, чем в другие.
Столько дел надо было кончать,
И погода с утра моросила.
Так что стал я тебя забывать,
Как сама ты просила.
Дождик шел и смывал, и смывал
Безнадежные те отношенья.
Раньше в памяти этот провал
Называли: забвенье.
Лишь бы кончилось, лишь бы не жгло,
Как бы ни называлось.
Показалось, что горе прошло.
Не прошло. Показалось.
«Как люблю я полубред…»
Как люблю я полубред
Книг, стареющих во мраке,
Те страницы, что на свет –
Словно денежные знаки.
И поэтов тех люблю,
Что плывут в поля иные,
Словно блики по стеблю
Или знаки водяные.
Блеск бумаги желт и мглист.
Как лошадка, скачет строчка.
Всё разнять стремишься лист,
Словно слиплось три листочка.
Словно там-то, среди трех,
Второпях пропущен нами,
Самый тихий спрятан вздох,
Самый легкий взмах руками.
В кафе
В переполненном, глухо гудящем кафе
Я затерян, как цифра в четвертой графе,
И обманут вином тепловатым.
И сосед мой брезглив и едой утомлен,
Мельхиоровым перстнем любуется он
На мизинце своем волосатом.
Предзакатное небо висит за окном
Пропускающим воду сырым полотном,
Луч, прорвавшись, крадется к соседу,
Его перстень горит самоварным огнем.
«Может, девочек, – он говорит, – позовем?»
И скучает: «Хорошеньких нету».
Через миг погружается вновь в полутьму.
Он молчит, так как я не ответил ему.
Он сердит: рассчитаться бы, что ли?
Не торопится к столику официант,
Поправляет у зеркала узенький бант.
Я на перстень гляжу поневоле.
Он волшебный! хозяин не знает о том.
Повернуть бы на пальце его под столом –
И, пожалуйста, синее море!
И коралловый риф, что вскипал у Моне
На приехавшем к нам погостить полотне,
В фиолетово-белом уборе.
Повернуть бы еще раз – и в Ялте зимой
Оказаться, чтоб угольщик с черной каймой
Шел к причалу, как в траурном крепе.
Снова луч родничком замерцал и забил,
Этот перстень… на рынке его он купил,
Иль работает сам в ширпотребе?
А как в третий бы раз, не дыша, повернуть
Этот перстень – но страшно сказать что-нибудь:
Всё не то или кажется – мало!
То ли рыжего друга в дверях увидать?
То ли этого типа отсюда убрать?
То ли юность вернуть для начала?
Белые ночи
Пошли на убыль эти ночи,
Еще похожие на дни.
Еще кромешный полог, скорчась,
Приподнимают нам они,
Чтоб различали мы в испуге,
Клонясь к подушке меловой,
Лицо любви, как в смертной муке
Лицо с закушенной губой.
«В тот год я жил дурными новостями…»
В тот год я жил дурными новостями,
Бедой своей, и болью, и виною.
Сухими, воспаленными глазами
Смотрел на мир, мерцавший предо мною.
И мальчик не заслуживал вниманья,
И дачный пес, позевывавший нервно.
Трагическое миросозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.
«Взметнутся голуби гирляндой черных нот…»
Взметнутся голуби гирляндой черных нот.
Как почерк осени на пушкинский похож!
Сквозит, спохватишься и силы соберешь.
Ты старше Моцарта, и Пушкина вот-вот
Переживешь.
Друзья гармонии, смахнув рукой со лба
Усталость мертвую, принять беспечный вид
С утра стараются, и всё равно судьба
Скупа, слепа,
К ним беспощадная, зато тебя щадит.
О, ты-то выживешь! залечишь – и пройдет.
С твоею мрачностью! без слез, гордясь собой,
Что сух, как лед.
А эта пауза, а этот перебой –
Завалит листьями и снегом заметет.
С твоею тяжестью! сырые облака
По небу тянутся, как траурный обоз,
Через века.
Вот маска с мертвого, вот белая рука –
Ничто не сгладилось, ничто не разошлось.
Они не вынесли, им не понятно, как
Живем до старости, справляемся с тоской,
Долгами, нервами и ворохом бумаг…
Музейный узенький рассматриваем фрак,
Лорнет двойной.
Глядим во тьму.
Земля просторная, но места нет на ней
Ни взмаху легкому, ни быстрому письму.
И всё ж в присутствии их маленьких теней
Не так мучительно, не знаю почему.
«Исследовав, как Критский лабиринт…»
Исследовав, как Критский лабиринт,
Все закоулки мрачности, на свет
Я выхожу, разматывая бинт.
Вопросов нет.
Подсохла рана.
И слезы высохли, и в мире – та же сушь.
И жизнь мне кажется, когда встаю с дивана,
Улиткой с рожками, и вытекшей к тому ж.
От Минотавра
Осталась лужица, точнее, тень одна.
И жизнь мне кажется отложенной на завтра,
На послезавтра, на другие времена.
Она понадобится там, потом, кому-то,
И снова кто-нибудь, разбуженный листвой,
Усмотрит чудо
В том, что пружинкою свернулось заводной.
Как в погремушке, в раковине слуха
Обида ссохшаяся дням теряет счет.
Пусть смерть-старуха
Ее оттуда с треском извлечет.
Звонит мне под вечер приятель, дуя в трубку.
Плохая слышимость. Всё время рвется нить.
«Читать наскучило. И к бабам лезть под юбку.
Как дальше жить?»
О жизнь, наполненная смыслом и любовью,
Хлынь в эту паузу, блесни еще хоть раз
Страной ли, музою, припавшей к изголовью,
Постой у глаз
Водою в шлюзе,
Всё прибывающей, с буксиром на груди.
Высоким уровнем. Системою иллюзий.
Еще какой-нибудь миражик заведи.
«Взамен любовной переписки…»
Сергею Коробову
Взамен любовной переписки,
Ее свободней и точней.
Слетают письма от друзей
С нагорных троп и топей низких,
Сырым пропахшие снежком,
Дорожной гарью и мешком,
Погодой зимней и ненастной.
И на конверте голубом
Чернеет штамп волнообразный.
Собой расталкивая мрак,
То из Тюмени, то с Алтая.
И ходит строчка стиховая
Меж нами, как масонский знак.
Родную душу узнаю,
На дальний оклик отвечаю,
Как будто на валу стою.
Соединить бы всю семью,
Да как собрать ее – не знаю.