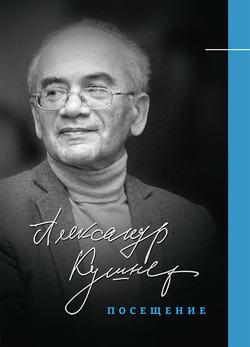Читать книгу Посещение - Александр Кушнер - Страница 4
Шестидесятые
«Ночной дозор» (1966)
Оглавление«Декабрьским утром черно-синим…»
Декабрьским утром черно-синим
Тепло домашнее покинем
И выйдем молча на мороз.
Киоск фанерный льдом зарос,
Уходит в небо пар отвесный,
Деревья бьет сырая дрожь,
И ты не дремлешь, друг прелестный,
А щеки варежкою трешь.
Шел ночью снег. Скребут скребками.
Бегут кто тише, кто быстрей.
В слезах, под теплыми платками,
Проносят сонных малышей.
Как не похожи на прогулки
Такие выходы к реке!
Мы дрогнем в темном переулке
На ленинградском сквозняке.
И я усилием привычным
Вернуть стараюсь красоту
Домам, и скверам безразличным,
И пешеходу на мосту.
И пропускаю свой автобус,
И замерзаю, весь в снегу,
Но жить, покуда этот фокус
Мне не удался, не могу.
«О здание Главного штаба!..»
О здание Главного штаба!
Ты желтой бумаги рулон,
Размотанный слева направо
И вогнутый, как небосклон.
О море чертежного глянца!
О неба холодная высь!
О, вырвись из рук итальянца
И в трубочку снова свернись.
Под плащ его серый, под мышку.
Чтоб рвался и терся о шов,
Чтоб шел итальянец вприпрыжку
В тени петербургских садов.
Под ветром, на холоде диком,
Едва поглядев ему вслед,
Смекну: между веком и мигом
Особенной разницы нет.
И больше, чем стройные зданья,
В чертах полюблю городских
Веселое это сознанье
Таинственной зыбкости их.
Старик
Кто тише старика,
Попавшего в больницу,
В окно издалека
Глядящего на птицу?
Кусты ему видны,
Прижатые к киоску.
Висят на нем штаны
Больничные, в полоску.
Бухгалтером он был
Иль стекла мазал мелом?
Уж он и сам забыл,
Каким был занят делом.
Сражался в домино
Иль мастерил динамик?
Теперь ему одно
Окно, как в детстве пряник.
И дальний клен ему
Весь виден, до прожилок,
Быть может, потому,
Что дышит смерть в затылок.
Вдруг подведут черту
Под ним, как пишут смету,
И он уже – по ту,
А дерево – по эту.
«Бог семейных удовольствий…»
Бог семейных удовольствий,
Мирных сценок и торжеств,
Ты, как сторож в садоводстве,
Стар и добр среди божеств.
Поручил ты мне младенца,
Подарил ты мне жену,
Стол, и стул, и полотенце,
И ночную тишину.
Но голландского покроя
Мастерство и благодать
Не дают тебе покоя
И мешают рисовать.
Так как знаем деньгам цену,
Ты рисуешь нас в трудах,
А в уме лелеешь сцену
В развлеченьях и цветах.
Ты бокал суешь мне в руку,
Ты на стол швыряешь дичь
И сажаешь нас по кругу
И не можешь нас постичь!
Мы и впрямь к столу присядем,
Лишь тебя не убедим,
Тихо мальчика погладим,
Друг на друга поглядим.
Велосипедные прогулки
Велосипедные прогулки!
Шмели и пекло на проселке.
И солнце, яркое на втулке,
Подслеповатое – на елке.
И свист, и скрип, и скрежетанье
Из всех кустов, со всех травинок,
Колес приятное мельканье
И блеск от крылышек и спинок.
Какой высокий зной палящий!
Как этот полдень долго длится!
И свет, и мгла, и тени в чаще,
И даль, и не с кем поделиться.
Есть наслаждение дорогой
Еще в том смысле, самом узком,
Что связан с пылью, и морокой,
И каждым склоном, каждым спуском.
Кто с сатаной по переулку
Гулял в старинном переплете,
Велосипедную прогулку
Имел в виду иль что-то вроде.
Где время? Съехав на запястье,
На ремешке стоит постыдно.
Жара. А если это счастье,
То где конец ему? Не видно.
«Уехав, ты выбрал пространство…»
Уехав, ты выбрал пространство,
Но время не хуже его.
Действительны оба лекарства:
Не вспомнить теперь ничего.
Наверное, мог бы остаться –
И был бы один результат.
Какие-то степи дымятся,
Какие-то тени летят.
Потом ты опомнишься: где ты?
Неважно. Допустим, Джанкой.
Вот видишь: две разные Леты,
А пить все равно из какой.
Ночной дозор
На рассвете тих и странен
Городской ночной дозор.
Хорошо! Никто не ранен.
И служебный близок двор.
Голубые тени башен,
Тяжесть ружей на плече.
Город виден и не страшен.
Не такой, как при свече.
Мимо вывески сапожной,
Мимо старой каланчи,
Мимо шторки ненадежной,
Пропускающей лучи.
«Кто он, знахарь иль картежник,
Что не гасит ночью свет?» –
«Капитан мой! То художник.
И клянусь, чуднее нет.
Никогда не знаешь сразу,
Что он выберет сейчас:
То ли окорок и вазу,
То ли дерево и нас.
Не поймешь по правде даже,
Рассмотрев со всех сторон,
То ли мы – ночная стража
В этих стенах, то ли он».
Гофман
Одну минуточку, я что хотел спросить:
Легко ли Гофману три имени носить?
О, горевать и уставать за трех людей
Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей.
Эрнст – только винтик, канцелярии юрист,
Он за листом в суде марает новый лист,
Не рисовать, не сочинять ему, не петь –
В бюрократической машине той скрипеть.
Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор.
Куда удачливее Эрнста Теодор.
Придя домой, превозмогая боль в плече,
Он пишет повести ночами при свече.
Он пишет повести, а сердцу все грустней.
Тогда приходит к Теодору Амадей,
Гость удивительный и самый дорогой.
Он, словно Моцарт, машет в воздухе рукой.
На Фридрихштрассе Гофман кофе пьет и ест.
«На Фридрихштрассе», – говорит тихонько Эрнст.
«Ах нет, направо!» – умоляет Теодор.
«Идем налево, – оба слышат, – и во двор».
Играет флейта еле-еле во дворе,
Как будто школьник водит пальцем в букваре,
«Но все равно она, – вздыхает Амадей, –
Судебных записей милей и повестей».
Два наводненья
Два наводненья, с разницей в сто лет,
Не проливают ли какой-то свет
На смысл всего?
Не так ли ночью темной
Стук в дверь не то, что стук двойной, условный.
Вставали волны так же до небес,
И ветер выл, и пена клокотала,
С героя шляпа легкая слетала,
И он бежал волне наперерез.
Но в этот раз к безумью был готов,
Не проклинал, не плакал. Повторений
Боялись все. Как некий скорбный гений,
Уже носился в небе граф Хвостов.
Вольно же ветру волны гнать и дуть!
Но волновал сюжет Серапионов,
Им было не до волн – до патефонов,
Игравших вальс в Коломне где-нибудь.
Зато их внуков, мучая и длясь,
Совсем другая музыка смущала.
И с детства, помню, душу волновала
Двух наводнений видимая связь.
Похоже, дважды кто-то с фонаря
Заслонку снял, а в темном интервале
Бумаги жгли, на балах танцевали,
В Сибирь плелись и свергнули царя.
Вздымался вал, как схлынувший точь-в-точь
Сто лет назад, не зная отклонений.
Вот кто герой! Не Петр и не Евгений.
Но ветр. Но мрак. Но ветреная ночь.
Монтень
Монтень вокруг сиянье льет,
Сверкает череп бритый,
И, значит, вместе с ним живет
Тот брадобрей забытый.
Монтеня душат кружева
На сто второй странице –
И кружевница та жива,
И пальчик жив на спице.
И жив тот малый разбитной,
А с ним его занятье,
Тот недоучка, тот портной,
Расшивший шелком платье.
Едва Монтень раскроет рот,
Чтоб рассказать о чести,
Как вся компания пойдет
Болтать с Монтенем вместе.
Они судачат вкривь и вкось,
Они резвы, как дети.
О лжи. О снах. О дружбе врозь.
И обо всем на свете.
«Удивляясь галопу…»
Удивляясь галопу
Кочевых табунов,
Хоронили Европу,
К ней любовь поборов.
Сколько раз хоронили,
Славя конскую стать,
Шею лошади в мыле.
И хоронят опять.
Но полощутся флаги
На судах в тесноте,
И дрожит Копенгаген,
Отражаясь в воде,
И блестят в Амстердаме
Цеховые дома,
Словно живопись в раме
Или вечность сама.
Хорошо, на педали
Потихоньку нажав,
В городок на канале
Въехать, к сердцу прижав
Не сплошной, философский,
Но обычный закат,
Бледно-желтый, чуть жесткий,
Золотящий фасад.
Впрочем, нам и не надо
Уезжать никуда,
Вон у Летнего сада
Розовеет вода,
И у каменных лестниц,
Над петровской Невой,
Ты глядишь, европеец,
На закат золотой.
«Я в плохо проветренном зале…»
Я в плохо проветренном зале
На краешке стула сидел
И, к сердцу ладонь прижимая,
На яркую сцену глядел.
Там пели трехслойные хоры,
Квартет баянистов играл,
И лебедь под скорбные звуки
У рампы раз пять умирал.
Там пляску пускали за пляской,
Летела щепа из-под ног –
И я в перерыве с опаской
На круглый взглянул потолок.
Там был нарисован зеленый,
Весь в райских цветах небосвод,
И ангелы, за руки взявшись,
Нестройный вели хоровод.
Ходили по кругу и пели.
И вид их решительный весь
Сказал мне, что ждут нас на небе
Концерты не хуже, чем здесь.
И господи, как захотелось
На волю, на воздух, на свет,
Чтоб там не плясалось, не пелось,
А главное, музыки нет!
«Танцует тот, кто не танцует…»
Танцует тот, кто не танцует,
Ножом по рюмочке стучит.
Гарцует тот, кто не гарцует,
С трибуны машет и кричит.
А кто танцует в самом деле
И кто гарцует на коне,
Тем эти пляски надоели,
А эти лошади – вдвойне!
«Чего действительно хотелось…»
Чего действительно хотелось,
Так это города во мгле,
Чтоб в небе облако вертелось
И тень кружилась по земле.
Чтоб смутно в воздухе неясном
Сад за решеткой зеленел
И лишь на здании прекрасном
Шпиль невысокий пламенел.
Чего действительно хотелось,
Так это зелени густой.
Чего действительно хотелось,
Так это площади пустой.
Горел огонь в окне высоком,
И было грустно оттого,
Что этот город был под боком
И лишь не верилось в него.
Ни в это призрачное небо,
Ни в эти тени на домах,
Ни в самого себя, нелепо
Домой идущего впотьмах.
И в силу многих обстоятельств
Любви, схватившейся с тоской,
Хотелось больших доказательств,
Чем те, что были под рукой.
«Закрою глаза и увижу…»
Закрою глаза и увижу
Тот город, в котором живу,
Какую-то дальнюю крышу,
И солнце, и вид на Неву.
В каком-то печальном прозренье
Увижу свой день роковой,
Предсмертную боль, и хрипенье,
И блеск облаков над Невой.
О боже, как нужно бессмертье,
Не ради любви и услад,
А ради того, чтобы ветер
Дул в спину и гнал наугад.
Любое стерпеть униженье
Не больно, любую хулу
За легкое это движенье
С замахом полы за полу.
За вечно наставленный ворот,
За синюю невскую прыть,
За этот единственный город,
Где можно и в горе прожить.
«Но и в самом легком дне…»
Но и в самом легком дне,
Самом тихом, незаметном,
Смерть, как зернышко на дне,
Светит блеском разноцветным.
В рощу, в поле, в свежий сад,
Злей хвоща и молочая,
Проникает острый яд,
Сердце тайно обжигая.
Словно кто-то за кустом,
За сараем, за буфетом
Держит перстень над вином
С монограммой и секретом.
Как черна его спина!
Как блестит на перстне солнце!
Но без этого зерна
Вкус не тот, вино не пьется.
«Два лепета, быть может бормотанья…»
Два лепета, быть может бормотанья,
Подслушал я, проснувшись, два дыханья.
Тяжелый куст под окнами дрожал,
И мальчик мой, раскрыв глаза, лежал.
Шли капли мимо, плакали на марше.
Был мальчик мал,
куст был намного старше.
Он опыт свой с неведеньем сличил
И первым звукам мальчика учил.
Он делал так: он вздрагивал ветвями
И гнал их вниз, и стлался по земле,
А мальчик то же пробовал губами,
И выходило вроде «ле-ле-ле»
И «ля-ля-ля». Но им казалось: мало!
И куст старался, холодом дыша,
Поскольку между ними не вставала
Та тень, та блажь по имени душа.
Я тихо встал, испытывая трепет,
Вспугнуть боясь и легкий детский лепет,
И лепетанье листьев под окном –
Их разговор на уровне одном.