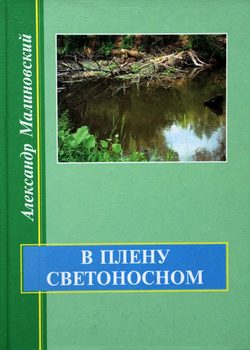Читать книгу В плену светоносном - Александр Малиновский - Страница 4
Глава 4. У истоков
ОглавлениеСлева от моста через Самару на станции «Переволоцкое» мне приглянулось местечко, где захотелось остановиться. Ширина быстрого мутно-желтого потока – метров пять-шесть. Берега высокие, обрывистые, местами до трех метров. Течение норовистое, русло извилистое. Не река, а ручей, но мощный, как крепко и надежно скрученный жгут. Этот жгут так своеволен, что может и свернуться, и расправиться неожиданно, подчиняясь своим, только ему понятным желаниям.
Река-ручей, насколько вверх и вниз доставал глаз, укрыта была зарослями. Клен, ветла, ольха, осинник надежно прятали животворный поток от палящего солнца. Лесная полоса, извивавшаяся на всем протяжении нашего семичасового пути вдоль реки с обеих сторон ее, четко обозначала речной путь, уходивший за нашими спинами в северо-западном направлении, к Волге. «Но не на север стремится река, а вместе с Волгой – на юг. Не оттого ли она так изначально смугла и темпераментна», – подумал я.
Мы вышли из автобуса. Прошли чуть вверх по течению метров тридцать и увидели внизу, у воды, в конце тропинки, извилисто спустившейся с травянистого высокого берега рыбака. В ногах у него – три поплавочные неказистые удочки из тальника длиной всего метра по два. Поплавки – из ветловой коры.
Самара, извиваясь, делала до и после этого укромного местечка резкие повороты. Вода пенится, течение стремительное, быстрое, а он у маленькой завадинки, у омутка, спокойно сидит себе, покуривает.
– Как рыбалка? – спросил я и, спохватившись, добавил: – Добрый вечер.
Старик повернул бородатое, темное от степного солнца лицо с детскими синими чистыми глазами.
– Только пришел. Вон, одного поймал.
– Посмотрю?
– Смотри, коль охота.
В холщовом мешочке, надетом ручками на коряжинку в воде у его ног, оказался желтый карась граммов на триста, не менее.
Он затрепыхался, когда я приподнял мешочек, смешно чмокая губами.
Я был удивлен. Караси обычно водятся в озерах. На Самарке карасей мы использовали в качестве наживы. А ловили их в водоемах со стоячей водой.
Я высказал свое недоумение вслух.
Старик отозвался:
– У нас тут так. Мой свояк вчера, вон повыше, где плотинка есть и воды поболе, поймал утром двадцать таких, не вру. Там вода теплее.
Я взял карася в руки. Опасаясь, что упругий красавец вмиг может спружинить и оказаться в воде, я повернулся спиной к речке, и солнце осветило это неожиданное чудо. Красные его перья и золотая чешуя, покрывающая крепкое тело, заиграли в лучах летнего солнышка. Я приподнял карася над головой, показывая его своим спутникам, стоящим наверху.
– Ребята, это же золотой приз за нашу решимость сплавиться именно отсюда, где так узко!
Мои спутники заулыбались.
Когда осторожно положил рыбу в мешок, спросил:
– На червя берет?
– Не-е, на хлеб, и только на белый.
Я спрашивал, желая продолжения разговора, о рыбалке, хотя и понимал, что рыбаку это помеха. Какое ему дело, что мы соскучились. Мало ли всяких чудаков. Но он приветливо отзывался. И его замечательный улов, и добродушие показались хорошим знаком.
Река увиделась тут домашней и своей, только в несколько раз меньше, чем я ее знал. Она была похожа на подростка. Это было непривычно.
Тут я и пожалел, что внук мой Саша не с нами.
– В первый раз видишь такого?
Я повернул голову – старик смотрел снисходительно.
– Да нет… – ответил я.
Спустился к воде и Анатолий, потрогал ладонью карася.
– Хорошая добыча.
– И то, – согласился старик.
Анатолий сходу начал:
– Помните, как говорил Аркадий Райкин: эпоха была жуткая, время мерзопакостное, но рыбка в Каме водилась! Так, кажется.
Это и про Самарку тоже. Вот мы с Борисом, вернее, он, два года назад под Тоцком во время сплава поймали щуку на блесну, ну, небольшую, кэгэ на два. Потрошить стали – нашли зажигалку. Помыли, посушили – работает нормально. С бензином была.
– Сказки рассказываешь, – сказал рыбачок и засмеялся.
– Нет, – роясь в карманах, отвечал Командор. – Она у меня с собой, вот только, наверное, в рюкзаке лежит. Теперь постоянно в походах при мне.
Старик больше не реагировал на слова Березина, а тот продолжал:
– А в другой раз в полутораметровой щуке, пойманной на Сорочинском водохранилище, в брюхе обнаружили полуметровую.
– Ну, эт-т быват, эт-т сколько разов, – тихо согласился старик, не оборачиваясь. После добавил: – Вам выше по течению забираться не надо. Там плыть нельзя – сплошные завалы.
Мы почувствовали, что рыбачку все-таки мешаем, и пошли к машине.
– Старик прав, мы так далеко забрались, я ни разу отсюда не сплавлялся – всегда сплошные коряжины были, – подтвердил Березин.
К «Газели» подъехал на бойком, низкорослом кауром меринке калмыковатый всадник-пастух и тут же, узнав, что мы собираемся сплавляться, вызвался показать родник, чтобы сделать запас воды.
Попрощались с водителем Сашей и вскоре его беленькая машина, мелькая в осиннике и высокой траве, скрылась из глаз.
Мы начали распределять багаж, натягивать самодельные тенты на лодки, чтобы утром отчалить.
Но место было, как нам показалось, не очень уютное: заросли кустарника, высокая трава на берегу речки, крутые подходы к воде. Хотелось ночевать так, чтоб был рядом речной песочек, плес и поменьше комаров. Чтобы была не духота, а легкий ветерок на просторе.
Когда лодки оказались вполне готовыми, я предложил начать сплав.
– Всего девять вечера, часа два можно плыть, за это время выберем хорошее место для стоянки. Да и опробуем лодки…
…Хотя мы и забрались далеко в верховье реки, но все же значительная часть Оренбуржья – около пятидесяти километров от села Переволоцкое до Кариновки – к сожалению, оставалась за нашими спинами. Там-то, у Кариновки, на равнине и начинается река Самара…
Мы дали себе слово, что на следующее лето обязательно побываем у истока нашей реки.
За спиной оказались и единственный в России Заповедник Степи, и соленое озеро Развал, по концентрации солей идентичное Мертвому морю в Палестине, и многое другое…
* * *
Едва мы оттолкнулись от заросшего густой высокой травой и камышом берега, быстрый поток подхватил наши лодки. Грести веслами нельзя – не успеваешь приноравливаться, ибо своенравный пенящийся поток крутит лодки. Пытаешься веслами бессистемно выправить движение, но бесполезно. Нависшие деревья и кустарники хватают ветвями лодку, плечи, голову. В воде много коряг. Меняющаяся глубина: от «по колено» до полутора-двух метров. Водовороты играют с лодкой, как с оброненным птичьим пером.
Раздался хлопок – лопнула перегородка у моей лодки. Невольно вспомнился умелец-пьянчужка.
Но это не остановило. Хотелось плыть!
Мы прошли два завала.
Первый завал Константин, стоя по пояс в воде, прорубил топором. Три осины толщиной у комеля сантиметров по тридцать, обрубив сучки, мы прижали к берегам и закрепили свисавшими к воде ветками. Другой разобрали, выбравшись на берег и сплавив застрявшие бревна длинными кольями.
Непривычно видеть такое на реке: у завалов греются на солнце огромные листья белой кувшинки. Между ними проглядывают яркие звезды цветков. Такое у нас в Заволжье бывает только на озерах. В жаркую погоду кувшинки обычно широко раскрыты, а вечером плотно смыкаются. Так растение бережет тепло.
А рядышком его скромная сестра – желтая кубышка. И надо всем этим по берегу – частые султанчики рогоза…
Третий завал, имевший проход с метр шириной, мы прошли, не выходя из лодок, но на таком же, четвертом, лодку нашего Командора проткнула коряга.
Одна секция лодки «стравила» – часть продуктов ушла под воду, часть удалось спасти, но все намокло.
Выбрались на берег.
Неутомимый Константин, вернувшись из разведки, сообщил, что впереди метрах в пятидесяти от нас – еще два завала.
– Там такие коряги нанесло, что их сразу не разобрать, лучше обойти по берегу.
Уже втроем – Командор, Константин и я – обследовали ближайший завал.
– Была бы лебедочка, все бы растащили, – убежденно говорил Командор. – Зря не взяли.
Было уже совсем темно.
Решили сделать привал. Вытащили лодки на берег. Место оказалось заросшим густой, высокой травой с несметным количеством комаров. Стоянка оказалась такой же неудачной, как та, от которой уплыли, если не хуже.
Помогая Командору вытаскивать лодку и мокрые вещи, Константин недоумевал:
– Анатолий, в чем дело, коряга, которая пропорола вашу лодку, торчала посередине на самом виду, да еще она белая, как сабля? Можно было увернуться.
Командор молчал.
Только потом в сторонке Юрий вполголоса пояснил:
– Они же оба с Борисом в сумерках совсем ничего не видят.
Все на ощупь да по догадкам.
Пока вытаскивали лодки, наспех разбирали поклажу, готовили ночлег, наступила полночь. Костер мы все-таки развели и отметили начало сплава спиртом с какими-то непонятными по вкусу, но весьма полезными, по заверению Юры, добавками из его алюминиевой битой баклажки. И легли спать.
Я и Борис устроились в своих палатках, остальные – в лодках. Как я ни уговаривал, Командор улегся в лодке. Хотя он ее и основательно протер, но она все же была влажной. Переубедить его было невозможно. Свои привычки, как мы уже поняли, он менял редко.
…Не спалось. Будто «заплыл» в детство.
Вышел из палатки, вернее, выполз – палатка настолько миниатюрна, что вход, закрывающийся на молнию, высотой не более полуметра.
Под комариный гул, раздевшись догола, выкупался в парной водице. То стоя по колени в воде, то падая в ямы по самый подбородок, смотрел на небо, отяжелевшее от огромных звезд. Было во всем, что происходило, что-то древнее, дремучее. Возвращение блудного сына, уставшего от многолюдья в больших городах.
Мелькало в памяти совсем недавно прочитанное и в суете, вроде, забытое:
Недаром в потаенной глубине,
И вовсе не по прихоти искусства,
Живут непредсказуемо во мне
Забытые языческие чувства.
«Мы забыли, кто мы. Нам помогают забыть, кто мы. Мы оторвались от природы. Человека зомбируют, скоро будут, пожалуй, и клонировать… В человеке разжигают страсти, – думал я, путаясь в мыслях. – А где страсть – там разрыв. Страсти не соединяют людей. Где страсть – там нет свободы. Сейчас в стране – разгул именно страстей, разгул темной силы, дьявольски срежиссированный кем-то…»
…Дурманил запах невидимых глазу цветов и трав.
Все пытался отогнать тяжелые мысли, внезапно пришедшие при купании. Хотелось, чтобы было все, как в детстве. Вот ведь все рядом: речка, бесконечная степь, запахи цветов и трав. Что еще надо?..
«Ведь и раньше, в моем детстве, темные силы были, да еще какие. Именно тогда, когда я был маленьким, они и родились.
Или еще раньше. Они были всегда. Только мы в детстве не знали это так, как знаем сейчас. Мы просто жили, и все. И мои родители, и родители моих сверстников, в большинстве неграмотные, они не знали так, как мы это сейчас знаем. И жили себе, как могли, радуясь жизни…
Жили радостней, жили коллективней, а теперь начинаем не понимать самих себя.
«Современный коллективизм – это последний барьер, который возводится человеком на пути встречи с самим собой», – утверждал еще пятьдесят лет назад Мартин Бубер.
Неужто действительно так?
Уединение лечит, когда самыми тяжкими формами одиночества страдают те, кто находится среди людей?
Может, для сохранения здоровой психики необходимо чередовать общение с себе подобными и погружение в себя. Но как это сделать в наше-то время?.. Может, так, как я сейчас, вырвавшись к своей речке?.. Как мне повезло с моим походом…»
…Под утро странный звук – металлический и резкий вначале, потом рыхлеющий, но быстро усиливающийся и разрастающийся вширь неимоверно, надвигался на мою палатку. Я лежал, пытаясь понять, что происходит: откуда этот звук? Похоже, он принадлежал огромному механизму, который вот-вот подомнет меня под себя. В какой-то момент показалось, что это отдаленно похоже на звук проходящего мимо поезда. Но почему он так упрямо идет на палатку?
А что, если не выскочу? Не будет ли это непростительной оплошностью, которую потом ничем не объяснить и которая будет стоить мне слишком дорого?
Я рванул «молнию» и раскрыл выход.
В тот момент, когда я оказался снаружи, звук значительно стих, но был все же силен. Конечно же, это звук от проходившего где-то в двух-трех километрах от речки поезда. Но почему он был все-таки таким устрашающе громким, бесформенным и будора-жаще близким?
Я огляделся. Туман и роса неимоверные. Палатка снаружи вся мокрая.
Все вокруг: уходящая от меня, от речки в сторону железной дороги степь-матушка, сама речка в трех десятках метров, вытянувшийся влево-вправо лесок вдоль нее – все тонуло в тумане.
Все было размыто в белесо-сине-зеленом. Такого я никогда прежде не видел. И солнце показалось из-за леса, словно выплавок-яйцо, снесенное без скорлупы.
Утренний туман, низина и намокшая палатка, очевидно, создавали такой звуковой эффект.
Потом все подтвердили, что вскакивали ночью от странного шума. Все, кроме глухого Бориса.
Я вновь залез в свою палатку. Там уже хозяйничали с десяток комаров. Они и определили мой дальнейший суматошный сон.
Разбудил меня крик перепела – настоящей птички-степнячки:
«Встать пора… встать пора!..»
Я нашарил в изголовье фонарик-«жучок». Посветил на часы – было четверть седьмого. Встал, как велела птичка, вернее, вывалился из палатки. Туман стал реже, но было очень зябко. Дождь затих. Трава отяжелела от росы.
Осторожно пошел в направлении островка густого ковыля, откуда доносился голос птицы. В сладострастном томлении вожделенно вел свою звучную, чистую, мелодию невидимый мне в траве перепел.
– …Встать пора… встать пора… – призывно продолжало звучать в утреннем вольном воздухе под открытым утренним небом.
Вожделение, с которым перепел призывал к себе подружку свою, было и во всем окружающем. Слоистый туман, разнеживший ковыльную равнину, ложбинка слева, собравшая в себя отяжелевший увлажненный синеватый воздух, древесная, зримая, волнующая плоть раскидистых ветел и стройных осокорей, чуть поодаль от них трогательно-трепетные, белоствольные, будто нагие березки – все было открыто по-утреннему чувственному приятию продолжения жизни. Все желало оставить себя в потомстве… в жизни… в вечности…
Я знал с детства, что перепела любят скрытно держаться в траве. Летают редко – им лучше убежать в траву, поэтому-то не очень ожидал увидеть птицу. А хотелось. Я боялся, что могу наступить на гнездо в высокой траве, поэтому шел медленно, ожидая каждый момент внезапного резкого вертикального взлета птицы, так она обычно делает в момент явной опасности.
Мне показалось, что я видел что-то, мелькнувшее в траве.
Комочек охристо-буроватой окраски скрылся быстро и бесшумно.
– У меня в детстве дядька охотился на перепелов, он в Курской области жил. Их и разводят дома. Некоторые – для пения, другие – из-за очень полезных перепелиных яиц. Они очень сильно влияют на умственное развитие детей, – проговорил Юрий.
– Тебя, Юра, в детстве такими яичками кормили, да? – не удержался Костя: уж очень удобный момент для шутки.
– Ага, – согласился Юра. – Кстати, тебе за сорок, имей в виду: содержимое перепелиных яиц способствует оздоровлению и улучшению работы предстательной железы, лечит импотенцию, а также сердце, печень, почки, поджелудочную железу.
– Жалко птичку, – отозвался Константин. – Птичка поет, а вам бы лишь съесть чего-либо. Желудочники вы, а не лирики.
Они еще что-то для разминки, видимо, слежавшихся за ночь мозгов говорили друг другу, но я уже не слушал их. Вернувшись в палатку, пытался разобраться в своих вещах. Вспоминать, в каком рюкзаке что лежит, в первый день похода было непросто.