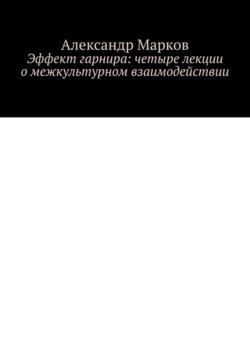Читать книгу Эффект гарнира: четыре лекции о межкультурном взаимодействии - Александр Марков - Страница 4
Лекция 1. Наука о взаимопонимании: автономно об автономном
ОглавлениеВо все времена люди, принадлежащие к разным сообществам, пытались понимать друг друга, несмотря на границы. Но межкультурное взаимодействие как научная дисциплина – не то же самое, что накопленные навыки взаимопонимания, даже сложные и изощренные. Науку о межкультурном взаимодействии лучше всего отсчитывать от конца Второй мировой войны, от образования таких институтов, как ООН и ЮНЕСКО, которые должны были исключить повторения войн. Но также конец Второй мировой войны – это образование теории коммуникации, с исследованием ее кодов и каналов: действия союзников в войне показали, что успешная коммуникация, учитывающая возможности канала, различные способы кодировки и шифровки, однозначное восстановление контекста, – позволяет согласовать действия. Первые шаги межкультурной коммуникации как науки и были направлены на то, чтобы помочь разным народам и странам однозначно взаимодействовать: чтобы привычки, способы считывания чужих слов и жестов и способы перехода от слов к делу, сложившиеся в данной культуре, не помешали этому взаимодействию. Так теория коммуникации дисциплина развивалась параллельно кибернетике – только если кибернетика говорит о единых правилах управления среди людей и механизмов, то межкультурная коммуникация имеет в виду сложившиеся человеческие сообщества, группы, где предстоит иметь дело не с индивидуальным действием, а с общей волей группы, общим способом группы реагировать на ситуацию и на обращенный к ней сигнал.
Обращенность к группе говорит о том, что эта дисциплина не смогла бы развиваться вне «антропологического поворота», перехода после Второй мировой войны от этнографии, подразумевающей привилегированный взгляд наблюдателя на наблюдаемую жизнь народов, к социально-культурной антропологии, выясняющей, как была и стала возможна такая жизнь народов. Этнограф всегда искушаем описывать происходящее в жизни других народов отрицательно: такие-то институты у них не развиты, это устроено примитивно; а соблазн власти, желания утвердиться, иногда приводит этнографа к умилению неразвитостью народов, которые на самом деле подверглись колониальной эксплуатации, лишь бы забыть об этом факте. Этнография признавала различия народов, например, во время Второй мировой войны в США пытались против японцев изобрести ольфакторное оружие, унизительное для чувств самураев, – но это было этнографическое, а не антропологическое исследование реакций. Тогда как антрополог знает об изменчивости реакций, и увидит в каких-то неприглядных сторонах результат насилия, или влияния старых угнетателей; но не в моралистическом смысле, что кто-то кого-то испортил, а в структурном, что определенные способы действовать или говорить могут быть переданы от угнетателей к угнетенным. Именно в этом первый вопрос постколониальных исследований: в какой мере бывшие угнетенные воспроизводят слова угнетателей, их категории, которые поневоле в колониях были адаптированы (например, «политикой» стали называть подчинение начальству), и как можно с помощью критической работы и критической дискуссии освободить людей от прежних структур угнетения.
Антрополог показывает, как возникают институты, такие как власть, деньги, труд и другие, из самого существования сообщества. Любой антрополог исходит предпосылки неполноты, что например, где-то возникает развитый язык, но менее развитый труд, или развитая игра, но неразвитая денежная система; одно восполняет другое. То есть возникновение институтов – это взрыв; но те пласты, которые возникают по итогам взрыва, ложатся по-разному. Это напоминает сразу об идее «эпистемического разрыва» Г. Башляра, но также и об идее Э. Бенвениста, что невозможное в языке компенсируется возможным в институтах: например, невозможно сказать «Я хороший», потому что ты не судья себе, но можно сказать «Я хороший хозяин», и тем самым ведение хозяйства и собственность компенсируют нехватку языка. Но именно поэтому нет «отстающих», «не доросших» еще до развитых институтов народов, может произойти взрыв, и народ создаст мгновенно институты, которых никто здесь не ожидал. Вспомним работу «Глубокая игра» К. Гирца, где он показал, как из петушиных боев возникает и политика, и экономика, и искусство прямо здесь и сейчас. Вы понимаете, что без антропологии не могло бы возникнуть современного искусства, где прямо здесь возникают даже институты его хранения, продажи и обладания.
Создатели науки о межкультурном взаимодействии было обычно консультантами правительств, их разработки должны были прямо определять дипломатические успехи США. Таким образцовым консультантом был Эдвард Холл (1914—2009). Первая идея, которую он создал – идея различия монохронных и полихронных культур. В монохронных культурах деятельность подчинена расписанию: пока мы не сделали одного дела, мы не переходим к следующему. Тогда как в полихронных культурах делается много дел одновременно: можно выполнять работу, при этом заглядывая в окно, переписываясь с родственниками, планируя последующие действия. Один из признаков полихронной культуры – что в ней обедают, одновременно разговаривая, обсуждая планы и возможности; другой ее признак – некоторая необязательность, например, допустимость опозданий. В полихронной культуре план не дается до действий, а импровизированно возникает внутри действий. Мы без ошибок отнесем нашу культуру к полихронной: кто из нас не переписывается прямо за обедом?
Эту идею развил Ричард Льюис, американская звезда межкультурного взаимодействия. Льюис создал целый собственный институт, «Международный институт языковедения и межкультурного обучения», который выполняет заказы как государственных служб, так и корпораций, которые хотят вести бизнес в самых разных странах и сначала требуют разобраться в особенностях стран. Его библия межкультурной коммуникации, «Столкновение культур», переведена и на русский язык с предисловием российского государственного деятеля С. В. Кириенко. Льюис поделил все культуры на три вида: линейноактивные культуры, мультиактивные культуры и реактивные культуры. Линейноактивные культуры – это культуры последовательного действия, и если в схеме Холла Франция относилась скорее к полихронным культурам, то в модели Льюиса она ближе к линейноактивности, хотя и не настолько, насколько Германия. Всем известно, как живя в Германии нужно за месяц заказывать проведение Интернета или починку крана, потому что никто между делом не забежит это сделать. Мультиактивные культуры как раз подразумевают, что действия совершаются одновременно; например, я преподаю и одновременно решаю какие-то административные вопросы на факультете. Наконец, реактивные культуры, как китайская, предпринимают действия тогда, когда эти действия заказаны извне, эти культуры в точности выполняют приказ, причем требующий как одного, так и множества действий, но вне приказа не предпринимают действий. Так, китаец или японец на вопрос «Как дела», начинает подробно отчитываться, как у него дела. Льюис, как и представители Франкфуртской и Бирмингемской школ критики культуры, считает, что культура – это прежде всего «код», «программирование», хотя использует эти термины не столько для критики культуры как способа отвлечь от борьбы и замаскировать эксплуатацию, как в марксистских школах, о которых я писал в своем триптихе, сколько для анализа строения культур, например, особенностей отношения к власти и авторитету в каждой культуре, как там принято воспринимать начальника или бизнесмена, какие действия и реакции сразу проявляются.
Следующее различение, которое было введено еще Холлом – это различие между низкоконтекстуальными и высококонтекстуальными культурами. В низкоконтекстуальных культурах нужно всё объяснять, довольно трудно использовать иронию, сарказм, интонации. Обычно это культуры, включающие в себя множество эмигрантов, где надо просто, однозначно и понятно объяснять, что сейчас нужно делать. Тогда как в высококонтекстуальной культуре всё зависит от контекста, часто многое говорится полусловом, намеками, с иронией, игрой. В русской культуре явно соединяются оба типа культуры: например, общей коллизией романов Л. Н. Толстого является несходство высококонтекстуальной культуры аристократов и низкоконтекстуальной культуры простого народа.
Одним из манифестов науки межкультурного взаимодействия стала книга Эдварда Холла «Молчаливый язык» (1959), посвященная невербальной коммуникации. Конечно, ее появление связано с повышенным вниманием к жестам в эту эпоху: тогда же структурализм Жоржа Дюмезиля и Клода Леви-Стросса объяснял, что социальное расслоение появляется довольно рано, и что каждое сословие поддерживает своё существование и своим пантеоном богов, и своей системой жестов. Но здесь жест был понят не просто как способ сообщить что-то, но как то, что подвергается толкованию еще прежде слов: мы же обычно смотрим, с каким настроением к нам пришел человек, а уже через это рассматриваем, что он говорит. Здесь можно вспомнить пример, натолкнувший Клиффорда Гирца на идею «насыщенного описания»: один мальчик моргал, потому что у него был нервный тик, другой стал моргать, думая, что ему подмигивают, и он должен подмигивать в ответ, а третий мальчик просто стал их передразнивать и тоже моргать. Каждый истолковал ситуацию по-своему и произвел самостоятельное действие; но вместе они создали ситуацию, в которой их действия и получили смысл, стали институтами, такими как институт обмена информацией или институт театра.
Особую теорию взаимодействия разных культур создал Герт (Герард Хендрик) Хофстеде (1928—2020), нидерландский социолог, создавший кафедру организационной антропологии и международного менеджмента в Университете Маастрихта. Ему принадлежит идея измерения культур по нескольким параметрам для их классификации и дальнейшего установления правил взаимодействия между ними. Начал он свои исследования по заказу IBM, но они включали в себя также и изучение стран, где представительство IBM не было, как СССР, так как они тоже рассматривались как потенциальные участники рынка информационных технологий. Он поставил целью ответить на простой вопрос: что мотивирует людей покупать компьютеры, когда все прежние привычки их жизни не включали компьютеры. Cледование примеру начальства, реформа системы управления или обмена информации, компенсация каких-то плохо работающих институтов? Хотя мы все можем поделиться своими наблюдениями, почему люди прибегают к информационным технологиям, ответ на этот вопрос оказывается не так прост.
Хофстеде выделил такие критерии различения между культурами:
Дистанцированность от власти – чем больше эта дистанция, тем больше зависимость от власти. Когда начальник высоко за двойными дверями, тогда и решения будут приниматься после совещания у начальника и спускаться вниз. Компьютеризация в таком случае будет частью решений начальства по поощрению прогресса.
Индивидуализм – постановка индивидуальных целей, нацеленность на успех. Коллективизм подразумевает, что в отношениях людей много норм, и компьютеры будут использоваться только для каких-то специальных целей, иногда необычных, а индивидуализм имеет в виду, что компьютер будет просто одним из служебных инструментов.
Напористость – готовность энергично действовать, заботясь об успехе дела, а не качестве жизни. Напористость требует постоянного нового предложения на рынке компьютеров и информационных технологий, а спокойствие, напротив, просто поддержания качественной работы имеющихся систем.
Готовность к неопределенности – иначе говоря, готовность рисковать и нарушать устои. В странах с высокой готовностью к неопределенности компьютеры нужны для того, чтобы с помощью них принимать решения и осуществлять стратегию независимо от бывших товарищей, и договариваться тем самым с новыми партнерами, у которых другой культурный язык, тогда как компьютеры помогают коммуникации.
Стратегическое мышление – готовность ставить долгосрочные цели, что всегда ограничивает выполнение социальных обязательств, и в этом смысле Япония гораздо стратегичнее Дании. Стратегическое мышление и требует создания сложных компьютерных систем, использования не «гаджетов», а больших промышленных компьютерных узлов.
Допущение – готовность разрешать людям разные вещи, например, удовлетворение необычных потребностей, необычные эмоции, в противоположность сдержанности. Общества с допущением как раз требуют диверсификации компьютерного предложения, создания модных и эмоционально привлекательных компьютеров.
Тем временем было сделано два открытия, и определивших профиль межкультурного взаимодействия, как в теоретических исследованиях, так и практических рекомендациях. Одно, в 1970-х – это было новое открытие международного разделения труда и формирование исследовательской программы, которая называется миросистемный анализ (world-systems analysis). Основные тезисы миросистемного анализа можно обозначить так: мировая экономика возникает уже в Бронзовом веке, как только появляются пути торговли; любое развитие наук поддерживает развитие транспорта для мировой торговли; эти инновации в науках и приводят к образованию центров, то есть тех государственных подсистем, которые и могут обеспечить быстрые и качественные сделки; если появляются центры, то появляется и периферия и полупериферия, которая потом может войти в центр; хотя центры меняются и смещаются, их функция остается той же; одного развития производства недостаточно, оно может дать кратковременную выгоду, но не долгосрочное развитие, а чтобы попасть в центр, нужны еще особые инновации. Одним словом, где есть философия, решение нестандартных задач, там есть и процветание, тогда как просто упорный тяжелый труд, напротив, может вывести полупериферию на периферию, в которой всё стремительно устаревает и ломается. А центр – это место, где благодаря сделкам и договоренностям всё можно починить внутри, можно обеспечить устойчивость и стабильность развития в соседних странах. Хотя в миросистемный анализ внесли вклад многие историки, начиная с Фернана Броделя, его мэтром стал Иммануэль Валлерстайн, имеющий продолжателей и популяризаторов во многих странах – например, очень хорошо это делает Георгий Дерлугьян, с чьими колонками и лекциями рекомендую познакомиться.
Благодаря мир-системному анализу мы смотрим на многие привычные со школы факты по-другому. Например, древний город Аркаим оказывается бизнес-сити мирового коневодства, а Западная Европа еще в бронзовом веке – центром селекции коров, предшествующих нынешним голландским породам. Пифагор и Гераклит предстают политэкономами, разработавшими прорыв греческого мира в центр мир-системы, где прежде располагалась Персия, а успех Рима (но и падение Рима) обязан системе страховки кораблей и гибкости откупов. Афанасий Никитин ехал за три моря, надеясь найти более дешевые стальные сабли, а в системе Коперника выразилось стремление обосновать Магдебургское право. Большинство переселений народов оказываются не результатом собственного движения народов к лучшей жизни, а мер, принимаемых полупериферией для того, чтобы удержаться в прежнем статусе без лишней конкуренции, но с новыми возможностями контроля над товарными и финансовыми потоками. Тем самым, и историческое насилие оказывается результатом недостатка инноваций, и исторический прогресс теснее связывается с прогрессом философии, которая не только упорядочивает науки, но и позволяет наукам переходить в практику, создавая новые формы сделок, обязательств и совместных решений. Близки теориям миросистемы и нынешние биологические объяснения прогресса, например, книга Дж. Даймонда «Ружья, микробы и сталь», где действия микробов объясняют развитие человечества и победу Запада, который больше болел, но поэтому и лучше выживал.
Другое, уже в 1990-е годы – открытие разнообразия, diversity, влияющего и на микро-, и на макроуровне управления, экономики и социальной жизни. Конечно, здесь свой вклад внесла и французская теория, сформировавшаяся в том числе благодаря участию Франции в деятельности ЮНЕСКО и необходимости урегулировать отношения с бывшими колониями, избегая обвинений в неоколониализме и реакционности, но находя какие-то более общие основания равенства. Так, звезда французской теории Жак Деррида в 1990-е годы вдруг стал много писать о гостях, гостеприимстве, даре, данности, в таких книгах как «Политики дружбы» и в многочисленных статьях и выступлениях. Хотя эти построения могут показаться сложными, на самом деле он показывал, как возможности языка и мышления могут быть переведены в политическую сферу: например, как возможность мыслить отношения хозяина и гостя, возможность мыслить неожиданность дара и события, может помочь найти взаимопонимание между мигрантами и местными жителями. Достаточно допустить, что ты не меришь всё своей меркой, но понимаешь, что и твоя мерка откуда-то пришла, и если что-то бывает «недаром», то что-то бывает и «даром», – как на смену прежней культуры шовинизма начнет приходить культура открытости. Другой может быть невыносим и даже опасен, но общая культура принятия другого может предотвратить и эти опасности; просто разные народы покажут, какой дар они могут дать кому в общей сложившейся ситуации.
Само это открытие разнообразия не смогло бы состояться без собственных усилий философии в бывших колониях. Так, Леопольд Седар Сенгор (1906—2001), президент Сенегала с 1960 по 1980 г., поэт и философ, развивал идею «негритюда», мирной интеграции африканских государств. Сам термин «негритюд» создал в 1932 г. Эме Сезер, поэт, борец за независимость Мартиники. Согласно Сезеру и Сенгору, особенностью африканства, в отличие от европейства, является особое чувство ритма, позволяющее проявлять эмоциональную солидарность. Африканские философы в этом напоминают русских славянофилов XIX века и их критику реформ Петра I: они критикуют западных колонизаторов за изменение привычного образа жизни насильственными средствами, за рационализм, за которым стоит воля к власти, за неумение чувствовать танец, ритм, доверять сердцу и интуиции. Только для славянофилов идеалом ненасильственного согласия была крестьянская община, а для философов негритюда – сообщество танцующих и приходящих друг другу на помощь африканцев, чувствующих душой, интуитивно нужды друг друга.
Как русские славянофилы вдохновлялись идеями Шлегеля и Шеллинга, и вообще романтизмом, так и Сенгор вдохновлялся учениями Бергсона, Тейяра де Шардена, а также феноменологией и экзистенциализмом. Как славянофилы противопоставляли рационализму Запада русскую сердечность и душевность, так и философы негритюда считали, что за рационализмом стоит воля к власти, тогда как африканец умеет чувствовать другого, не вычленяет вещь с помощью рационального анализа, но чувствует свое существование и приобщается каким-то ритмам вселенной. «Чувствую себя – значит, существую», потому что понимаю, что мои чувства как-то связаны с божественным замыслом обо мне. Славянофилы называли солидарность людей «соборностью», а Сенгор – «примиряющим согласием». И те, и другие чтили способность простых людей чувствовать связь со множеством вещей, то, что старые антропологи называли «анимизмом», представлением о всеобщей одушевленности мира. Но есть и различия: во-первых, русские славянофилы не стали влиятельными политиками, во-вторых, они не были до конца самобытными из-за того, что у русского проекта был конкурент – польский проект, и в этом смысле польское мессианство, например, «Видение ксендза Петра» в поэме «Дзяды» Мицкевича, раньше поставило вопрос о единстве нации по образцу церковного единства, а русский культ страдания, у Тютчева и Достоевского, в какой-то мере оказался перехватом образа распятой Польши.
Также, согласно Сенгору, западное искусство построено на мимесисе, в котором он видел стремление колониалистов овладеть предметом, создать для него рациональную ловушку и эксплуатировать его, тогда как африканское искусство – на аналогиях, ритме, в котором проявляется жизненная сила. Аналогия не присваивает другого, но напротив, дает ему автономию. Это сразу напомнит нам открытие русской иконы в начале XX века, в которой Анри Матисс увидел соперницу африканского искусства: тоже при этом открытии подчеркивался ее немиметический характер, что она не воспроизводит видимое, а приоткрывает невидимое, создает особые символы переживаний, обращающих к непостижимому. Именно так, по Сенгору, и действует африканское искусство: оно связано со всеми сторонами бытия и потому облегчает переход от чувственного к духовному и непостижимому: маска, например, передает не характер, а оказывается дверью к самому божеству. Сенгор был до обретения Сенегалом независимости крупным французским политиком, дружил с Сартром, опирался на труды и некоторых русских философов, например, Бердяева.
Другой африканский философ и поэт, Кваме Нкрума (1909—1972) был первым президентом Ганы (1960—1966). Он тоже развивал философию африканской самобытности, но опирался больше на американский прагматизм, аналитическую философию и марксизм франкфуртской школы. Он назвал свою философию «коншиенсизм», то есть сознательность, сознательное использование достижений разных философий, и западных, и восточных, для формирования «африканской личности». Кваме Нкрума критиковал Сенгора, считая, что тот опирается на африканское крестьянство, на простолюдинов, тогда как Африка должна объединять и их, и профессионалов. В этом смысле он больше похож на русских западников, утверждавших, что народ и интеллигенция должны объединиться и использовать общие западные правила для устойчивого прогрессивного развития. Как западники считали, что России не хватает правовой и хозяйственной культуры западных стран, так и Кваме Нкрума утверждал, что колониализм имел и положительные стороны, такие как опыт совместной политической борьбы. В конце концов, Кваме Нкрума пришел к идее всеафриканской социалистической революции, которая должна создать в Африке социалистический строй, но без тех недостатков, которые он видел в СССР. При этом в гносеологии и эстетике Кваме Нкрума и Сенгор скорее совпадали: они оба считали, что африканцы обладают особым чувством ритма, что африканцу проще станцевать мысль, чем подобрать для нее термины, что термины и понятия скорее насильственно присваивают вещи, чем объясняют их, тогда как музыка и транс лучше всего выражают особый африканский прогресс. Понятно, что африканская самобытность приобретает настоящий смысл, когда мы ее вписываем в более общий контекст критической теории, от критики классицизма как системы власти, подавления и исключения у Ролана Барта и Мишеля Фуко до критики тотальных институтов у Ирвинга Гофмана (Эрвина Гоффмана).
Постколониальная африканская теория имеет в наши дни множество направлений. Один из самых цитируемых африканских постколониальных мыслителей, камерунский философ Ахилле Мбембе, автор книги «О постколониальном» (2000), соединил критическую теорию в духе Фуко с психоанализом. Он считает, что Африка – это своеобразная проекция Европы: Европа чувствует вину перед Африкой, но при этом не знает, что с этим чувством вины сделать, и поэтому пытается повторить колонизацию, например, отводя африканцам какое-то закрепленное за ними место, реперов или спортсменов. Но Африка – это не место, а способ отношений, способ означивания другого, отличающийся от привычных для Запада. Этим другим может быть, например, коллективная душа племени. Поэтому неоколониализм, будучи истерикой бывших колонизаторов, утверждает Мбембе, осуществляет не просто «биополитику», по Фуко, а «некрополитику».
Фуко называл биополитикой систему санитарного, ментального, полицейского и прочего контроля, затрагивающего тело человека, например, запрещающего отдельные виды сексуальности, и заставляющего всех быть в подчинении, в страхе перед карами, которые могут затронуть всех, раз у всех нас есть тело. Тогда как Мбембе говорит, что в Африке возможна и некрополитика, включающая в себя и голод, неумение предотвратить голод и эпидемии, и переселение людей, которое поощряют крупные корпорации и которое приводит к гибели, и действия вооруженных банд. Если биополитике можно сопротивляться правовыми средствами, что делал Фуко, то некрополитике приходится сопротивляться восстаниями или же срочными социальными мерами, предотвращающими голод. Рассуждения о некрополитике могут распространяться и на другие регионы, например, индийская писательница Арундати Рой в своих романах показывает, как крупные корпорации переселяют население, что может приводить к гибели людей или уменьшению срока жизни, а американский историк Тимоти Снайдер исследует некрополитику в Восточной Европе, историю войн, тираний и восстаний на «кровавых землях».
Эдвард Вади Саид, американский антрополог, историк и музыковед палестинского происхождения ввел понятие «постколониализм» в книге «Ориентализм. Западные концепции Востока» (1978). Смысл этой книги прост: Запад в течение многих столетий, благодаря особой интеллектуальной конфигурации, например, теснейшей связи научной экспертизы и дипломатии, которая выразилась в западном типе туризма от «большого путешествия» (гранд тура) до наших дней, вырабатывал способ говорить о Востоке как о мире заведомо ущербном, не обладающем многими достоинствами Запада, не способном к самостоятельному политическому и социальному действию. Ориентализм, т. е. научное востоковедение, для Саида вовсе не нейтральная наука, а предприятие по производству знания, которое становится нормативным и принимается потом и государственными деятелями, и публикой как само собой разумеющееся, главная государственная наука. Можно вспомнить, что в советском журнале «Крокодил» была карикатура на Институт Востоковедения, где его сотрудники курят кальян под опахалами: так ориенталистский образ якобы инертного, ленивого, сверхконсервативного и патриархального Востока оказался сатирически приписан самим ориенталистам.
Саид положил в основу своей работы весьма упрощенную методологию Фуко, для которого знание есть форма власти. Поэтому, согласно Саиду, даже после фактической деколонизации, Запад продолжает колонизировать Восток с помощью инструментов знания, продолжая навязывать определенные формы высказываний о Востоке, описаний Востока, воспоминаний о Востоке, которые косвенно блокируют политические инструменты самого Востока, способность его выйти на политическую арену. Главный недостаток ориентализма состоит в том, что Восток представляется чем-то единым, какой-то сказкой Шахерезады, в которой тысячелетиями ничего не происходит, и обвинения по адресу Востока оказываются противоречивыми, но как будто поэтому полностью описывающими этот мир. Например, Запад описывает Восток и как жестокую и брутальную орду варваров, и как изнеженный мир гаремов и кальянов; и хотя эти две картинки трудно совместить, ориенталисты создают впечатление, что описали якобы все стороны этого мира. Или Восток описывается как коварный и как прямодушный одновременно – такой ориентализм проник после Великой французской революции и в художественную литературу разных стран Европы, – вспомним «Бахчисарайский фонтан» Пушкина.
Саид считает, что здесь дело не в злонамеренности ориенталистов, сколько в их оптике: разумеется, путешественнику или торговцу кажется, что ничего не происходит в мире, который он посещает, кроме туризма или торговли. Саид также пишет, что знание осуществляется как власть и практически, например, в переименованиях местностей и городов, в проведении государственных границ и границ между регионами, в назывании групп, сословий, видов трудовой деятельности, так что народы оказываются под контролем колониальной экономики. Переименование должно лишить покоренные народы субъектности: они не могут сами провести свои границы, а начинают считать себя просто рабочими или просто жителями побережья. Здесь Саид близок пониманию культурного кода у бирмингемцев, как способа нейтрализации классовой борьбы путем объявления эксплуататоров и эксплуатируемых принадлежащих одной культуре; но при этом он следует пониманию множественности эпистем у Фуко: покорять можно не только объявляя покоренных частью одной культуры, например, создавая образ единой Индии вопреки сложнейшей истории этого субконтинента, но и объявляя индусов представителями одной профессии. О том, что гомогенизация Индии и не позволила индийским угнетенным говорить, много писала и Гаятри Спивак.
Гаятри Спивак была ученицей Поля де Мана, бельгийско-американского литературоведа и первого популяризатора деконструкции. Поль де Ман исходил из того, что старая эстетика утверждает привилегии определенных образованных групп, выдвигает их вкус как обязательный, и тем самым не позволяет увидеть действительных социальных процессов за якобы общими законами участия в культурном производстве. Тогда как теория литературы, говорил он, позволяет увидеть, что механизмы создания литературы другие, что она создается разными социальными группами для разных целей, и выясняя, что делает литература как социальный институт, мы получаем более справедливую картину происходящего. Спивак в работе «Критика постколониального разума» (1999) ввела термин «санкционированное невежество», то есть заведомое отсутствие интереса образованных людей из первого мира к жизни людей третьего мира.
Например, европеец может знать об Индии немало, ее мифы, поэзию, касты, кино; но при этом совершенно не будет знать, чем, например, жизнь женщины из спального района Нью-Дели отличается от жизни женщины из деревни. Такое «санкционированное невежество» мы встречаем и у нас, все эти анекдотические «есть ли жизнь за пределами МКАД» или жалобы туристов, почему в Греции им не могут обеспечить доставку 24 часа в сутки или расистское «все жители Центральной Азии на одно лицо». Например, москвичи и петербуржцы иногда считают, что образцом советского жилищного неустройства была коммуналка, где приходилось ютиться с другими семьями, но например, на Урале основной формой было общежитие, а коммуналка считалась престижным жильем, и то же самое можно сказать и о промышленных небольших городах центральной России. В результате совершенно неверно понимают, кто такие простые люди в регионах, как они объединяются и чего могут добиваться. Санкционированное невежество, согласно Спивак, утверждает привилегии тех, кто решает, что нам обязательно нужно знать, а что можно не знать.
Санкционированное невежество и у нас приходится преодолевать тем социологам, которые занимаются местной историей. Так, Н. Б. Граматчикова исследует, как возникал Уралмаш как промышленное единство. Сначала такое предприятие было изолировано от остального города, соединено только ниткой, и поэтому самими жителями воспринималось как новый город, со своим символическим центром, своеобразным мавзолеем основателям. Но включение завода в состав города привело к замене конструктивистского мавзолея на статую Ленина и дом культуры, к благоустройству в духе общей культуры. Тем самым, Уралмаш был лишен собственной истории как города и присоединен к общей истории страны. При этом легенды продолжали возникать, например, площадь с фонтаном в стиле сталинского ампира получила название «дворянское гнездо», что говорит о том, что этот ампир воспринимался не как знак прогресса, как в Москве и Ленинграде, перехода из временной коммунальной квартиры к постоянному жилью, а как знак привилегий, будь то в виде отдельной или коммунальной квартиры в престижном доме, в сравнении с рабочими общежитиями, которые будут сменяться разве более совершенными рабочими общежитиями.
Здесь можно вспомнить шутку, ходившую в Сети, где были даны схемы любого европейского и любого американского города: например, в любом европейском городе были собор для туристов, джентрифицированный завод недалеко от центра, бруталистское социальное жилье на другом берегу реки, а в американском, типичной субурбии, было историческое здание, построенное в 1957 году. При этом пространственное зонирование было узнаваемым для этих городов; но в советском городе, например, стадион могли построить на месте снесенного монастыря, а могли на месте леса со своими легендами. Поэтому типичный российский город не подвластен географическому воображению, а скорее номенклатуре, как была партийная номенклатура, так есть и городская номенклатура: улица Ленина, улица Дзержинского, стадион «Труд», кинотеатры «Мир» и «Прогресс», ДК «Железнодорожник» и «Металлург», ТЦ «Радуга», микрорайон «Южный» и т. д. Интересно, что обычно микрорайона «Западный» нигде нет, хотя три других части света есть, вероятно, потому что отсутствовала идея западной части СССР как самостоятельного мира, а не как фронтира противостояния времен Холодной войны. Так что даже простое знание того, как и где строилось жилье, с обязательным изучением воспоминаний, преодолевает санкционированное невежество.
Хоми Бхабха, крупнейший современный постколониальный теоретик, упрекает Саида в том, что он просто признает существование разных миров, западного мира и восточного мира, и описывает отношения между ними как мелодраму, в которой оказалось место насилию. Но при таком подходе уходит из внимания субъект колониальной ситуации, угнетаемый, который тоже имеет свою волю и свои способы адаптации к ситуации. Согласно Бхабха, понятие о мире, например, о «западном мире» или «исламском мире», и является инструментом колониализма: все оказываются вынуждены вести себя исходя из некоторых паттернов, которые порождает данный мир, к которому ты присоединился. Если для защиты прав палестинцев подход Саида работает, то например, чтобы разобраться в индо-пакистанском конфликте, одной концепции ориентализма оказывается недостаточно. В книге «Локализация культуры» (1994) Бхабха показал, что колонизованные всегда сопротивляются власти колонизаторов, но это сопротивление бывает разным. Это бывает мимикрия, когда они ведут себя так, как ждут от них колонизаторы, например, выступают просто как представители экзотической культуры, но в эту культуру закладывают символы сопротивления.
Мимикрия иногда оборачивается заимствованием привычек колонизатора, в том числе привычек угнетать, и мы видим, как часто бывшие угнетенные начинают воспроизводить, например, номенклатурно-полицейский строй угнетателей. Но бывает и более продуктивная мимикрия, скажем, в искусстве, в перформансе. Это бывает и более интересная гибридность и амбивалентность как способы выжить, создание третьего пространства, например, пространства частной жизни, которое исследует А. Юрчак применительно к опыту позднесоветской технической интеллигенции, или разного рода реконструкторство, которое в некоторых странах может превратиться в реальную политическую и боевую силу.
Гибридность и амбивалентность можно проанализировать анекдотом про польского чиновника, который в советское время зашел в церковь и совершил необходимые обряды, а на недоуменный вопрос, как это соотносится с его позицией в коммунистической номенклатуре, ответил: «Я католик верующий, но не практикующий, а коммунист практикующий, но не верующий». Это амбивалентность, но в церкви он вел себя уже гибридно, потому что не мог не соблюсти обряд и этим заявить некоторый протест. Обновленную гибридность Бхабха и противопоставляет старому мультикультурализму, в котором он видит поспешные компромиссы, дискриминацию, упрощение, тогда как исследование гибридности позволяет вскрыть противоречия и наметить пути их решения. Еще один термин, который вводит Бхабха – это «внедомность», иначе говоря, ситуация представителя или представительницы постколониальной культуры, который или которая уже не принадлежит своей культуре, потому что она изменилась, но не принадлежит и новой культуре, – потому что дислокация произошла недавно и еще памятна. Например, какую-то «внедомность» можно видеть у любого, переехавшего из деревни в город или наоборот, остаются старые привычки, нет при этом уже старой культуры, ты с ней расстался, а к новой культуре невозможно принадлежать, потому что ты в нее встраиваешься. Просто Бхабха исследует массовые, а не индивидуальные истории такой внедомности.
Теория кросс-культурности, как происходит с любой теорией, стала основанием институционализированной практики. Так, международная ассоциация кросс-культурной психологии (IACCP), созданная в 1972 г. в Гонконге, занимается тем, как меняется психическая жизнь человека в зависимости от культурной среды, социальных и даже экологических условий. В отличие от культурной психологии, которая просто рассматривает, насколько реакции и поведение человека определены культурой, кросс-культурная психология исследует, что сохраняется у человека при перемещении в другую среду, а значит, пытается вычленить какие-то универсалии культурного поведения, помогающие человеку легче пережить эту адаптацию. Иначе говоря, культурная психология – объяснительная дисциплина, основанная на эксперименте, как одно влияет на другое, а кросс-культурная психология – на поиске того общего содержания психической жизни людей, которое и позволяет адаптироваться к резко меняющимся условиям. Кросс-культурное всегда больше устремлено на общее, а межкультурное – на различное.
О диалоге культур в СССР стал говорить Владимир Соломонович Библер (1918—2000), объединивший неокантианство и герменевтику, воспринятые через Бахтина, со структурализмом Лотмана. Согласно Библеру, культура – первичный способ самоопределения индивида, предшествующий различным частным самоопределениям в языке, производительной деятельности и другим; что, конечно, было заострено против классического марксистского тезиса о происхождении культуры из трудовых отношений. Библер считал, что из труда происходит цивилизация, точнее, она существует параллельно с трудом, поддерживая и трудовые нормы. Тогда как культура в его системе приобретает отчасти божественный статус (в том смысле, в каком Аристотель говорил о божественности человека как способного познать Перводвигатель и сохранить свое автономное достоинство в политической жизни): культура есть сотворение мира, те начальные порывы человека, которые и позволяют создать мир как для себя (жизненный мир в смысле феноменологии), так и для другого. Но чтобы существовал мир для другого, понятый в смысле терминологического различения Бахтиным я-для-себя и я-для-другого, внутренней речи как мысли и речевого жанра как социального режима существования человека, и нужен диалог культур. Этот диалог культур и позволяет человеку впервые состояться как социально, а не только индивидуально ответственному существу. Мысль о диалоге культур Библер противопоставил объективирующему изучению культур как некоторого сопровождения этапов научного развития человечества. Значительная часть иногда довольно громоздких построений Библера посвящена тому, как в образах числа, слова, времени или жизни сходятся разные культуры, разные логики, и что сам этот образ может перейти в понятие, продуктивное для философии, когда мы выслушаем эти голоса разных культур.
Другую концепцию создал Г. Д. Гачев, который считал, что существуют сложные метафоры, выражающие, например, интуицию пространства каждого народа, когда один народ видит пространство тяжелым, а другой – легким, и эти метафоры невозможно до конца перевести дискурсивно, но они создают «национальные образы мира». Свою концепцию Гачев создавал на поздних изводах культуры, например, образ киргизской культуры описал на материалах произведений советского писателя Чынгыза Тöрöкул-уулы Айтматова. Многие идиомы Айтматова, особенно в его перестроечной прозе или публицистике, кажутся нам банальными, вроде «экология духа», «нравственный камертон» или «немеркнущий идеал»: С. С. Аверинцев в газетном выступлении упрекал Айтматова, что у него в евангельских главах романа «Плаха» (1986) не язык эпохи, а безъязычие эпохи, замена рассуждения разрозненными штампами. Но именно это безъязычие позволило Кыргызстану перейти сравнительно гладко от советского к постсоветскому состоянию, что язык не навязывал готовых структур конфликта, а безъязычие создавало гражданское согласие на простых основаниях. Можно заметить, что например, для таджикской культуры национальный образ мира будет строиться вокруг слов, а не выражений, что создаст свои возможности для развития. Поэтому концепция Гачева, в отличие от концепции Библера, не допускает полного перехода слова в понятие, но зато может быть применена к большему разнообразию культур.
Итак, признание культурного разнообразия запускает одновременно конструктивистские теории, исследующие как культура строится, и критические теории, узнающие, как в культуре возникает напряжение. Хотя исследование межкультурной коммуникации возникало в разных странах под влиянием определенного запроса, заказа государства или науки, общие законы развития этих наук уже как верифицированного знания оказывались схожими в разных странах во всей своей сложности.