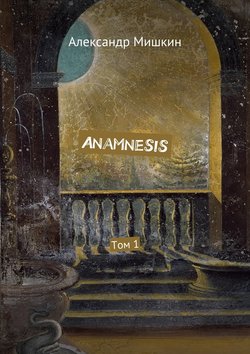Читать книгу Anamnesis. Том 1 - Александр Мишкин - Страница 7
Anamnesis morbi
(История болезни)
Часть первая
Время барабашек
Глава 5
Оглавление17 июля, 15—40, реанимационное отделение.
Есть совершенно не хотелось. Я потягивал вторую чашку кофе, пытаясь понять, что же меня «зацепило» в разговоре с Димасом. А ведь зацепило, факт. Иначе не думал бы последние полчаса о далёком городке с милым женским именем Агия Пелагия.
Итак, Асклепий. Он же Эскулап в древнеримской транскрипции. Греческий бог медицины, бог – целитель. Заслуживший немилость самого Зевса за то, что замахнулся на его, Зевсову монополию: воскрешать мёртвых. За что и получил. Зевс Асклепия то ли сам молнией порешил, то ли Аиду поручил устранить оппозиционера. Словом, пал один бессмертный бог от руки другого бога, более бессмертного.
Успел Асклепий породить дочерей, Панацею и Гигиею… чем они знамениты, убейте, не помню. Вроде бы пошли по стопам папеньки, тоже успешно врачевали, но не зарывались и на устои не посягали.
И был, значит, у Асклепия жезл… Помню, что обвит он был змеёй, отсюда и символ медицинский пошёл: «наша мама ест мороженое», то есть, змея с рюмкой… или чашей, если угодно. Но вот о том, куда делся жезл после кончины хозяина, зачем он нужен, что он может… полный пробел в знаниях. Табуля раса, как говорили древние римляне. Чистая доска, стало быть… Ни с чем, ни с какими событиями жезл Асклепия у меня не ассоциируется. А ведь должен, не мог такой артефакт просто пропасть бесследно, тут Димас прав.
Я поймал себя на мысли о том, что думаю об Асклепии с его причиндалами, как о реальной древней личности. Ох, Антониди, чем же ты меня зацепил-то? Меня, старого скептика! Да, сдавать стал, если уж на такие сказки купился… Я набрал номер местного телефона:
– Клара, когда Антониди в себя придёт, мне сообщи, плиз.
– Обязательно, Пал Палыч! Что, тайну золотого ключика не всю выведали?
– Ещё слово, несчастная, и я брошу тебя в тёмный чулан с пауками. Как Буратино.
Несносная девчонка хихикнула и отключилась.
Два месяца назад, 00—55, отделение реанимации.
Смольцовников не выжил. Сердце просто взяло и остановилось: сначала возникла полная поперечная блокада с ритмом двадцать в минуту. Я поставил ему кардиостимулятор, но это помогло ненадолго: минут через десять сердце просто перестало реагировать на внешние импульсы. Полная асистолия и ноль реакции на все наши старания. Будто рубильник выключили.
Я писал посмертный эпикриз и пытался разобраться в собственных эмоциях. В пятой палате каким-то образом оказалась Вика. Шеф принял её днём, пока мы с Гуськовым в кардиологии реанимировали очередного болезного. Не скрою, её внезапное появление застало меня врасплох, словно выстрел в спину. Казалось, что за годы, прошедшие с того дождливого сентябрьского дня, когда она заявила о своём желании расстаться, мне удалось заполнить вмиг образовавшуюся пустоту. Зияющую, холодную и совершенно неожиданную… всё ведь было хорошо, почему вдруг Вика решила уйти? Она не объяснила. Да я и не пытался выяснять. А через два месяца вышла замуж. Тоже за врача, хирурга – онколога, кажется. Или не онколога? Неважно.
Важно другое: хватило одного её слова, чтобы понять – я не исцелился. И это – несмотря на пусть и не вполне удачный бездетный, но шестилетний, всё-таки, брак; и на последующие романы, и просто мимолётные приятные увлечения. Иные героини тех романов и романчиков были очень даже ничего… во всех отношениях. Но Вика… С глаз долой – получилось, а вот из сердца вон – увы-с!
Я притянул к себе её историю болезни. Так, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, аритмогенный шок. Шеф обошёлся без электроимпульсной терапии, быстренько купировал аденозином. Что же это вы, Виктория Николаевна, в пароксизм-то сорвались? Ну-ка, что успели посмотреть? Кровь спокойная, кардиограмма после восстановления ритма вполне нормальная. Эхо… где тут эхо? Я перевернул последнюю страницу: искомый листок с данными ультразвукового исследования сердца почему-то оказался подклеенным не на своё место. Посмотрим…
В грудь прокрался неприятный холодок. Сердце Вики было просто огромным, с фантастически расширенными полостями предсердий и желудочков, заключёнными в истончённые мышечные стенки. Вот оно как… дилятационная кардиопатия. Судя по размерам полостей, биться этому сердцу осталось совсем недолго… пару – тройку месяцев, полгода – максимум. И всё это время – в отёках, с синими губами, в удушье, ни лечь – задохнёшься, ни встать – обморок. Только сидя, спать и то сидя, обложившись подушками, чтобы, неровен час, не лечь… Как же так, откуда? И ведь не поможешь ничем, разве что пересадкой сердца… но это – очередь в ожидании донора на годы, а болезнь Вике этого времени не даст. Странно, что сейчас у неё пока нет признаков сердечной недостаточности, как пишет Витаминыч в истории. С такими-то полостями… Но это ещё хуже: те, кто долго компенсируются, молниеносно сгорают… Сколько же времени у неё осталось? И знает ли она уже? Вряд ли шеф ей сказал сразу после пароксизма: могла опять сорваться в тахикардию на фоне эмоционального всплеска.
Я вышел в коридор и встал у большого окна в пятую палату. В неярком свете дежурного освещения лицо Вики было совершенно спокойным, даже умиротворённым каким-то. Лежит низко, дышит спокойно: монитор показывает шестнадцать в минуту, норма. Ритм синусовый, с пароксизмом шеф сладил легко. Нет, точно не знает пока… вон, как улыбается во сне. Спи, Викуша, спи… завтра у тебя будет трудный день. Впрочем, как и все последующие.
Неслышно подошёл Витаминыч:
– Молодая, красивая… жаль. Кардиопатия у неё.
– Знаю, прочитал уже. Ей не сказали ещё?
– Не рискнул, нам сейчас эмоциональные потрясения ни к чему. Завтра узнает. Муж у неё – наш коллега. Хирург из областного онкодиспансера. Боровой Михаил, не слышали?
– Нет, не довелось как-то. – Я ещё раз взглянул на Вику и двинулся за шефом в ординаторскую.
17 июля, 17—25, реанимационное отделение.
Клара впорхнула в ординаторскую, заставив Петровича оторваться от очередного бутерброда. Он недовольно заворчал:
– Клара Артуровна, отчего это вы появляетесь именно в редкие моменты моей трапезы?
– Это оттого, Иван Петрович, что иных моментов у вас просто не бывает. Впрочем, эту тему мы с вами нынче уже обсуждали! – Кларочка повернулась ко мне: – Пал Палыч, Антониди в сознании, разговаривает. Вас требует.
Я отложил ручку и вышел вслед за сестрой. Димас и в самом деле довольно резво ворочался в кровати, покряхтывая и что-то бормоча по-гречески. Судя по интонациям, грек был чем-то недоволен:
– Палыч, я же просил… не надо было меня спасать. Устал я.
– Ну, Димас, уж извините. Работа такая. Да и не договорили мы.
– Всё запомнил? Повтори! – потребовал старик.
– Агия Пелагия, ваш старый дом под скалой в форме головы, дальняя стена в подвале, третий камень справа во втором снизу ряду. Запечатанная амфора. Достать карту и топать в Лабиринт за жезлом Асклепия. Всё точно?
– Точно… но есть ещё кое-что. Открой тумбочку.
Я выдвинул верхний ящик. Там лежали очки, вставная челюсть и ключи. Я вопросительно посмотрел на грека.
– Ключи… ключи возьми. Туркестанская, семь, квартира четырнадцать. Я один живу, дома нет никого. В шкафу, в нижнем ящике шкатулка. В ней возьми печать… такой камень пятиугольный. Храм высечен… с колоннами… как в Акрополе, только меньше. В Лабиринте печать понадобится… когда жезл найдёшь. Без печати жезл не взять…
Классика жанра. Всё в лучших традициях: герой обладает чем-то, что приведёт его к сокровищам. Полагается ещё злодей (или злодеи), которые будут строить всяческие козни, мешая герою добраться до цели и спасти мир. А грек тем временем, отдышавшись, продолжал:
– Бери ключи, Палыч! Возьми печать, найди жезл… ты сможешь…
Я пристально посмотрел в тёмные глаза грека и понял, что ключи я возьму.
– Хорошо, Димас. Но скажите мне, этот жезл… Он зачем нужен-то? Что с ним делать, когда достану?
– Жезл даёт дар… Только жрецы Асклепия могут его принять… только они могут найти и взять сам жезл…
– Димас, где ж я жрецов-то найду?
Старик захрипел и больно вцепился в мою руку:
– Не понимаешь, Палыч? Ты – жрец Асклепия, его служитель. Ты – врач!
– Допустим. А что за дар даёт жезл?
– Исцеление… Дар исцеления… точно знаю. И ещё что-то… Никто не владел жезлом после Асклепия. Никто не знает точно, что может жезл… какая сила в нём. Ты узнаешь. Ты будешь первым… после бога… После Асклепия. Ты заслужил, Палыч…
По моей спине пробежали мурашки. Удивительным образом странные слова старика воспринимались всерьёз. Грек не врал, не сочинял, не предполагал даже. Он просто ЗНАЛ. Знал, что в самом деле жил на Олимпе бог – целитель Асклепий, и был у него жезл, и кто-то упрятал этот жезл в Лабиринт после гибели бога. И вот теперь мне предстоит вернуть этот жезл миру.
Я почувствовал себя Брюсом Уиллисом, летящим к астероиду. А старик продолжал вещать:
– Только учти, Палыч: как только ты возьмёшь печать и начнёшь свой путь к жезлу, обратного хода не будет. О том, что ты пошёл за ним, узнают очень скоро…
– Кто узнает?
– Охотники… не знаю, кто они, откуда, как выглядят… Прадед тоже не знал. Но он говорил так: того, кто пойдёт за жезлом, будут преследовать охотники. Будь осторожен, Палыч… будь осторожен…
Старик закрыл глаза и, отпустив мою руку, откинулся на подушку. Глаза его закрылись. Сознание вновь покинуло многострадальца. Я присмотрелся: да нет, просто уснул. Ладно, Димас, спи, отдыхай, а я пойду переваривать полученную информацию.
Сделав пару шагов к двери, я остановился. В ушах прозвучал хриплый голос грека, призывающий меня взять ключи. Сам не зная, зачем, я вернулся к кровати Антониди и достал из тумбочки увесистую связку. Обещал, всё-таки…
17 июля, 23—59, отделение реанимации.
Звонок телефона разорвал в клочья блаженную тишину ординаторской. Я вскочил с кушетки, пытаясь разделить сон и явь, схватил трубку:
– Реанимация!
– В кардиологии клиническая смерть! Семьсот двенадцатая палата! —проорал в трубку доктор Симакин и отключился.
– Петрович, в ружьё! В кардиологию на реанимацию!
Мы выскочили в коридор и, подхватив «волшебные чемоданчики», устремились в кардиологию. Из седьмой палаты выбежала Клара и пристроилась в арьергарде. Боевым порядком мы пролетели тёмный коридор отделения: у семьсот двенадцатой столпились изгнанные Симакиным из палаты больные. Внутри царил полумрак, на койке у окна лежало тело пожилой женщины. Мы с Петровичем поставили чемоданы и схватились за углы матраса:
– Три, четыре! – Больная вместе с матрасом оказалась на полу. Я нащупал пальцами сонную артерию. Петрович занёс кулак над грудиной…
– Стой, Петрович!!! —Мой вопль опоздал на долю секунды. Хрясь! Кулак коллеги опустился на грудь болезной…
– А-а-а, убивают! Вы что ж делаете, ироды! – покойница истошно заорала и принялась стряхивать с себя ошалевшего Петровича, – Да что ж это творится-то?! Спала, никого не трогала… на пол швырнули, бить стали! За что?!
Петрович вопросительно уставился на меня. Я пожал плечами:
– Был пульс. Я хотел сказать, но ты успел раньше…
– А где наш труп? —возмутился коллега.
И в самом деле. Вызывали-то на реанимацию. Симакин, хоть сволочь изрядная, но врач неплохой, и такими вещами шутить не станет. Кто-то действительно умер, а мы тут время теряем. Почти минуту коту под хвост. Мы переглянулись и вновь схватились за матрас:
– Три, четыре! – визжащее тело вновь оказалось на кровати. Я на секунду задержался:
– Простите, сударыня! Обознались, – и, провожаемые проклятиями покойницы – симулянтки, выскочили в коридор. Тётки больничных халатах заверещали:
– Сюда, сюда вам, скорее, – тыча пальцами в соседнюю семьсот тринадцатую. Я выругался про себя: то ли у Симакина дефект дикции, то ли у меня дефект слуха. Ладно, потом разберёмся. Мы вихрем влетели в искомую палату.
Первое, что бросилось в глаза – ритмично двигающаяся симакинская спина в промокшем насквозь халате. Коллега делал массаж сердца, видимо, уже давно.
– Петрович, замени! Клара, маску, гармошку, клинок! И готовь подключичку. – я выхватил из рук сестры дыхательный набор и присел у головы умирающего… умирающей! Вика!
– Пал Палыч, вы что? – окрик Клары вывел меня из оцепенения. Я запрокинул Викину голову и прижал к её лицу маску:
– Петрович, стоп!
Коллега прекратил массаж. Я сделал гармошкой вдох. – Давай дальше. На «пятнадцать – раз».
Петрович кивнул и начал бормотать отсчёт. Клара быстро раскладывала всё необходимое для интубации. На счете «пятнадцать» Петрович остановился. Я сделал ещё два вдоха и схватил поданный Кларой ларингоскоп. Так, язык отжать, надгортанник вверх… вот она, гортань. Скверно, ах, как скверно! Из гортанной щели выползала розовая пена. Отёк лёгких!
– Трубку!
Клара вложила мне в руку интубационную трубку. Я аккуратно ввёл её в трахею, подсоединил гармошку и начал вентиляцию. Сестра раздула манжетку и зафиксировала трубку.
– Петрович, что с ритмом?
Он прижал «утюги» к груди Вики. На мониторчике дефибриллятора беспорядочно заплясала зелёная змейка.
– Фибрилляция! Заряд!
Мерзко, с нарастающей амплитудой, завыл звуковой индикатор зарядки и через три секунды умолк.
– Отошли!
Я поспешно убрал руки.
– Разряд!
Викино тело выгнулось дугой. Змейка на мониторе продолжала судорожно извиваться. Петрович чертыхнулся, отбросил «утюги» и продолжил массаж.
– Всё готово для подключички! – Клара времени зря не теряла. Я отложил гармошку и в несколько движений установил катетер в подключичную вену.
– Лидокаин, восемьдесят.
Клара стремительно отламывала ампулам головки. Петрович опять схватил «утюги». Раздался знакомый вой зарядника. Я качал гармошку, тщетно пытался нащупать левой рукой пульс на сонной артерии и отрешённо смотрел на Вику. «И это всё, что я любил…», – невесть откуда пришла на ум цитата.
Происходящее носило совершенно сюрреалистический характер. Нет, всё было привычным: клиническая смерть, реанимация, чёткие действия по устоявшемуся алгоритму… вот только тело, которое мы терзали в попытках вернуть к жизни, принадлежало Вике… а когда-то и мне. И это было насквозь неправильным…
– Отошли! Разряд!
Мгновенная пронизывающая боль вонзилась в левую руку, так и не нашедшую пульс на шее Вики. Сильнейший удар отбросил меня от неё. Боль горячей лавиной пронеслась по всему телу, заставив сердце судорожно сжаться. Я удивлённо посмотрел на Петровича, беззвучно что-то кричавшего, попытался вдохнуть, чтобы ему ответить… и не смог. А потом наступила холодная темнота.