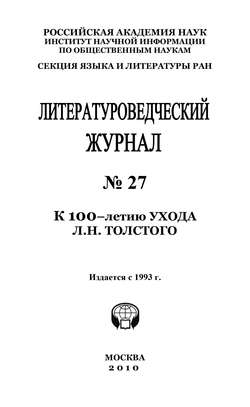Читать книгу Литературоведческий журнал № 27: К 100-летию ухода Л.Н. Толстого - Александр Николюкин - Страница 2
К 100-ЛЕТИЮ УХОДА Л.Н. ТОЛСТОГО
ТРАДИЦИИ «МЕТЕЛЬНОГО ХРОНОТОПА» В ПРОЗЕ ТОЛСТОГО
ОглавлениеЕ.Л. Мураткина
Л.Н. Толстой как-то заметил: «Просейте мировую прозу – останется Диккенс, просейте Диккенса – останется “Дэвид Копперфильд”, просейте “Копперфильда” – останется описание бури на море». Судя по этому замечанию, Толстой имел в виду главу LV романа Диккенса («Буря») – именно этот фрагмент, по его разумению, оказывается подлинным шедевром мировой прозы.
Но почему?
Среди произведений молодого Толстого несколько особняком стоит один рассказ, опубликованный в середине 1850-х годов и уже с самого начала, отметил Б.М. Эйхенбаум, «возбудил недоумение среди критиков»1. По нашему мнению, этот толстовский рассказ, который, казалось бы, оказывается рассказом «ни о чем» и непонятно по какому поводу создававшимся, является аллюзией на указанное диккенсовское «описание бури» и может быть адекватно понят и оценен только в сравнении с ним.
Появление рассказа «Метель» (в мартовской книжке «Современника» на 1856 г.) знаменовало начало нового литературного периода в эволюции Льва Толстого. Только предыдущую свою публикацию – рассказ «Севастополь в августе 1855 года», появившийся в первой книжке «Современника» на 1856 г. – Толстой наконец подписал полным именем, и таким образом «раскрыл» инициалы для большинства читателей. Третий «севастопольский» очерк, соотносившийся с двумя предыдущими, демонстрировал Толстого как «военного» писателя – здесь же наконец возникла вполне «мирная» тема. Причем «мирный» сюжет о блуждании героя ночью по степи с мужицким обозом, странным образом разработанный в этом рассказе, получал как будто «зловещие» очертания.
И сам Толстой, находившийся на взлете своей литературной известности, кажется, испытывал некоторое «недоумение». В основу рассказа был положен случай, происшедший два года назад, на пути с Кавказа в Ясную Поляну. «Ровно две недели был в дороге, – записал он в дневнике. – Поразительного случилось со мною только метель»2. Эта «поразившая» молодого Толстого метель случилась 24 января 1854 г. в 100 верстах от Новочеркасска, у станицы Белогородцевской, вероятно, именно тогда был задуман рассказ.
Два года Толстой его «вынашивал» и начал писать только в конце января 1856 г. Написал же сравнительно быстро: под печатным текстом стоит дата: «11 февраля». На другой день он читал рассказ в редакции «Современника»: слушатели остались «очень довольны» (XLVII, 67). Это и понятно: как же еще редакция могла относиться к новому произведению «башибузука Толстого» (выражение Дружинина), который входил в литературную моду и к тому же в те самые дни заключал «обязательное соглашение» об исключительном сотрудничестве в «Современнике»!3 На этом авторском чтении рассказа, вероятно, присутствовал и Тургенев, который 27 февраля (еще до выхода мартовской книжки журнала) назвал его «превосходным» и рекомендовал в письме к С.Т. Аксакову, известному «первооткрывателю» описания степного бурана в русской литературе4.
Отзыв старика Аксакова (в письме к Тургеневу от 12 марта) был тоже, в общем, положительным: «Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что “Метель” – превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал». Дальше Аксаков, однако, не удержался и добавил, что в рассказе «подробностей слишком много; однообразие их несколько утомительно»5. Последний упрек исходил, скорее всего, не столько от самого Сергея Тимофеевича Аксакова, сколько от его старшего сына Константина, который в то время работал над статьей о современной литературе. Высоко оценивая талант графа Толстого, он, однако, упрекал его в излишне «анализаторском» и «микроскопическом взгляде» на предметы: «Перед вами стакан чистой воды, вы увеличиваете ее в микроскоп; перед вами море, наполненное инфузориями, целый особый мир; но если вы усвоите себе это созерцание, то впадете в совершенную ошибку, и перед вами исчезнет вид настоящей воды <…> Итак, вот опасность анализа; он, увеличивая микроскопом, со всею верностью, мелочи душевного мира, представляет их, по тому самому, в должном виде, ибо в несоразмерной величине»6.
Между тем молодой Толстой как раз и настаивал на литературном отображении «подробностей чувства» (XLVI, 188), составляющем основу читательского интереса. В этом интересе к «подробностям» он, по своей литературной устремленности, вполне соответствовал направленности диккенсовской романистики и, в частности, «Дэвиду Копперфильду».
По своему содержанию понравившийся Толстому диккенсовский фрагмент «описания бури» представляет собой ряд последовательных описаний природного катаклизма, данных в восприятии героя, находящегося неподалеку от него, в относительной безопасности. Здесь представлен ряд сменяющих друг друга описаний бушующего моря. То ночью, при самом начале бури: «Приближалась ночь, облака сгустились, раскинувшись по всему небу, теперь уже совсем черному, а ветер все крепчал…» и т.д. То на рассвете, когда буря уже разыгралась: «Катились и катились гигантские валы и, достигнув предельной высоты, рушились с такой силой, что, казалось, прибой поглотит город. С чудовищным ревом отпрядывали волны, вырывая в береге глубокие пещеры, словно для того, чтобы взорвать сушу…» и т.д. То посреди дня, в самый разгар катаклизма: «Но море, бушевавшее еще одну ночь, было неизмеримо страшнее, чем тогда, когда я видел его в прошлый раз. Казалось, будто оно чудовищно разбухло, неимоверной высоты валы вскидывались, перекатывались друг через друга без конца и без края, как неисчислимая рать, наступали на берег и рушились со страшной силой» и т.д. Диккенсовские описания детальны, эмоциональны, несколько метафоричны, их цель – достичь именно точности в деталях описания исключительного природного явления.
В толстовской «Метели» налицо та же установка. Не ограничиваясь общими указаниями на «мрак», «вихорь», «хлопья снега», Толстой, в отличие от своих предшественников, занят именно частностями: подробной фиксацией разных «метельных» фаз. Казалось бы, что здесь особенно «описывать» – снег, ветер, «белое безмолвие»; точно так же, как у Диккенса: ветер, разбушевавшаяся вода, валы. Но Толстой упорно фиксирует все детали меняющейся стихии, которые и организуют все повествование. Вот самое начало катаклизма: «…дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить вбок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами» (III, 118). Дальше – описания снега, данные на показательных опорных деталях: «Снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже» (III, 124), «снег шел сухой и мелкий», «со всех сторон были белые косые линии падающего снега» (III, 125), «мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели» (III, 127) и т.д.
Наконец, «рассыпанные» детали соединяются, как и у Диккенса, в цельное описание, демонстрирующее образ метельного напряжения: «Посмотришь вниз – тот же сыпучий снег разрывают полозья, и ветер упорно поднимает и уносит все в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева все белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора – ничего не видно. Везде все бело и подвижно…» (III, 128) и т.д. Эти «белые» данности рождают ощущение «незнаемости» мира: застигнутый метелью путник действительно как будто попадает в иное измерение: вдалеке от людского жилья, без привычной обстановки в «колеблющемся снегу» (III, 135). «Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз все усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но к какому-нибудь приюту, – и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело…» (III, 136) Функциональное «задание» толстовских описаний то же, что у Диккенса.
«Превосходный рассказ» Толстого заставил старика Аксакова вспомнить собственный очерк «Буран», появившийся еще в альманахе «Денница на 1834 год». Об этом очерке, кстати, напомнил и Н.П. Гиляров-Платонов в статье о С.Т. Аксакове, которая появилась в том же марте 1856 г. в первом номере «Русской беседы». Очерк этот был весьма примечателен хотя бы потому, что в свое время «открыл» настоящую направленность дарования писателя. Обещавший М.А. Максимовичу «написать что-нибудь» для его альманаха, Аксаков, занятый служебными делами, не успел, по обыкновению, написать статью и дал этот очерк, изображавший действительное событие: гибель крестьянского обоза, застигнутого снежным бураном в оренбургской степи. Очерк был написан с легкостью, напечатан анонимно и имел неожиданный успех. Перепечатывая очерк, Аксаков с гордостью рассказал, как «обманом» удостоился похвалы своего литературного недруга Н.А. Полевого и напомнил, что Пушкин, работая над «Капитанской дочкой», использовал ряд деталей этого «буранного» описания.
Очерк «Буран» развивал ту повествовательную традицию, начало которой положил Пушкин осенью 1830 г. в «Повестях Белкина» (и, в частности, в самой близкой по ситуации повести «Мятель»): точное и предметное описание жизненного явления с минимумом поэтических фигур и троп: «Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес… Все одел белый мрак, непроницаемый, как мрак самой темной осенней ночи! Все слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратилось в пучину кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыханье, ревел, свистал, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу, обвивался, как змей, и душил все, что ему ни попадалось»7.
Аксаков следовал пушкинской стилистике экономных описательных оборотов: «В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землею» («Мятель»). «Пошел мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. <…> Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным…» («Капитанская дочка»)8.
Толстой прочел «Капитанскую дочку» в 1853 г. и пришел к выводу, «что теперь уже проза Пушкина стара – не слогом, – но манерой изложения. Теперь справедливо – в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самих событий. Повести Пушкина голы как-то…» (XLVI, 187–188). Но те «подробности чувства», которые он разворачивает в своем описании метели, далеко не случайно воспринимаются стариком Аксаковым как ненужные и «утомительные». Множество деталей. Не просто «лошади», но многократное возвращение к их описанию: «коренная с черной гривой», «добрая, большая косматая лошадь», «гнеденькая пристяжная», их дуга, их сбруя «вместе с длинной ременной кисточкой шлеи» – и все это, в разных вариациях, повторяется не менее десятка раз. Не просто ямщик, исполняющий свои обязанности, но целая галерея ямщиков: ямщик-«боязливый» (с характерным «господи-батюшка!»), ямщик-«советчик», ямщик-«сказочник», ямщик-«бойкий», ямщик-«ругатель» и т.д. И даже необходимость «выпить вина» на холоде, прежде чем войти в теплую избу (на нее указывает Аксаков в «Буране»), представлена здесь как живая «картинка», которая кажется не очень и нужной.
Сами же описания метели предельно субъективны, автор описывает свои видения, а не общую картину бурана, постоянно нарушая «масштаб» изображения (на что указал Аксаков-сын): «Везде все было бело, бело и подвижно: то горизонт кажется необъятно-далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убегать дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх – покажется светло в первую минуту, – кажется, сквозь туман видишь звездочки: но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо, и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно» (III, 123). Такого рода восприятие ни у Пушкина, ни у Аксакова-отца невозможно.
Сама жанровая данность рассказа кажется у Толстого нарушенной. В самом деле, во имя чего автор так подробно, в мельчайших деталях, восстанавливает события поразившей его метельной ночи? Какая общая идея кроется за его описанием? Что вскрывают «подробности чувства»?
В пределах живописуемой в рассказе ситуации Толстой идет явно по следам Диккенса. Английский романист рассматривал природный катаклизм как нечто получающее огромное влияние на человеческую судьбу. Вот как начинается LV глава «Дэвида Копперфилда»: «Я подхожу к событию в моей жизни, столь неизгладимому, столь страшному, столь неразрывно связанному со всеми предшествующими событиями, что с первых страниц моего повествования, по мере приближения к нему, оно вырастает на моих глазах, становится все больше и больше, словно огромная башня на равнине, и бросает свою тень даже на дни моего детства. Долгие годы после того, как оно произошло, я не переставал думать о нем. Впечатление было так сильно, что я вздрагивал по ночам, будто в мою тихую комнату врывались раскаты неистовой бури…»9
Подобное восприятие бури на море кажется очень уж «преувеличенным»: Дэвид ощутил этот катаклизм все же «со стороны», с берега. И тем не менее: «Достаточно мне услышать вой штормового ветра или упоминание о морском береге – и оно всплывает в моем сознании»10. «Природное» волнение, действительно, сыграло громадную роль в его человеческой судьбе: из-за описанной бури погибли два связанных с героем человека: гордый и обязательный Джеймс Стирфорт, «байронический» идеал юного Дэвида, и пытавшийся его спасти простой плотник Хэм Пеготти. При этом Стирфорт – соблазнитель Эмили, а Хэм считает его своим врагом.
А. Уилсон в своей книге о Толстом отметил некоторую параллель с «описанием бури на море» уже в толстовском «Отрочестве»: «Параллели между двумя бурями на Ярмутском побережье в романе Диккенса очевидны. Катенька, словно малютка Эмили, является служанкой дома, нанятой матерью повествователя. Их любовь чиста, просто девственна, прямая противоположность отношениям, возникшим позднее между ею и Стирфортом. Хотя Толстой и старался превратить Катеньку в свою малютку Эмили, у него не получилось. Николай вовсе не один, когда целует Катеньку, как и Дэвид, когда проделывает то же самое с Эмили. Насмехающийся старший брат подглядывает за ним…»11
«Буря на море» оценивается героем Диккенса как Божие наказание: Творец иногда пробует вмешаться в человеческие деяния и по-своему их решить. Ему, по большому счету, все равно, кто из людей прав, кто – неправ: Он привык решать сразу и кардинально.
1
Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. – С. 128.
2
Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Юбилейное изд. – М.–Л., 1928–1958. 1–90 т. Т. XLVI. – С. 232. Далее все цитаты даются по этому изданию, в скобках указываются римскими цифрами том, арабскими – страницы.
3
См.: Дружинин А.В. Повести. Дневник. – М., 1986. – С. 373, 376; Евгеньев-Максимов В.Е. «Современник» при Чернышевском и Добролюбове. – Л., 1936. – С. 71–72.
4
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Т. 2. – М.–Л., 1961. – С. 340.
5
Письма С.Т., К.С. и И.С. Аксаковых к И.С. Тургеневу // Русское обозрение. – 1894. – № 12. – С. 583.
6
Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. – М., 1995. – С. 357.
7
Аксаков С.Т. Собр. соч.: В 3 т. – М., 1986. – Т. 3. – С. 255.
8
Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 8. АН СССР. 1938. – С. 79, 287.
9
Диккенс Ч. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим / Диккенс Ч. Собр.соч. Т. 6. – М. Худ. лит., 1984. – С. 663.
10
Там же.
11
Уилсон М.О. Путь Толстого. – С. 114.