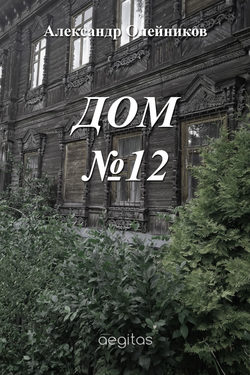Читать книгу Дом №12 - Александр Олейников - Страница 4
Глава первая. Плут
ОглавлениеРодился я в глухом и убогом сельце Слободкино, расположенном неподалеку от города N, Николаевского уезда, Самарской губернии, в одна тысяча восемьсот пятьдесят первом году, но самая же моя сознательная жизнь началась уже только в пятьдесят восьмом. Существование мое не сулило мне никакого дальнейшего благоденствия, поскольку родился я в семье крепостных, и был никем иным как сыном кузнеца Теремьева да его жены коровницы, кои являлись людьми помещика Винокурова, кавалера и отставного полковника кирасирского полка его величества. Нас было пять человек детей и к девяти годам я уже мог явственно ощущать и видеть всю суть моей никчемной жизни и земной должности, то есть мог отчетливо различать наш бедный, ничтожный холопий слой от слоя дворянского, и внимать своим сердцем всю суть печальной своей участи.
Но вдруг, как-то раз к нашему барину, одной глубокой и темною ночью, явился бог знает откуда экипаж весьма странного вида: это был дормез с посеревшими досками, обтянутый кожею и с загрязненными окнами. Всюду были расставлены ящики и коробки, перинка, горшки, валики и лукошки, ружья и чего там только не было. Экипаж остановился(а тогда я вел осла ночью и видел все совершенно) пред крыльцом Винокурова и в тот же миг на него сошел гражданин в какой-то рванине из серого сукна, с картузом в руках, с маленьким саком, большого роста и почтенных лет, то есть походка его и поседевшие волосы, освещаемые свечей в руке сторожа, говорили мне ясно об столь его многолетнем возрасте. Гражданин поспешно вошел внутрь вместе со сторожем и более уже не не выходил оттуда до самого следующего дня.
По утру Винокуров послал за мною нарочного, который, придя к нашему дому и увидев меня на улице подле окон, тут же велел мне явиться к барину с целью дознаться от меня некоторых подробностей. Так, с кое-каким волнением в сердце, я побежал к господскому дому, где почти чуть не столкнулся с тем самым приезжим гражданином. Одет он был теперь же в темно-зеленого цвета военный длиннополый сюртук, шитый из шалона, в панталонах и стареньких сапогах. Лицо его было по-военному угрюмо, без каких либо признаков живости, но отдавало весьма познавательной умственностью. При виде меня оно как бы осветилось, то есть на миг в нем будто просквозило счастье, но в другую минуту он поспешил скрыться, а человек, бывший с ним, помог ему взобраться на экипаж, после чего они удалились в сторону города.
Придя к барину я узнал, что Артемий Павлович, то есть сам он, распорядился отдать меня на воспитание гувернеру, что теперь же я будто должен распрощаться со своей семьей и жить в его доме на особом положении; тут же француз Дидье, бывший воспитателем двух сыновей Винокурова, отвел меня в мою комнату и в тот же самый день жизнь моя переменилась окончательно.
Так на пятнадцатом году выучился я русской грамоте, окончил школу и был весьма сносным и толковым подростком в делах хозяйственного правления; я хорошо выражался и по-французски, читал военные повести и был так сказать на хорошем счету у Артемия Павловича. Впрочем, признаюсь, что я с лихвой понабрался от такой жизни удали и прыти, да и барской спеси, да так, что уж к концу второго года и думать забыл об своей семье. Однако ж всему есть конец, а потому случился он и тут, и вот по какому поводу.
Как-то раз, спустя уж как целых пять лет, вновь явился тот самый гражданин, прибывший ночью, но только на этот раз в рессорной бричке и одетый во фрак хорошего покроя. Прошедшие годы не обогатили его здоровье и силу, но он, однако ж, держал себя на сей раз поживей и проворней. Он оставил своего человека снаружи и отправился вовнутрь дома, где Артемий Павлович встретил его с весьма радушным усердием, и куда через четверть часа велели явиться и мне. Удивленный, я тут же вошел в кабинет и застал двух стариков в разговоре об военных их достижениях.
– Вот, посмотри, посмотри ж какой славный малый из него вырос. – Сказал Артемий Павлович, торжественно указывая на меня и обращаясь к своему собеседнику.
Тут-то мне и внесли ясность всего сказанного, так, что я был потрясен неожиданной новостью до самого своего основания. Оказалось, что предо мною сидел не просто хмурый и чопорный офицер и чуждый сердцу старик, а мой самый родной дядюшка. Немало интересного вытекло из моей с ним беседы и пролило свет на презренное мое рождение. Человека же этого звали Федором Николаевичем и было ему пятьдесят девять лет от роду; сам же он был некогда гвардейским капитаном и довольно часто воевал то с турками в двадцать восьмом на Балканах, то с поляками в тридцатом во время холерных бунтов, а то и вовсе командовал в пятьдесят пятом на Дунайском театре военных действий пехотой; воевал он также супротив коалиции и в Черноморье. Словом он был закоренелым и опытным ветераном, несмотря на всю свою дряхлость. Родной же брат его, то есть мой отец, был намного младше чем сам он, и также воевал на Северном Кавказе, где позднее и сложил свою голову. Надобно заметить, что за исключением меня, практически весь мой род, что я узнал уже потом, состоял из одних военных офицеров и бравых, задорных вояк, что даже мой собственный прадед, чье существование мне и в мысли не приходило, воевал даже со шведами еще в восемнадцатом веке. Быть офицером и почетным гражданином было написано на роду у всех наших мужей, но, ровно настолько, насколько это было неотъемлемым, настолько же и трагичным в последствии, ибо никому из моих предков, за исключением моего дядюшки, не удавалось умереть своей смертью, и, так как все они почти до одного сложили головы на поле брани, то, осмыслив их горькую, но славную участь, я решительно отказался поступать в полк и нарушил тем самым традицию своего рода.
Относительно же самого Артемия Павловича могу сказать то, что он был старинным знакомым моего дядюшки, который не раз спасал ему жизнь. В следствии же этого он во век был обязан счастьем и взаимною помощью Федору Николаевичу, от чего и теперь, уж спустя столько лет, исполнил всю его просьбу в высшей степени рачительно и идеально, то есть именно ту, что заключалась в моей судьбе и последующей жизни. Объясню же теперь и это.
Когда отец мой, зачав меня, оставил мою матушку и отбыл на службу, то почти через год с небольшим умерла от продолжительной болезни и сама моя матушка, успев оставить меня на попечении у одной из своих близких и верных приятельниц. Приятельница же эта, получив известие об смерти моего батюшки, никак более не могла справиться и решить: что ей нужно было делать дальше. Разумно здесь было то, что она оставила маленького меня на свое воспитание и перебралась позднее в глухую периферию, в город N, где также скоропостижно отправилась на тот свет от тифа. Оставшись на руках у одной из ее крепостных фавориток, я попал каким-то нечаянным случаем под покровительство одного из тамошних помещиков, и уже потом, немного позднее, под видом какого-то расчета перешел во владение помещику Винокурову, кой по стечению судьбы, имел поместье именно в одном из тамошних селений.
Вскоре без какого-либо особого разбирательства я был причислен к семье Теремьева, где суждено было прожить мне до самого десятилетнего возраста, почитая их своими истинными родителями и тяготея также от несладкой жизни, хотя и привыкши к ней.
Ничего этого ни Винокуров, ни мой дядюшка не знали совершенно, тем более что последнему было не весьма надобным доискиваться судьбы семьи своего покойного брата, об которой он также ничего не знал. Впрочем, стоило бы объяснить вам его столь странный вид, в каком и как он прибыл к своему сослуживцу впервые, после ухода в отставку. Дело в том, что дядюшка мой, как и свойственно всех удалым офицерам, страшно кутил и играл всю свою службу, что в конце концов привело его в не весьма надежное состояние. После выхода в отставку у него не осталось ни единой копейки и даже старинные его приятели позабыли об нем как о чуме, и что даже много долгов было прощено ему по мягкости и снисходительности. Крайнее его положение доходило уже до того, что он начал продавать свои последние вещи, некогда им приобретенные, за такой грош, что даже было стыдно.
Но тут вдруг явилось счастье, и вот какое.
Матушка моя, будучи еще живой, но уже при смерти, успела таки отписать кое-какое письмецо одному благодетельному князьку, с целью позаботиться об моем воспитании и передать меня на попечение Федору Николаевичу, если тот окажется еще живым и в здравом рассудке. Письмецо это, по-видимому, было затеряно и так и не попало в руки к моему дядюшке, но удивительно здесь то, что сам он встретил того же самого князя, который тут же осведомился у него об моем здравом расположении. То есть как бы и сам Федор Николаевич был давно уже моим покровителем.
После сих некоторых разъяснений он, конечно же, был изумлен об случившемся и поспешил скорейшим образом разыскать меня или узнать наконец мою судьбу. Однако ж счастье тут было вот в чем: он понял вдруг, что в городе N есть же теперь земля, оставшаяся бесхозной по смерти своего младшего брата и всей его семьи, и что теперь, будучи нуждающимся в средствах, он мог взять себе такой подарок на руку. Вскоре он решительно выехал в город для ее приобретения.
Там он кое-как узнал потом посредством компетентных лиц и об самом моем существовании. То есть он всюду навел справки и дознался даже место моего пребывания, что очень его поразило, и в ту же минуту тем самым поздним вечером мой старенький дядюшка выехал со двора во Слободкино, к своему старинному приятелю. Приехав на ущербном дормезе уж самою ночью, попросил Винокурова самым убедительнейшим образом воспитать меня как собственное чадо и дать мне надлежащее образование для подготовки к военному училищу, поскольку тот еще не успел оправиться от своего нищенства, и, когда он наконец встанет на ноги, то тут же и заберет меня обратно домой, на что последний согласился немедленно и почел это даже за священнейший долг. Он же тем временем отправился продавать именьице, после чего разделался и с долгом и с местом жительства. По прошествии пяти лет он уж стоял в городе основательно, имел кое-какой доход и даже хороших и выгодных знакомых. А хотя имение было разорено окончательно и даже не осталось ни единой души, то все же продал хорошие участки земли раздельно, примыкающим к этой земле другим помещикам, очень выгодно, а оставшийся дом заложил в ломбард. И теперь уже, имея твердую почву под ногами и остепенившийся свой старый рассудок, он прибыл вот в таком положении, чтобы наконец забрать меня жить в свой собственный дом.
Все это он поведал мне лично в кабинете у Винокурова, ласково заключил меня в свои объятия и объявил: что я сию же минуту отправляюсь с ним жить в город, что к концу лета я поеду служить в Петербург, что в отношении меня будет составлен должным образом документ об принадлежности к тому или иному сословию и фамилии, и что наконец я являюсь теперь же никем иным как его наследником(у него самого детей не было). Можете ли вы себе представить каковы было мое удивление и радость?
Опуская все вытекающие из того последствия, скажу в двух словах, что в тот же самый день я любя и почтительно распрощался с Артемием Павловичем, что мы с моим дядюшкой очень сдружились, и что жить я стал теперь на Мещанской улице. Жил же я там все лето на широкую ногу и ни в чем себе не отказывал, покамест не пришла пора отправляться на службу. Но так как воинская слава и доблесть не столь увлекали мое тщеславие, то я наотрез отказался от военного училища и службы, а вместо того я решил поехать в Москву, чтобы поступить на юридический курс для получения аттестата, а по-правде говоря, для того чтобы вкусить все прелести и соки тамошней светской жизни. Долго уговаривать мне дядюшку не пришлось и он, смирившись с моим убеждением, выдал мне нужную сумму и положил также высылать мне ежемесячный денежный перевод для поддержания своего состояния и достоинства. Так я с ликованием поехал на курсы.
Выход из убогой и дикой глуши в свет произвел на меня впечатление неизгладимое. Встречи с военными офицерами, позолоченные экипажи, балы и вечеринки, пунш, прекрасные и стройные дамы, салоны, джентельменская учтивость, ушлые игроки, рулетка наконец, – все это внесло несомненную лепту в мою плутовскую натуру. А хотя учился я и не так чтобы уж хорошо, однако ж и не то чтобы плохо, но тем не менее дело свое знал и вел себя исправно и прилежно, особливо по отношению к своим учителям, проявляя свои обаятельные черты и вежливые наклонности. Не отставал же я еще и от других в степени удали и прыти.
Уже к двадцати годам я, вместе со своими приятелями, мог целыми днями разъезжать в нанятой карете, посещать трактиры, клубы и прочие заведения, мог устраивать драки и дуэли на киях, мог проводить вечер с чудною дамочкой, коя в то время была уже для меня ничем иным как атрибутом, идущим как бы в пандан к моему виду, что заметно повышало паблисити.
Надобно заметить, что еще даже после самого курса, уж отучившись, я никак не решался ехать обратно в убогую окраину и вотчину моего детства, поскольку спесь и барство в моем шальном рассудке подавляли во мне желание распрощаться со светом. Я никак и думать не хотел про то, что близость Москвы может статься для такой же дальностью, какой тогда была дальность города N. Поэтому я, используя все свои уловки, хитрость и изощренность, как-то вскользь заявил дядюшке, что вот мол, хочу пожить в Москве и отыскать работу уже здесь, но покамест я еще не имею устойчивого поприща в судебной практике, то прошу покорно высылать переводы мне и далее. Поначалу все шло гладко, но вскоре, как это и предвиделось, дядюшка мой, прознав об таких моих прилежных стараниях, начисто прекратил высылать мне денег, и тут же призвал меня в город, не полагаясь на мое несомненное стремление к юрисдикции.
Делать было нечего. Я отправился в дорогу и, несмотря на мой пылкий возраст и жажду общества, все же решился провести еще несколько лет в нашем городе, и вот почему.
Дело тут в том, что, как я уже и говорил, мой дядюшка нашел в городе себе весьма полезных и нужных знакомых, одним из которых был Сергей Антонович Поварихин, управитель главной городской столовой на Мясницком проспекте, которому нужно уделить также несколько времени и строк в моей повести. Прежде всего скажу, что человека этого никак нельзя назвать рассудительным и честным, а всем своим видом он походил на огромного и щекастого борова, нежели на человека. Все его повадки и манеры были пронизаны до самых основ спесью, капризами и избалованной прихотью, но даже и среди таких ущербных качествах я явственно мог отличить надменную и властную жилу его характера. Был же он лыс, но носил мощные усы с закруткой, а вся его голова, и тем более затылок, щеки и лоб, напоминали любому встречному огромный и медный чан. В жидких же и маленьких глазенках его читалась истинная подлость и скупость, а его подозрительный прищур давно уж прослыл как бы самим проницательным оком. Нельзя же его было еще и отличить худобой кости от такой же тучной и всем умом туговатой дочери его, кою звали Маруськой, но называли Марышкою (а потому не стану отклоняться от оного обычая и я). Об этом персонаже мы поговорим отдельно ниже, а покамест следует объяснить следующее.
Родной дядюшка мой, посчитавши, и, по-видимому, рассудивши по себе, что влияние большого города и света может сказаться на мне чересчур отрицательно, решил устроить мои дела здесь таким образом, чтобы на моем успехе могло как-нибудь сказаться покровительство или протекция одного из губернских капиталистов, каким например являлся и самый Поварихин. А поскольку тот находился с ним в отношении фамильярном, то тут же и решил предпринять такую попытку. То есть он решил что быть под крылом Поварихина намного лучше чем повесничать в Петербурге, куда уж давно взирало мое сердце, и с тем самым они вдвоем порешили посватать меня с этой самой Марышкой, дабы мое счастье в устойчивом и доходном месте, в качестве не последнего лица в городской столовой, было совмещено с успешным браком и благим продолжением рода. Что даже будь я хотя бы порасторопнее в коммерческом деле, каким я бывал в картах и по делам волокитства, то смог бы несомненно достичь еще намного большего успеха, чем его смог достичь сам Сергей Антонович.
А достичь то он смог его вот как. Давно, еще когда он и сам был находчив и молод, будучи еще гимназистом, устроился он на работу в эту же самую столовую вместе со своими приятелями по классам. И вот как-то раз все они занимались своею работаю, как вдруг один из них, то есть тот, что был позадорней, изъял из сумы одного из поваров горсть гусарского табаку, после чего, обольстив ею всех своих друзей, предложил им выкурить его через трубку. Поварихин же однако ж курить не отказался, но все же предпочел донесть об том главному управителю лично, питая в том выгоду и наивное подхалимство. Управитель тут же приказал всех курильщиков вон, а Поварихина заметил и приобщил к делам более ответственным и серьезным. Так например последний сделался вдруг человеком нужным и ловким в обращении с пищей и счетом круп, работал там как за троих, всюду был полезен и дельный, своевременный, весьма бойкий и расторопный. Словом он везде и к каждому умел найти особый подход и проявить себя самым рачительным образом.
Такое его прилежание никак не могло остаться незамеченным со стороны управителя столовой, и, спустя уж несколько лет, он добился еще одного повышения и приспособился к совершенному познанию своего дела. В этих фискальных, подхалимских и рачительных его движениях легко можно было увидеть карьеризм и формализм, ибо уже потом, спустя много усердных лет, он добился даже руки тщедушной дочери того самого управителя(который, впрочем, являлся еще и владельцем самой этой столовой), после чего тут же вошел в наследники над всем его имением и через еще каких-то пять или шесть лет уже сам стал полноправным владельцем этого частного заведения. Вот каков был мой вероятный свекор, и что еще удивительно, так это тот самый его формализм, который доходил иной раз до таких вершин, что было даже гадко и пошло. Впрочем, ко времени становления его главенства в столовой не поменялось практически ничего, разве что только весь персонал был выдрессирован под муштру.
И вот именно с таким-то человеком и решился сроднить меня мой собственный дядюшка. Много было уговоров, угроз, обещаний, просьб и просто молений на протяжении нескольких лет моего тамошнего развития, и все же он смог таки затащить меня к нему на обед и познакомить как и с ним самим, так и с его ненасытной дочерью.
В продолжении почти всего ужина она не сводила от меня глаз, и, как я узнал потом достоверно от нее же самой, была просто потрясена моей приятной наружностью. По правде говоря, мне и самому уже очень часто доводилось слышать от многих людей их лестные отзывы относительно моей внешности. Сам же я хоть и не считаю себя настоящим красавцем, то все ж никак не мог отрицать изящество моей тонкой и стройной талии, складность широких плеч, и соразмерно небольшие руки и ноги при высоком росте. Помимо же этого, многие из моих бывших дам сильно отзывались об гладкости кожи на лице, голубых глазах, греческом носе и умении носить бабочку с фраком.
Но вернемся к настоящим событиям. Итак, Марышка влюбилась в меня еще в тот же самый вечер, и, после того как этот вечер окончился, мой дядюшка не замедлил позвать меня к себе в кабинет и произнести вот такую речь:
– Друг ты мой, как собственного сына я полюбил тебя и всю нашу совместную жизнь стремился дать тебе всех благ и вывести на путь благоденствия и праведной жизни. Что, скажи мне, что может быть хуже того, что человек, опираясь на земное свое происхождение и живя в добротном достатке, стремясь возвести свой род и потомство, наконец презирает Божий дар и сам, сам вгоняет себя в пучину мрака и бессилия? От чего же ты не хочешь смириться со своей непорочною частью, со своим наконец призванием? Ведь имея и кров, и твердую почву, ты теперь же есть и сам творец своего счастья и, несмотря на все это, решаешься оставить чудное поприще и жить повесою и растяпой, мотая и повесничая как подлый плут, не считаясь со своей древней дворянскою кровью. Я очень стыжусь что ты даже подумать решился об том, но каков же будет мой стыд, когда ты свершишь надуманное. Бога буду молить чтобы ты одумался и завтра же явился к Сергею Антоновичу для откровеннейшей и нежной беседы с этим человеком; на Матерь Божью буду я уповать, чтобы она дала тебе благоразумия и сил посвататься к его дочери, дабы перед смертью я обрел покой и великое счастье.
А надо признаться, что я никак не мог ожидать от моего дядюшки такой откровенной беседы, которая, впрочем, очень раздосадовала меня. И в самом деле, он уже давно был немощен и стар и собирался в скорейшем времени почить на своем одре. Я же тем временем собирался спустить все его имение и перебраться в Петербург, в столицу России и центр мира, который уже давно и сладко манил меня в свои объятия.
Однако ж, и самый Поварихин не замедлил послать за мною нарочного еще даже в самое утро, дабы переговорить со мною на счет сватовства, но вопреки всем моим ожиданиям и увещеваниям моего дядюшки в том, что это будет откровеннейшая и нежная беседа, случилась беседа иного характера. Он был чопорен и хмур в то самое утро и, лишь только я появился в дверях, начал дерзко и властно:
– Ну вот послушай, Вандрейч, (так он называл меня; зовут же меня полностью Иван Андреевич Семечкин), глупая и твердолобая голова твоя непробиваемая может изъять хоть каплю, хоть самую малую часть, хоть бы крупицу пользы из того, что я тебе предлагаю? Все прелести и выгоду того, что сам Бог преподносит тебе? Ужели настало время, когда наш юный брат сам спешит себе же слыть коварным врагом? Ну вот что, братец, чураешься ли ты меня иль дочери моей, а только знай, что я пошел на это не затем, что я сам хочу, а лишь потому, что того хотел многочтимый мною Федор Николаевич, или ты думал что мимо тебя негде сыскать других женишков моей дочери красавице? Что ж, иди ка ты теперь подумай об том, да явись же ко мне завтра, но знай, что твой отказ лишь оскорбит меня неслыханным образом, а я тебе не осел, чтобы такое вот оскорбление стерпеть и не принять мер. Заклинаю тебя Святым Причастием, чтобы ты одумался.
И вот, под покровом Святого Причастия, вышел я в ту же минуту и несколько пал духом, придя домой и закрывшись у себя. Честно признаться, я не знал что можно было мне предпринять в таком случае и приуныл, видя неизбежность женитьбы. Даже и самый Петербург со всеми своими балами и дамочками стал для меня каким-то абстрактным и призрачным; недосягаемым. На следующее утро уныние и досада мои дошли до крайности, как вдруг я узнал, что дядюшка мой захворал и слег в постель, и что теперь же, видя свою скорую смерть, он объявил, что если еще при его жизни я повенчаюсь с дочерью Поварихина, то тут же смогу получить восемь тысяч рублей по наследству.
Такой поворот событий намного меня ободрил, я бы даже сказал, что он оживил меня, и, не раздумывая более ни одной минуты, я поспешил придать такой верной оказии правильное направление. Я немедленно явился к Поварихину и сказал ему самым трогательным тоном, что дескать образумился и надумал принять такое свое счастье и жениться на его дочери, но что мол не имею никакого достатка и хотел бы устроить свое дело сам, что хочу наперед знать щедрую руку свекра и его ласковое напутствие.
Сей приступ понравился толстому борову и он тут же выдал мне две тысячи ассигнаций, после чего, одевшись по-царски, отправил гонцов во все края города для устройства и проведения свадьбы. Помолвка же была назначена на следующий день, а для того чтобы придать всему этому правдоподобный образ, я в тот же самый вечер собрал все свои вещи и переехал жить к Поварихину, в соседнюю от его дочери комнату. В тот же день я сделал еще множество комиссий, особо для меня важных, и устроил дядюшке лестную и чувственную беседу, после которой он уже теперь дал мне восемь тысяч, но объявил, что все его имение и наследство перейдет по завещанию к дочери Поварихина, и что я смогу овладеть им лишь женившись на на ней. Сей предусмотренный его выбор несколько меня огорчил, но десять тыщенок, которые были у меня уже под рукой, не заставляли так долго томиться с таким огорчением.
Вскоре и самое дело насчет свадьбы было устроено совершенно, так, что нужно было лишь дождаться следующего дня, а вечером, то есть в канун свадьбы, прежде чем я отправился к себе, имел место быть еще долгий и в самом деле ласковый разговор с моим вероятным свекром, в ходе которого он излил мне множество обещаний и наставлений об правилах семейной жизни, и даже упомянул как-то вскольз о приданном, которое могло быть только увиденным во все.
Все это было конечно очень заманчиво, но дело свое я знал верно и не стал искушать Бога. Уже ночью я удалился в свою комнату, и, когда убедился, что все в доме спят, тихо вышел оттуда и направился в комнату ко своей невесте для проведения нашего с ней разговора. То есть я как бы не обольщен просто самою свадьбой, но, имея порыв любви и нежного сочувствия, питаю дескать большое уважение ко своей будущей жене, что мол пред самим Богом и под его покровительством, как и полагается всякой чете, следует доверять друг другу и не стыдиться законных дел своих. И что, имея она хоть какое-нибудь понимание, могла бы проявить его в знак доверия уже и на самом первом шагу нашей совместной жизни.
Окончив все это дело, я вернулся обратно, но не для сна, а для того чтобы, одевшись все свое новое и чистое, взять свою дорожную кладь и тихонько выбраться в окно на задворки, где уже меня стоял и ждал экипаж с кучером до ближайшей станции, и где также был мой конфидент, которому я вручил некоторую сумму для погребения дядюшки и поручил две-три комиссии, от которого я также получил некоторые документы, и с которым в итоге я крепко накрепко распрощался. Той же ночью я прибыл в Саратов, а затем отправился в Петербург.