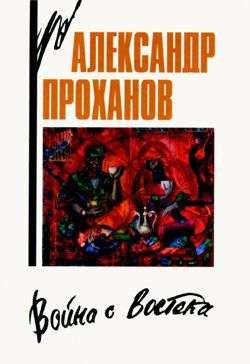Читать книгу Война с Востока. Книга об афганском походе - Александр Проханов - Страница 29
СОН О КАБУЛЕ
роман
Часть первая
Глава первая
ОглавлениеГенерал внешней разведки в отставке Виктор Андреевич Белосельцев сидел среди зимнего солнца в московском домашнем кабинете. Смотрел на коллекцию бабочек, собранную им за годы поездок в джунгли, саванны и сельвы. Военные действия, бомбардировки, рейды диверсионных групп совершались среди несметного сонмища легкокрылых разноцветных существ, пропускавших сквозь себя пыльные колонны броневиков, утомленные цепи «командос», пикирующие вертолеты. Разведчик, охотник за знаниями, улучая мгновения, он становился охотником за крылатым восхитительным дивом. Выхватывал сачком из горячего африканского воздуха алую нимфалиду, слыша, как слабо шелестят ее крылья в прозрачной кисее. Мимо, по горчичной ядовитой пыли, проходил изможденный чернолицый отряд, и солдат-анголец с изумлением смотрел на ловца.
Отряды, с которыми он воевал в Америке, Африке, Азии, были давно разбиты. Операции, которые он разрабатывал, оказались бессмысленны. Режимы, которым он помогал, канули в вечность. Советская разведка вместе с огромной страной, казавшейся непобедимой и вечной, превратилась в пыль, в «бросовую агентуру», в гниющие остатки разложившихся бессильных структур, с которыми он не желал иметь дело. От великих доктрин и деяний, от прославленных армий и океанских флотов, от всесильной красной империи, которой он страстно служил, осталась огромная, во всю стену коллекция бабочек. Ряды застекленных коробок, в которых, как солдаты с тонкими остриями, маршировали бессчетные батальоны бабочек, каждая из которых была разноцветной страничкой его походного дневника. Тончайшими письменами на цветных чешуйках, среди серебристых прожилок, золотых и малиновых пятен были записаны боевые эпизоды, имена агентов, лица дипломатов и военных, многих из которых убили. Коллекция была огромной летописью прожитой жизни со множеством драгоценных узорных буквиц. Напоминала многоцветный лоскутный плащ, в который была укутана его жизнь.
Он смотрел на свое богатство. Останавливал зрачки на махаонах, сатирах, лунных сатурниях, и за каждой бабочкой открывался крохотный, расширяющийся ход в иное пространство и время. Он нырял в него, как в сказочный кипящий котел, погружал свое старое тело, выныривал молодым и свежим.
Он остановил свои бегающие, одурманенные чудесными зрелищами зрачки на песчано-серой, с острыми кромками нимфалиде, пойманной в южной Анголе, в партизанском лагере СВАПО. Второй экземпляр был наколот тут же, тыльной стороной наружу. Напоминал ритуальную маску бушменов, раскрашенную красными и синими глинами, соком зеленых растений, с наведенными белилами и пятнами угольной сажи. Серебристой металлической пудрой были нанесены магические знаки и символы. Орнамент крыльев был похож на татуировку воинов, которые с колчаном и стрелами, голые, на избитых ногах, выходили на обочины пыльных проселков. Смотрели трахомными глазами, как пробираются помятые джипы с солдатами, зенитная установка трясется в кузове пятнистой «тойоты», переваливается в колее уродливый, похожий на костяную черепаху броневик.
Он поймал этих бабочек в партизанском лагере, откуда уходили боевые группы в Намибию взрывать водоводы, ведущие к кимберлитовым трубкам, высоковольтные мачты, питающие кимберлитовые трубки. Расцветка и рисунок бабочки тайным образом воспроизводили песчаные цвета Калахари, подземное залегание руд, глубинные линзы воды. Бабочка была крохотным атласом Намибии, географической картой, нарисованной безымянным географом. Самолеты ЮАР, воющие, в блеске винтов, «импалы» и «канберры», бомбили лагерь. Гремели взрывы, с хрустом валились деревья, стреляли зенитки, кричал с оторванной рукой партизан. Белосельцев, падая в красный песок, видел, как в редких вершинах проносится штурмовик, сверкают стеклянно винты, трепещет огонек пулемета. Вблизи дымилась воронка, сочилась ядовитая химия взрыва. И на это зловонье, на отраву пироксилина, слетались бабочки. Падали в жаркую ямину, пропитанную дымом и смрадом. Пьянели от запахов, замирали, словно пронизывались радиацией, таинственным пьянящим наркозом. Белосельцев, слыша удалявшуюся стрельбу, склонился к воронке, к горячему дымному кратеру, из которого поднимались запахи древних земных составов, духи молодой горячей земли, сернистые испарения взрыва. Бабочки, сотворенные в первобытное время, в ранние дни творения, летели к воронкам, управляемые реликтовой памятью, вкушали сладость газов, воздух юной планеты. Он брал их руками, как крохотные, отлитые в тигле слитки.
Теперь в своем зимнем московском кабинете он смотрел на бабочку остекленелыми зрачками, запаянными в прозрачное остановившееся прошлое. Это галлюциногенное созерцание прекращало движение времени, прерывало неумолимый ход событий, увенчанных катастрофой, сделавшей бессмысленной его жизнь. Логика его поступков, бесчисленные разведывательные комбинации, неисчислимые траты были направлены на процветание Родины, на укрепление ее сил, становление могущества. На осмысленное служение великому и правому делу. Теперь же, после катастрофы, превратившей страну в руины, ее идеи и символы – в отребья, ее вождей и адептов – в жалкое скопище проигравших бездарей и бессовестных лихоимцев, все прежние его устремления, все повороты его судьбы и карьеры утратили смысл и вектор. Стали бессмысленным броуновским движением безвольной песчинки, толкаемой бессчетными, не имеющими объяснения столкновениями. В созерцании бабочек он был готов провести все оставшиеся, уже немногие годы, заслоняясь этим витражом от гнусного, не принадлежащего ему бытия, в котором ему, пенсионеру разведки, гарантировано прозябание, скудный, позволяющий выжить паек и множество нескончаемых пыток, стоит включить телевизор и увидеть в стеклянной колбе, среди синего веселящего газа, личины палачей и мучителей.
Каждая коробка с плотно размещенными бабочками напоминала всесвятскую икону, где тесно, рядами, застыло строгое недвижное толпище святых, пророков, крылатых ангелов, венценосных воинов, толкователей божественных истин, мучеников за веру, благодатных устроителей храмов. Их долгополые одежды, разноцветные плащи, их доспехи и рясы, их крылья, короны и нимбы кидали в ее зрачки тончайшие цветные лучи. Его созерцание бабочек было безмолвной молитвой к Творцу, создавшему всякую тварь, сотворявшему и разрушавшему царства, каравшему и награждавшему всякую душу. Душу его, Белосельцева. Бессловесно, не мыслью, а кристалликами глаз он вопрошал Творца, в чем его вина и ошибка. В чем его грех, повлекший за собой несчастья страны. Как, в служении чему надлежит провести последние недолгие дни, чтобы искупить этот грех. Но бабочки, укутавшись в плащи, облекшись в доспехи, молчали. Посылали в зрачок крохотные цветные лучи, словно в каждой, окруженной нимбом голове был помещен невидимый лазер, писал на сетчатке глаза неведомые письмена.
Он снова подвинул взгляд, пробегая среди драгоценных коробок, где каждая бабочка напоминала геральдику рыцарских родов и фамилий. Задержался на золотисто-медовой данаиде, с черным ожерельем пятен, с жемчужно-белой чередой похожих на капли вкраплений. И сладко, мучительно замер. От бабочки, от ее тонких пластин прянуло отражение минувших дней. Он почувствовал лицом дуновение слабого ветра. Он поймал данаиду в Джелалабаде, среди кустов благоухающих роз, в свой первый приезд в Афганистан. Ветер, что коснулся его лица, был душистым воздухом, наполнявшим райский сад, в котором, как ангел, летала прозрачная бабочка. Это воспоминание породило мгновенную цепь зрелищ и лиц, из которых, как из бестелесных молекул памяти, воссоздался мир, где он, молодой разведчик, обретал драгоценное знание. О Востоке. О войне. О смерти. О таинстве любви. О вероломстве. О бесценном загадочном даре, имя которому жизнь, куда на краткий миг, как в прозрачную пленку света, залетает из сумрака человечья душа. Пребывает в страстях, усладах и муках. Не успевает понять этот светлый дар, перед тем как вернуться во тьму.
Ему, изнуренному, ослабевшему во всех костях и суставах, с погасшим зрением, с омертвением чувств, вдруг захотелось, пусть перед смертью, на одно лишь мгновение, оказаться в том сухом, солнечно-желтом пространстве, под синевой азиатского неба. Пройти вдоль белесой глинобитной стены, по которой скользит его легкая тень. Вдохнуть сладкий дым горящей душистой сосны. Увидеть над дувалом висящую деревянную клетку с малой лазурной птичкой. Проследить скольжение шелковой паранджи, под которой вьется недоступное прелестное тело, мелькает маленькая смуглая пятка. На краю кишлака, где течет стеклянно-зеленый арык, увидеть вечерние горы, розовые, с голубым ледником. Горы Центральной Азии, от которых откатилась разгромленная империя русских.
Он смотрел на бабочку, на ее хрупкие песчано-желтые лепестки. Они сближались, как тончайшие клеммы, готовые замкнуть распавшееся время, вернуть ему звуки, цвета и запахи. Он чувствовал приближение бесшумной, набегавшей из прошлого волны, которая в момент, когда клеммы замкнулись, разразилась громким звонком телефона.
Он слушал настойчивый, неумолкавший звонок, страшась подойти, надеясь, что волна, вызванная его колдовством, отхлынет обратно в океан несуществующего прошлого, не брызнет ему в лицо. Но звонок грохотал, прошлое просачивалось в его одинокий дом сквозь ветхие оконные рамы, в щели дверей, в малую скважину, чуть прикрытую бабочкой. Одолевая предчувствия, он потянулся к трубке.
– Виктор Андреевич, друг ситный, живой аль нет?… Это твой закадычный!.. Чичагов!.. – Предчувствия его оправдались. Из прошлого – из гончарного Кабула, из бирюзового Джелалабада, из зелено-изразцового Герата, из красного Гордеза возник этот голос. Генерал Чичагов, действующий начальник разведки, с кем познакомились двадцать лет назад в февральских снегопадах Кабула, сквозь которые по Майванду мчалась машина, и зеленый минарет Пули-Хишти напоминал огромный чешуйчатый хвощ, – звонил Сергей Степанович Чичагов, материализованный его колдовскою мыслью.
– Не разбудил?… А то у пенсионеров, я знаю, первое дело после обеда на диванчик прилечь!
– Да нет, дневная бессонница…
– Знаешь, сижу сейчас в своей дребедени. И вдруг, понимаешь, мысль о тебе. О том, как мы с тобой куролесили. И тогда, в первый раз, во время хозарейского бунта, и позже, во время Панджшера, и во время операции «Магистраль», когда из-за тебя нас едва не прихлопнули… Думаю, дай позвоню. Дай проведаю старого друга!..
– Спасибо за звонок…
– Слушай, у меня есть прекрасная, вкуснейшая бутылка бордо!.. Прямо из Франции… Что, если я к тебе сейчас прикачу, посмотрю на твои благородные морщины, свои покажу, и мы, как два старых товарища, как два линялых камышовых кота, как два хрыча, наконец, разопьем бутылочку красного?…
– Прямо сейчас? – испугался Белосельцев, понимая, что в этом натиске бушует, надвигается вызванная из прошлого волна и она не сулит ему благоденствия, а неведомую угрозу. – У меня не убрано, хаос…
– Что, я холостяцких домов не видал?… Приберись, приготовь стаканы…
– Право, не знаю…
– Еду!.. – Короткий зуммер. Золотистая данаида в коллекции. Холодок опасности в самом центре его испугавшегося сердца.
Белосельцев неохотно, с раздражением убирался в квартире. Комкал, зашвыривал в шкаф разбросанную одежду. Запихивал на полки и в ящики недочитанные, забытые по углам книги. Сметал в совок скопившуюся на полу мохнатую пыль. Мыл на кухне винные рюмки. Готовил для кофе чашки. И думал с недоумением, с нарастающим раздражением, зачем он был потревожен в его одиночестве, в разноцветном тумане, сквозь который, как сквозь сладостно-ядовитый дым кальяна, пролетали бесшумные образы прожитой жизни.
Чичагов был мастер многоходовых комбинаций, в которые сложно, не ведая о замысле, вовлекались люди, совершая на разных отрезках интеллектуальной траектории каждый свое действо, затем исчезая, иногда бесследно. Лишь в последний момент в эту прихотливую извилистую линию вставлялся Чичаговым недостающий малый отрезок, замыкавший ее на конечный результат. Этой виртуозной способностью он пользовался в Афганистане, стравливая между собой мятежные племена, ссорил воинственных алчных вождей, сталкивал пуштунов с белуджами, таджиков с хазарейцами, добиваясь ослабления противника, по которому затем наносились удары правительственных войск. Слишком поздно недалекие главари моджахедов догадывались о лукавстве, когда над их головами проносились пятнистые эскадрильи вертолетов, разносили в прах мятежные кишлаки, потаенные горные базы.
Из нескольких белых яичек, отложенных в диссидентских кухнях, с невероятной скоростью размножились прожорливые черно-блестящие муравьи. Населили квартиры артистов, газетчиков, карьерных дипломатов и властных чиновников. В одночасье источили страну, казавшуюся стальной, превратили ее в трухлявый дырчатый пень. Перед зданием госбезопасности в лучах ночного прожектора накинули стальную петлю на шею чугунного тулова. Дзержинский закачался, как висельник, под стрелой японского крана. Множество офицеров разведки, наделенные штатным оружием, бронетехникой, спецчастями, молча глотали свой позор. В гранитное здание, управлявшее половиной земли, явился хлыщ, заявивший оперативному составу, что он видит свою роль в разрушении советской разведки и останется здесь до предельного ее ослабления. Тогда Белосельцев, вместе с группой генералов, добровольно ушел в отставку, не желая служить мерзавцам. Другая часть перекинулась на работу к банкирам, создавая им службу разведки, безопасности и подрывных операций. Чичагов остался в строю, послушный новым властям. Он был лучше тех, что ушли к банкирам. Ничем не запятнал себя в кровавые дни октября. Но был нелюбим Белосельцевым, который одичал и замкнулся, порвал все прежние связи, подолгу жил в деревне, высаживая на грядках цветы. Теперь настойчивый визитер вызывал у него неприязнь. Работая веником, сметая в совок черепки разбитой недавно чашки, Белосельцев готовил Чичагову несколько язвительных фраз. Продолжал тайно тревожиться по поводу причины визита.
Чичагов явился с мороза шумный, говорливый, с длинным покрасневшим носом, желтыми залысинами, редкими бесцветными волосами, которые он по привычке процеживал сквозь гребешок. Первые секунды своего появления, покуда раздевался в прихожей, шмыгал в платок, заглядывал в зеркало, он потратил на то, чтобы побольше наболтать, набормотать, налепетать незначительное, веселое, бестолковое, желая скрыть за этой мишурой зоркую настороженность, пытливую чуткость, чтобы исследовать, в каком состоянии пребывает хозяин, понять, насколько достижима поставленная им задача.
– Так что вот, как говорится, старый друг лучше новых двух!.. И я, понимаешь, свое бренное тело, и все такое, чтобы навестить опального товарища, Меньшикова в Березове!.. Ну и, конечно, так, ради собственного, как говорят, удовольствия, чтобы рюмочку бордо пропустить!.. – он передал Белосельцеву пакет с бутылкой и нарезанной, проперченной, смугло-красной бастурмой. Через несколько минут они сидели в кабинете среди янтарных солнечных пятен, мерцающих бабочек, держали рюмки, полные густого, почти черного, с рубиновыми искрами вина, и Чичагов говорил:
– Ну что, дружище, все теснее наш круг!.. Все меньше людей, к кому можно вот так прийти и знать, что будешь понят с первого слова!.. За те времена, когда мы встречались в твоем кабульском номере, и в посольской мраморной гостиной, и в офицерском модуле в Кандагаре, и в штабной палатке в Шинданте, и где только мы не встречались!.. За нас, дружище!..
Вино было чудесное, вяжуще-густое, терпкое. Губы, еще не прижимаясь к стеклу, чувствовали легчайшее жжение, словно их касалось незримое пламя. Белосельцев видел, как уменьшается вино в хрустальной рюмке Чичагова и поверх стеклянной кромки смотрят на него немигающие острые глаза, будто в каждый закатили блестящую дробинку. Ждал, когда эти дробинки вылетят и ударят.
– Как в конторе? – спросил Белосельцев, удивляясь вялости и формальности вопроса, который на самом деле не интересовал его. Он уже не чувствовал себя членом разведывательного сообщества, не чувствовал себя посвященным. Монашеский орден распался. Выродился в департамент бездельных малооплачиваемых чиновников, которые были не нужны государству, имитировали деятельность. Обрубив с ними связь, он испытывал драгоценность своего одиночества. Дал обет молчания, обет послушания, обрекавшего на отдельность и несвязанность с миром, когда становится возможным долгожданное общение с Тем, кто незримо управлял его жизнью, берег под пулями, спасал от крушений. Теперь, когда страсти покинули его изнуренное тело, он хотел проверить свою яркую, огромную жизнь, проведенную среди сражающихся континентов, – проверить ее заповедями священных текстов – Библии, Корана, Дхаммапады, Авесты, которые терпеливо, долгие годы, смотрели на него с книжной полки. Завтра он уедет в деревню и там, в последних снегопадах, подкладывая в печь тяжелые смоляные поленья, будет читать и думать. – Так что, бишь, в конторе творится?
– Сам знаешь, бессмыслица… Спецы, вроде тебя, ушли. Новички без царя в голове, не знают, кому служить, за что служить… Реорганизация за реорганизацией… Американцы и евреи лезут во все щели… Пропади оно все пропадом…
– Зачем же служишь? – Белосельцев почувствовал, что лицо его помимо воли обрело едкое, почти брезгливое выражение. Заслонился рюмкой, не желая, чтобы Чичагов его рассмотрел. Делал вид, что играет рубиновой искрой в вине.
– Но ведь кто-то должен отстаивать интересы матушки-России… Кто-то должен следить, чтобы последнее не растащили…
Чичагов производил впечатление теплого и мягкого снаружи. Это была теплота и мягкость неостывшего пепла, какой бывает на недогоревшем полене. Дунь на него – и полетит серый рыхлый сор, запорошит глаза, испачкает лицо и руки. Но под этим пеплом чувствовались несгоревшая сердцевина, глубинные твердые сучки, окаменелые волокна. В Чичагове еще оставался крепкий внутренний материал, способный превратиться в жар, в слепящий огонь. И эту способность Белосельцев воспринимал как опасность. В лысеющей редковолосой голове Чичагова зрели замыслы, и в этих замыслах было отведено место ему, Белосельцеву, пока неизвестно какое.
– Я вот все думаю: конечно, многих Афганистан погубил, но многих и возвысил. Пусть «афганцев» между собой перессорили, даже в девяносто третьем заставили пострелять друг друга, а все-таки существует «афганское братство». Если подопрет, можно пойти к «афганцу», сказать: «Давай, шурави, помоги!» И поможет… Я тут недавно в Думу ходил, к Ивлеву. Об одном личном деле просил. Вроде по разные стороны баррикад, я – власть, он – оппозиция, лидер протеста, а все равно помог. Помнит, как мы его полку под Кундузом коридор пробивали. Вот оно и есть «афганское братство».
Чичагов умел маскировать свои замыслы. Свою основную мысль, основное, не случайно произносимое имя он окружал множеством сорных слов и имен. Так ракета кидает на город противника смертельную боеголовку, окружая ее множеством ложных целей, помещая в мусорное облако металлической фольги и обрезков. Радары врага слепнут от множества мерцающих вспышек, и город беззащитен, на его крыши из космоса летит, окруженная мерцающей пылью, звезда Полынь.
Белосельцев не знал, случайно ли в разговоре Чичагова возникло имя генерала Ивлева, «афганца» и «чеченца», сделавшего вдруг ослепительную карьеру политика. Среди ординарных, утомивших народ оппозиционеров он, не принадлежавший движениям и партиям, любимец армии, стал главной угрозой режиму. Мог увлечь войска за собой. Не позволил бы им повторить трагедию девяносто третьего года, когда армия, без вождей, управляемая проходимцами, не веря оппозиции, стреляла из танков по горящему Дому Советов. Ивлева боялись в Кремле. Видели в нем возможного мятежника и путчиста. Белосельцев старался понять, было ли произнесенное Чичаговым имя случайным, или опорным, – летело по баллистической кривой, вписанное в траекторию удара. Вспоминал гарнизон под Кундузом, врытый в землю контейнер трейлера, в котором содержались пленные, и они втроем – Белосельцев, Чичагов и командир полка Ивлев – допрашивают чернобородого, в красной повязке афганца, шевелившего разбитыми в кровь губами, рассказывающего о расположении «безоткаток» и минных полей.
Но Чичагов больше не говорил об Ивлеве. Перескочил на другое, оживленно рассказывал:
– Все-таки иногда, дружище, мы слишком с тобой угрюмы, пессимистичны и, в сущности, старомодны. А ведь жизнь не кончается, она состоит не только из дерьма и трухи. В ней есть и сильные, положительные моменты. Иногда среди этого развала и свинства встречаешь сильных, новых людей! Не просто богачей, которые наворовали и теперь не знают, что с этим делать. А русских купцов и промышленников, в которых, сам не знаю откуда, появляются русские начала, русские заботы, русские интересы. Значит, не все захватили евреи! Есть еще у матушки России сыны!
– Кого имеешь в виду? – Белосельцев все еще не мог понять, в чем замысел Чичагова. С какой точки начинается прихотливая линия его интриги. Среди множества впустую нанесенных метин нельзя было выбрать ту, от которой повлечется извилистая кривая его интеллектуальной затеи. Поиском этой истинной точки, среди множества мнимых, был занят ум Белосельцева. Этот начавшийся поиск увлекал его помимо воли, был игрой, с помощью которой Чичагов захватывал его в свои невесомые тенета. Невидимые, они уже висели повсюду в его кабинете. Он чувствовал себя бабочкой, к которой приближается прозрачный белый сачок, наполненный душистым ветром и солнцем, с пестрыми крапинками засохшего цветочного сока и умертвленных, пойманных прежде существ. – Где ты нашел среди воров и еврейских банкиров настоящих русских купцов?
– Ну, конечно, ты не можешь поверить! Сидишь, как медведь в берлоге! А ведь за это время жизнь не осталась на месте. Разумеется, есть помойки, свалки отбросов, на которых кормятся многие наши прежние товарищи. Но есть и абсолютно новые явления, неизвестные тебе области, в которых, я бы считал, полезно тебе побывать, чтобы уж совсем не свихнуться! Например, абсолютно новый театр. Виктюк, его эротические музыкальные действа! Пусть он педераст, но очень, очень талантливый!
– Твои русские купцы – педерасты? – Белосельцев не стал заслонять рюмкой свою брезгливую улыбку. – Очень, очень талантливые русские купцы?
Чичагов добродушно рассмеялся над своей оплошностью:
– Да нет же, это молодые самарские парни, из спортсменов. В Советском Союзе – разные там рекордсмены и мастера. Потом, когда все развалилось, пошли в охранные структуры, к бизнесменам, которые воровали бесхозное добро государства. Стреляют от живота и в глаз. Я думаю, после их работы, по весне, из-под снега много кого откапывали. Потом, похоже, как показывают в голливудских фильмах, они своих охраняемых укокошили и стали хозяевами. Грабили по-черному, кровушку лили, как пиво. Остепенились, нажитое вложили не в банки, а в производство, кто в нефть, кто в торговлю, кто в шоу-бизнес. Поставили церковь, другую. Батюшка их окормляет, «разбойников благоразумных». Выучили языки. Ездят за границу не жизнь прожигать, а ума-разума набираться. Разглядели, что в России творится, как их матушки в деревнях живут, жмых жуют. Поняли в один прекрасный момент, что они русские люди, и в отличие от евреев жить будут здесь, а не на берегу Генисаретского озера. И вот мы видим новый тип. Не коммунисты, но патриоты. Капиталисты, но ненавидят Америку. От сохи, но заботятся о сохранении русского ракетно-космического комплекса. Вот такие ребята. Теперь они в Москве возглавляют крупные фирмы.
Азарт, с каким Чичагов исполнил этюд о самарских парнях, убедил Белосельцева, что истинная точка обнаружена. Быть может, он не разглядел поставленные прежде отметины, но эту он зафиксировал. От нее он может начать отсчет. Повести осторожную линию через вторую обнаруженную точку. И чем больше их будет вскрыто, тем точнее выпишет он траекторию интеллектуальной интриги, которую задумал Чичагов. Ибо в этой долгоносой голове с желтыми восковыми залысинами постоянно, как в чреве паука, вырабатывается интрига. Опутывает людей, провисает едва заметной стрункой от дома к дому, от окна к окну. И многие уже залетели в неслышную, неразличимую для глаз кисею. Теперь залетает и он, Белосельцев. Ему было неприятно. Он презирал Чичагова, неутомимого интригана, не умевшего остановиться, не способного оборвать вырабатываемую его головой паутину. Именно эта болезненная, необоримая страсть оставила его в разведке, сделала слугой режима. Но если бы этого не случилось, если бы он ушел, повторив судьбу Белосельцева, реактор, расположенный в его голове, вырабатывающий нить, продолжал бы работать. Переполнил его мозг волокнами комбинаций, и он задохнулся бы от собственной паутины.
– Так что твои патриоты-разбойники? – небрежно спросил Белосельцев, увлеченный началом контрразведывательной игры, которая тоже была патологией профессионально ориентированного ума, не умевшего по прошествии лет освободиться от вмененных ему установок.
– Ты можешь расхохотаться. Можешь погнать меня вон. Но прошу, собери в себе остатки воображения и творческого любопытства, коими ты всегда отличался в управлении, и внемли моей просьбе!
Это был упрощенный прием – прямая лесть и имитация искренней беззащитной наивности, которые должны были вовлечь Белосельцева в замысел. И этот упрощенный прием сработал. Белосельцев с удивлением почувствовал интерес – не к самарским парням, а к тому, что является замыслом. Уже несколько точек стояло на графике среди множества ложных отметок. Линия, которую он выводил, напоминала медленную экспоненту, неутомимо, как нарастание болезни, взбиравшуюся вверх.
– Эти сердобольные самаритяне, иначе не могу их назвать, – Чичагов продолжал шутить, забалтывая какое-то глубинное содержание, недоступное Белосельцеву, – в своем экономическом росте эти стервецы поднялись до того, что стали контролировать, ну не прямо, а косвенно, ряд направлений, связанных с космосом и ядерными технологиями. Что-то про центрифуги, про обогащение, про двигатели, уж не знаю, что точно… Ты слышал, в каком состоянии находится все это хозяйство. Безденежье, остановка заводов, народ разбегается, американцы скупают акции, банкротят, свертывают производство. И там, где делали боевые лазеры, стали выпускать елочные игрушки. А там, где лепили плутониевые полушария, там клеят дамские прокладки…
Белосельцев вдруг потерял к разговору интерес. Словно отвел от добычи оптический прицел, и олень, подпрыгивая, мелькая белыми ляжками, унесся и исчез в деревьях. И можно стоять, прижавшись к сырому стволу, слушать, как шелестят капли в редкой желтой листве, и чудесный холодный запах осени, и оранжевые плоды бересклета, и палая листва под ногами, и в блестящих ветках скользнула мокрая бесшумная птица. Он уедет в деревню и там, натопив жарко печь, раскроет божественные тексты и прочтет про ослятю, на которой Христос въехал в священный Град.
– Эти парни, как бы это поточнее сказать, видя, как цереушники и моссадовцы прихлопывают окончательно стратегическое производство России, решили передать часть технологий Ирану. Ну конечно, не за красивые глаза, а за деньги, и весьма немалые. Из побуждений конечно же меркантильных, но и одновременно патриотических. На полученные от иранцев деньги они поддержат производство, подкормят научные исследования, оттеснят Сороса, хотя бы на год продлят жизнь заводов и институтов. Конечно, это, если угодно, криминал. Выдача государственной тайны. Почти что измена Родине. А разве не криминал, не выдача тайны, когда цереушников допускают в секретные центры, открывают такие сейфы, куда даже мы с тобой не заглядывали. Разве это не предательство, не измена?…
Белосельцев перестал следить, выпустил из внимания график. Точки рассыпались, как семена из перезревшей цветочной головки, упали на влажную грядку, и теперь нужно терпеливо ждать осень и зиму, когда растает снег, потянутся из грядки свежие зеленые ростки, он станет их беречь, спасать от дикой травы, дожидаясь, когда вспыхнет гроздь садовых ромашек, и тогда ходить, огибая полную жестяную бочку, шлепать по мокрой дорожке, любуясь на цветы, и ночью сквозь сон думать – там на грядке ромашки, милые. Он завтра же уедет в деревню, чтобы в одиночестве, без утомительных, его не затрагивающих глупостей, понять, наконец, чем был дар, который вручил ему при рождении Творец, как он с ним обошелся, как, в каком виде вернет и положит к ногам Творца.
– Я с ними знаком, настоящие русские парни. Если угодно, наше будущее. Среди всеобщей апатии и свинстве – это сгусток энергии, воли. Русские пассионарии, если хочешь. Слушай, Виктор Андреевич, помоги им! Посмотри опытным взглядом, так ли они всем занимаются. Ну их связи с иранцами, третьи страны, посредники. Они там чуть ли ни «Хесбаллу» подключили, по Бейруту при белом свете разгуливают. Оформление документации, соблюдение формальностей, выбор контактов – все это у них в беспорядке. Нет специалиста по Востоку. Помоги добрым людям. Конечно, не безвозмездно, не за спасибо. Они наградят, заплатят, а то на нашу-то пенсию не больно икорки поешь. Я им о тебе говорил. Помоги парням чисто сработать, чтоб не наследили. Чтобы не вышел у них «русский ирангейт»!..
Это словосочетание возвратило его в реальность. Будто к нему, уходящему, протянулись две длинные руки и вернули обратно к месту, от которого он стал удаляться. «Русский ирангейт», – повторял он, закрепляя эти слова на графике, как еще одну уловленную жирную точку. Старался восстановить утерянную линию, провести ее через утраченные координаты. – «Русский ирангейт»!
– У меня есть к тебе немедленное предложение. Через час у иранцев прием. Сняли «Президент-отель», будет много всякой публики. Хорошая еда, разумеется, без алкоголя. Будут пассионарии самарские. Я обещал, что тебя привезу, познакомлю. Поедем! Я бы и сам этим всем занялся, но мне, действующему, не с руки. Давай подключайся, помоги русскому делу!..
Там, куда его звал Чичагов, была яма, накрытая легкими прутьями, присыпанная разноцветными листьями, обложенная мхами, с посаженным умелой рукой красноголовым грибом. Но под всем этим была черная глубокая яма, и со дна ее торчал белый отточенный кол. Белосельцев грудью, сердцем ощутил его острие, входящее в легкую пенистую мякоть его пронзенных розовых легких. Он должен был отказаться, отшутиться, свести разговор к пустякам. Разлить по рюмкам остатки вина и, лениво потягивая бордо сквозь почерневшие от винограда зубы, дать понять Чичагову, чтобы тот поскорее ушел. Здесь ему нечего делать. Здесь, в этом маленьком кабинете, увешанном бабочками, заставленном старыми книгами, живет не разведчик, а одинокий мыслитель, чьи последние силы направлены на постижение священных текстов, на постижение звезд, снегопадов, первых цветов, всего, к чему десятилетиями стремилась душа.
Черные точки графика были как малые икринки, отложенные невидимой проскользнувшей рыбиной. В каждой таился малек, таилась возможность будущего. Из каждой точки, как из зародыша мироздания, вырывались бесчисленные возможности будущего, включающие в себя конец света. В его власти было выбрать одну из них. Или передавить их все. Умертвить все линии жизни, кроме той, по которой он уже совершает движение. И понимая все это, поражаясь своей слабости, неспособности одолеть искушение, невозможности избегнуть погибели, он согласил.
– Едем, – сказал Белосельцев. – Посмотрим твоих ребят.
У подъезда ждала машина Чичагова, черная, похожая на дельфина, с фиолетовой сигнальной колбой, с крепким, затянутым в кожу шофером.
– В «Президент-отель»! – скомандовал Чичагов, и машина скользнула в поток, разбрасывая вокруг гневные вспышки, заметалась среди глазированных мельканий. Белосельцев испытывал чувство, будто его извлекли из одной, облюбованной, обжитой ячейки, где он уютно и дремотно существовал долгие годы. Поместили в другую – в бархатный мягкий салон машины с запахами лаков, одеколона и табака, разноцветных, красиво разбросанных циферблатов. Мчат в загадочном направлении по вечерней, едва узнаваемой Москве, среди нарядных фасадов, серебристых снегов, начинавших светиться реклам, чтобы заключить в новую, уготованную ему Чичаговым ячейку. Словно он был чьей-то собственностью, муравьиной или пчелиной личинкой, взращивался кем-то для неясной задачи.
Тверской бульвар был в розовых деревьях, льдистых снегах и черных чугунных решетках, скользнул за окном длинно и трогательно своей красотой. Арбатская площадь напоминала белый мраморный зал, великолепный, с хрустальными люстрами, черным взиравшим Гоголем, у которого на голове был берет из снега. Кремль с розовой башней и нежной заиндевелой стеной вызвал в сердце привычное с детства тепло, словно кто-то невидимый прижался к груди губами и медленно, мягко выдохнул. Полет по мосту вдоль «Ударника», по отлогой дуге, был связан с потерей веса, и это было похоже на секундное счастье, когда главы соборов, как золотые острые почки, готовы были раскрыть в морозном небе золотую листву. Якиманка, вся в торопливых огнях, с далекой, еще невидимой церковью Иоанна Воина, породила забытое веселье, не связанное с обликом города, а с Кустодиевым, с румяными небесами, медными самоварами, дородными пышными купчихами, в испарине после калачей и обильных чаепитий. И все это кончилось, когда машина встала перед огромным отелем, неуютным, похожим на слоистую гору, вернувшим Белосельцеву настороженное ожидание.
У входа толпились автомобили с тяжелыми сытыми задами, зеркальными затемненными стеклами, из которых поднимались надменные, с властными лицами дипломаты, нарядные, в галунах и эполетах военные, великолепные, в мехах и вечерних платьях дамы, оказавшиеся вдруг на морозе, – длинная голая шея, лак прически, крохотный, в мочке уха, бриллиант.
– Возьми вот пригласительный, – Чичагов протянул ему зеленую, мусульманского цвета карту. Они предъявили ее, оказались в просторном холле.
Едва ступив на широкую мраморную лестницу, окруженный вышагивающими, исполненными достоинства людьми, ароматами духов, дорогих Табаков, рокотом сдержанных голосов, приглушенным смехом, ловя на себе молниеносные пытливые взгляды именитых гостей, Белосельцев оказался в знакомой атмосфере дипломатических раутов, где каждый наблюдает за каждым, каждый дружелюбен к другому, у каждого для другого заготовлено словцо или шутка, за которыми прячется деликатное дело, глубинный интерес, хорошо укрытая корысть.
У входа в банкетный зал стоял посол, сутулый, тучный перс с длинными влажными глазами, горбатым носом и мягкой улыбкой. Принимал поздравления, отпускал гостя к стоящему рядом военному атташе в орденах, позументах, любезно, в улыбке, показывающему из-под усов белоснежные зубы.
– Поздравляю вас, господин посол, с Днем национального праздника. Желаю великому иранскому народу благоденствия и мира, – эти слова Белосельцев произнес на фарси. Почувствовал, как крепче сжалась теплая бархатная рука посла и в миндалевидных глазах возник мгновенный живой интерес к незнакомцу, владеющему персидским языком.
Чичагов влился в зал, мгновенно растворился среди пиджаков и мундиров, мужских усов и женских причесок, и его длинноносая лысеющая голова временами появлялась у длинных столов с закусками, у мангалов, где дымилось на спиртовках смуглое мясо, среди высоких кувшинов, в которых были налиты алые и золотистые напитки. Белосельцев, держа в руках фужер с гранатовым соком, отпивал маленькие горько-сладкие глотки. Рассматривал мерное движение лиц, жующих ртов, дамских драгоценностей и офицерских наград, растекавшихся в медлительных течениях, в которых перемещались не просто люди, а двигались и сталкивались интересы, информационные потоки, заговоры и интриги. Складывались особые, на несколько часов отношения, сплетавшиеся в сложный клубок симпатий, вражды, подозрительности и обмана, среди которых достигалось множество невидимых целей.
Невидимые, неузнаваемые, закамуфлированные улыбками, услужливыми жестами, безукоризненными костюмами и модными галстуками, сновали разведчики. Угадывали друг друга по неуловимым признакам, манере держаться, повязывать галстук, слушать собеседника, мгновенно, боковым зрением оглядывать зал. Их сообщество состояло из иранцев, русских, арабов, европейцев, с вкраплениями ЦРУ и МОССАДа, которые скрывались под личиной бизнесменов, художников и священников. Все они вкрадчиво выведывали, выспрашивали, незримо вербовали, неслышно сдавали, склевывали крошки информации, невзначай роняли крупицы дезинформации. Касались друг друга локтями, незаметно помечали, оставляя на пиджаках едва различимые метины, по которым их можно было опознать. Особым детектором, чувствительным к этим метам, обнаруживал их Белосельцев. Чувствовал, что и его, выпавшего несколько лет назад из сообщества, узнают. Осматривают молниеносно, словно снимают мерку для костюма или для гроба. Передают весть о его присутствии.
– Виктор Андреевич, сколько лет, сколько зим! А кто-то говорил, что болеете! – К нему подошел верткий, бритый наголо, бородавчатый человек, в котором Белосельцев признал эксперта по вопросам Афганистана, ученого одного из академических институтов. В свое время он участвовал в разработке ситуационных анализов на последних отрезках афганской войны, встречался с Белосельцевым в Кабуле и в Женеве. Потом он изменил свою точку зрения. Его статьи, трактовавшие афганскую войну как ошибку и преступление, попадались в прессе. – Я всегда говорил, что мы действовали в Афганистане исходя из фактора Иранской революции. Мы не должны были допустить нечто подобное в Афганистане. Помните, в Кабуле, во время путча, нам показывали листовку: «Начинаем исламскую революцию Афганистана». Разве мы не должны были реагировать?
Это был хитрый ученый червь, проникавший во все круги, проползавший сквозь все политические периоды, протачивающий в них дыры, оставляя после себя кучки ржавых испражнений. Белосельцев вежливо отвечал, ненавязчиво отделывался, наблюдая, как его лысый череп мелькает рядом с эполетами кувейтского военного атташе.
– Виктор Андреевич, вы меня узнаете? – Перед ним стоял высокий, с пепельными волосами и усталым морщинистым лицом мужчина. Щурился, сжимал складки лба, словно старался выдавить из состарившегося до неузнаваемости лица свое прежнее молодое выражение. – Бейрут… Мы привозили морем оружие…
Белосельцев узнал его. Встречались в торговом представительстве, куда приехал в тот день Арафат. Бейрут был наполнен палестинскими боевыми отрядами, на окраинах возводились рубежи обороны, последние советские транспорты прорвались сквозь эскорты американских эсминцев, израильские танки двигались с юга, и все уже чувствовали, что солнечный, прекрасный город, омываемый лазурным морем, скоро превратится в черные дымные огрызки, над которыми, пикируя, станут пролетать «миражи».
– Где вы сейчас? – спросил Белосельцев, пожимая руку старому знакомцу, чье имя так и не вспомнил.
– Так, с одной фирмой кручусь. Ни шатко, ни валко. Не то что в прежнее время, – они расстались, не желая ворошить это прошлое, невозвратное время, испытывая друг к другу симпатию, необъяснимую друг перед другом вину.
Особую популяцию составляли бизнесмены, как правило, молодые, крепкие, с уверенными жестами преуспевающих, свободных людей. Говорили по-английски, иранцы и русские, иногда слишком громко, демонстрируя свою независимость и преуспевание. Иран, закутав женщин в чадру, отдав управление в руки имамов, вымаливая каждый день у Аллаха благоденствия, жадно усваивал современные технологии, строил заводы и атомные станции, запускал ракеты и новые самолеты, рвался в цивилизацию, прокладывая в нее свой исламский путь, без наркотиков и проституток, с четками и сурами Корана. Среди этих подвижных, с дорогими часами и шелковыми галстуками людей Белосельцев высматривал того, самарского, с кем ему предстояло познакомиться.
Тут же, как и на всяких приемах, толклись случайные люди, «друзья страны», всякого рода литераторы, преподаватели, журналисты, отставники и просто те, кто пришел полакомиться вкусной восточной едой, запить ее сладкими соками, сожалея, что исламский прием исключает алкоголь.
– Виктор Андреевич, хочу вам представить! – появился Чичагов, возбужденный, довольный, совершивший сложные траектории среди тесной толпы, наговорившись, назнакомившись всласть. Рядом с ним стоял стройный худощавый молодой человек с правильным, красивым лицом. Его пушистые светлые брови, тонкая переносица, серые внимательные глаза, чуть улыбающиеся мягкие губы напоминали портреты молодых дворян, бунинских героев, чеховских офицеров, своей рафинированной утонченностью возвещавшие о близком конце сословия. Однако аристократизм молодого человека источал не закат и упадок, а скрытую нервную силу, сдерживаемую подвижность и умело остановленную, непроявляемую понапрасно энергию, готовую обнаружиться в момент предельного риска. За его спиной возвышался громила, которому было тесно в пиджаке, откуда вываливались распухшие, раскормленные мускулы.
– Имбирцев Федор Иванович, – сказал молодой человек, крепко, властно и доброжелательно пожимая Белосельцеву руку, глядя ему прямо в зрачки, – Сергей Степанович обещал меня с вами познакомить.
– Мне кажется, вы понравитесь друг другу, – радовался Чичагов, и в его торжествующем лице, весело потираемых ладонях, расширенных от возбуждения глазах было нечто от фокусника, сдернувшего таинственный покров с ящика, в котором вдруг оказались эти два человека, плод его искусства и колдовства.
– Я хотел вам предложить одно дело, – сказал Имбирцев. – Должно быть, генерал Чичагов уже вскользь успел рассказать. Мне нужен опытный консультант по Ирану, способный оценить степень риска, который меня подстерегает. Сергей Степанович считает, что вы – самый подходящий для этого человек.
Мимо них шнырнул приземистый юркий персонаж с белесыми усиками и чуткими ушами, которые он попеременно наставлял в разные стороны. Скрылся в толпе и вновь вынырнул, встал поодаль, схватывая губами кусочки мяса, нанизанные на остренькое копьецо.
– Мне кажется, вам не следует здесь говорить о делах, – сказал Чичагов, кивая на вкушавшего человечка. – Вас могут услышать, а могут попросту записать направленным микрофоном… Я с вами прощаюсь, – произнес он, пожимая Белосельцеву не ладонь, а локоть, на правах старого товарища, кивая доверительно Имбирцеву. – Если какие-то затруднения, обращайтесь! – и ушел, пробираясь сквозь толпу, то и дело поворачиваясь в разные стороны, раздавая рукопожатия. А Белосельцев и Имбирцев остались среди невидимой, сооруженной Чичаговым конструкции, в которую были вписаны ненавязчивыми, необременительными усилиями.
– Я благодарен за то, что вы согласились прийти, – сказал Имбирцев. – Генерал Чичагов прав, здесь не место обсуждать деликатные проблемы. Если вы примите мое приглашение, мы можем сейчас же отсюда уйти в более подходящее место и там поговорить без помех.
– Согласен, – сказал Белосельцев, отдавая себя во власть незримого течения, стараясь не шевелиться в потоке, чтобы лучше выявить его направление и скорость. Оставаясь неподвижным, почувствовать русло, в котором он совершает скольжение.
Они пробрались сквозь курлыкающую, вкушающую, добродушно-веселую, чутко-настороженную толпу. Оделись, и сияющая, как серебряный слиток, машина в сопровождении джипа с охраной помчала их по вечерней Москве. Расцвеченные фасады напоминали огромные прозрачные льдины, и они ныряли, неслись среди фантастической, выпиленной изо льда Москвы, которая при первом тепле должна была растаять, превратиться в потоки цветной воды. Так слезы смывают белила, румяна, цветную тушь, и под слоем эстрадного грима открывается усталое родное лицо с любимыми материнскими морщинами.
– Мы поедем в казино, – сказал Имбирцев. – Это часть моего бизнеса. Рестораны, кинотеатры, выставочные залы. Но главные деньги – нефть, строительство, инвестиции в военное производство.
Белосельцеву был остро интересен этот белокурый утонченный молодой человек, появление которого еще десять лет назад было невозможно. То исчезнувшее время, к которому принадлежал Белосельцев, оставляло Имбирцеву небогатую возможность стать губернским чемпионом по легкой атлетике, а потом, по прошествии лет, прозябать неизвестным тренером в детской спортивной школе, гоняя юнцов по разбитым, черным от шлака дорожкам. Теперь же, когда рухнула страна, когда, казалось, невозвратно погибло все, что было Белосельцеву свято, когда кругом, среди всеобщей мерзости, копошились прожорливые неопрятные упыри, чьи скользкие плотоядные лица напоминали кишечники, чей вид вызывал страдание и рвоту, появление Имбирцева, его красивое спокойное лицо, аккуратное взвешенное поведение, масштаб его дел внушали Белосельцеву интерес и симпатию. Он почти забыл об интриге, в которую его помещал Чичагов. Увлекся не интригой, а незнакомым, внушавшим симпатию человеком.
Казино, к которому они подкатывали по сумрачной улице, светилось издалека, словно огромное павлинье перо. Разноцветный туман растекался от пульсирующей рекламы ввысь, в стороны, пропитывал сугробы и стены. Отражался в сосульках, в окнах домов, в высоких наледях крыш, в столпившихся перед входом лимузинах. Казалось, прохожие, пассажиры машин, окрестные жители дышат этим многоцветным росистым воздухом, пьянеют, живут с блаженными счастливыми глазами.
Охрана расторопно раскрыла дверцы автомобиля. От подъезда кинулся встречать наряженный под гусара портье. В гардеробе радушные служители принимали пальто и шапки. Отдавая верхнюю одежду, Белосельцев с удивлением заметил, что вешалки были полны великолепных шуб, норковых и куньих мехов, песцовых и горностаевых воротников, словно здесь разделся дорогой кордебалет, и он сейчас увидит множество красивых женских лиц, обнаженных плеч, длинных танцующих ног.
– Прошу вас, – пригласил Имбирцев, пропуская гостя вперед. Белосельцев шагнул, проходя сквозь прозрачную мембрану теплого воздуха, и множество ярких отражений и вспышек, сочных и яростных звуков, разгоряченных и яростных лиц обступило его, словно он оказался на палубе плывущего корабля, далеко от ночного морозного города, в теплых морях, на золотом, уходящем в глубину столбе света. – Мы сядем в сторонке и побеседуем, и никто не посмеет нам помешать.
Имбирцев повел едва заметным повелевающим жестом, и на этот жест из разных концов сияющего пространства появилось одновременно несколько людей. Каждый совершал свое привычное, вмененное ему дело, в результате чего как бы сам собой расчистился ход к нарядному бару. Освободился из множества столиков самый удобный. Образовалось вокруг него ненавязчивое кольцо охраны, состоящей из крепких молодцов в черном, подносивших к губам переговорные устройства с антеннами. Появилась прелестная белозубая девушка, расставила на столике серебряное блюдо с моллюсками, широкогорлую бутыль с красным итальянским вином.
– Начнем с этой легкой необременительной закуски, которая вчера еще плавала в водах вблизи Палермо. – Имбирцев улыбался, лил в бокалы широкую струю вина, ловко цеплял серебряными щипцами розовые ракушки, похожие на те, из которых в пене рождалась Афродита. – За наше знакомство.
Из-за столика, как с верхней палубы, были видны многочисленные игральные столы, покрытые геометрическими фигурами, линиями, цифрами. В них были врезаны медные сияющие рулетки. Метались зайчики света, крутились и цокали шарики. Крупье в цветных жилетках длинными лопаточками двигали горки фишек. Игроки окружали столы, нервные, нетерпеливые, то огорченные, то восхищенные, захваченные каббалистическим мельканием цифр, магическим зайчиком света. Умоляюще взирали на скачущий красный шарик, который, как маленький божок, перелетал из одного золотого сегмента в другой. Увлекал игроков в бесконечную сужающуюся бездну, наполненную красным дымом едкой необоримой страсти, которая вовлекала душу в погоню за недостижимым, неутолимым счастьем, в сравнении с которым любовь или подвиг или благодатная молитва были слабым намеком на счастье. Какой-то кавказец с кривым, как кинжал, носом взмахивал руками, хватал себя за длинные волосы, и его соперник, синеглазый юнец, хохотал, поднимая вверх сжатый кулак как победивший боксер.
– Я собираюсь передать иранцам элементы ядерных технологий. Часть из них я уже передал. Я налаживаю поставку в Иран документации некоторых узлов и изделий, переброску специалистов. Как обычных технологов, так и высококвалифицированных инженеров. Предполагается через третьи страны переправить в Иран способных русских физиков, математиков, металлургов. Разместить в наших элитных институтах иранских аспирантов, чтобы те могли овладеть недостающими знаниями по ядерной энергетике, включая военные аспекты. Чертежи и детали передаются через сложные связи, третьи страны, фирмы-посредники. Я привлекаю организации, ряд которых имеет сомнительную репутацию, например, «Хесбалла». Все это носит весьма хаотический характер и нуждается в контроле. Вы тот человек, чье знание Востока, оперативное мышление и долгие годы работы в разведке, который мог бы вести у меня это направление. Разумеется, небезвозмездно… – Имбирцев оглянулся и, казалось, взглядом исторг из-под земли могучего верзилу, сопровождавшего их в автомобиле. – Покажи изделие!
Тот погрузил кулачище в бездонный карман пиджака, извлек и поставил на стол среди тарелок с моллюсками точеный драгоценный цилиндр с золотыми клеммами, заводской маркировкой, легированными трубками. Цилиндр своими формами, золотыми сплавами напоминал изделие ювелира. Скульптуру абстрактного художника, заключившего в поверхности, овалы, в тончайшие надрезы и выточки сверхсложную суть.
– Центрифуга для обогащения урана. Нет равных в мире. – Имбирцев касался цилиндра своими длинными крепкими пальцами, и они отражались в зеркальной прецизионной поверхности. Белосельцев помнил свое посещение ядерного центра в Сибири. Высокий, стерильно чистый зал, в котором от потолка и до пола, как тысячи жужжащих веретен, работали центрифуги. Пропускали сквозь себя раскаленный урановый газ, расщепляя его на отдельные фракции, выделяя боевую компоненту. Огромный, в тайге, завод, где сложными превращениями, без человеческих рук, возникало оружие. Он видел сквозь прозрачную толщу, как манипуляторы, похожие на клешни, вытряхивали из формы серебристую полусферу. Часть боеголовки, что в сочетании с другой, подобной, сдвинутая мощным усилием, превращалась в ослепительный взрыв над Нью-Йорком, оплавляя восковые небоскребы. Теперь центрифуга стояла среди ребристых ракушек, как маленькая статуя Афродиты. – Я должен буду передать ее в Тегеран.
Белосельцев не торопился отвечать. Смотрел, как под пластинчатым золотым потолком, уносившим ввысь размытое отражение зала, под гирляндами огней, напоминавшими виноградные лозы, зеленеют столы, по которым ловкие руки рассыпают атласные карты. Несколько японцев играли, мерцали очками, указывали пальцами на валетов и дам, бесстрастно расплачивались. Кончили игру, разом встали. Двинулись через зал, туда, где на диванах сидели молодые женщины. Несколько длинноногих красавиц поднялось им навстречу. Японцы взяли их под руки, маленькие, по плечо своим спутницам, покидали зал. Те набрасывали на плечи пышные шубы, выходили в легкую пургу, где их подхватывали просторные лимузины, мчали среди разноцветных сугробов.
– Вы можете назвать мою деятельность шпионажем в пользу другой страны. Разглашением государственной тайны в целях обогащения. Но, поверьте, мною движет не корысть. Иранские деньги для меня – не главное. – Имбирцев тонким ножичком растворял черно-перламутровые раковины мидий, выскребая липкий язычок моллюска. – Эти великолепные заводы, построенные в СССР, сегодня останавливаются в интересах Америки. По ядерным центрам рыскают ЦРУ и МОССАД. Их агенты в Кремле закрывают производство, разгоняют коллективы ученых. Одних скупают, как скот, Америка и Израиль, другие идут на толкучки торговать колготками. На вырученные деньги я продлю работу заводов, загружу лаборатории и исследовательские институты. Спасу остатки ядерной мощи страны. Россия перестала быть препятствием Америке для установления мирового господства. Президент управляется евреями, он фишка в руках Пентагона. Только исламский мир, только великий и могучий Иран остановят жидов и Америку. Я хочу, чтобы у Тегерана был ядерный меч, чтобы исламские баллистические ракеты могли долететь до Нью-Йорка. И я сделаю все, чтобы русско-иранский союз состоялся. Не сейчас, а после того, как мы отделаемся от этой Язвы желудка, от этого Цирроза печени, этого Шунтированного сердца.
Белосельцев заметил, как неподдельно побледнело от ненависти лицо Имбирцева, словно тонкая переносица и узкие скулы проморозились, как у лыжника, бегущего в ледяном ветре. Эта ненависть была искренней, обращалась на тех же, кого бессильно ненавидел Белосельцев. Но Имбирцев был силен, дерзок, в нем чувствовалась неистребленная сила и страсть, и это восхитило Белосельцева. Они, старики, оказались разгромлены, но на смену им, посреди распада и немощи, таинственно проявились русские нерастраченные энергии, о которых в Писании говорится: «Дух дышит, где хощет».
Посреди зала, на возвышении, был помещен сиреневый «форд», натертый до блеска, предназначенный для лотереи. Помимо карточных столов и рулеток вдоль стен стояли игральные автоматы. В их электронных головах взрывались пучки лучей, гасли и зажигались светила, падали сбитые самолеты. Игроки в наушниках с отрешенными лицами смотрели на экраны невидящими глазами, которые, казалось, были залеплены цветными ядовитыми бельмами. В этот зал собирались люди, чтобы утолить загадочную, не имеющую объяснения страсть. Инстинкт игры, который присутствовал в человеке наравне с инстинктом продолжения рода, инстинктом смерти, инстинктом разгоряченного страстью самца. Расставленные вдоль стен хромированные и застекленные приборы, установленные, накрытые сукном столы, крутящиеся золоченые рулетки и атласные карты были ловушками, где улавливались взрывы игровой похоти. За этими столами, у вращающихся ослепительных тарелок и чаш люди утоляли голод своих игровых вожделений. Казино было огромной столовой, где оголодавших игроков окормляли, вливали в них терпкое пойло редких выигрышей и частых разорительных проигрышей.
– Я дозрел до этих мыслей не сразу. Сначала делал бабки, как все, любой ценой, с любыми партнерами. Потом увидел, как живет наш русский народ. В такой богатой стране, с такой добротой и талантом живет как раб под пятой у жидов. Мне говорили попы: «Помоги народу, отмоли неправедные деньги, построй церковь». Я две церкви построил, два священника у меня на содержании. Но нам нужны не просто попы деревенские, а те, кто освящает спускаемые на воду авианосцы, кто служит молебен на запуск новой ракеты, кто ставит свою часовню в атомном городе или на базе подводных лодок. Нам нужны талантливые русские политики, генералы, разведчики. Вы, люди старшего поколения, не сумели спасти страну. Она погибла не без вашего участия. Теперь мы, молодые, начинаем ее восстанавливать, и нам нужна ваша помощь.
Это были веские слова красивого уравновешенного человека, в котором лишь однажды проступили белые пятна ненависти и тут же вновь затянулись розовым нежным цветом. Чтобы проверить глубину и истинность слов, Белосельцеву нужно было проникнуть не просто в организацию сидящего перед ним человека, но и в его душу и разум. А это требовало огромных усилий, кропотливой многодневной работы, предполагало глубинные побуждения. Страны, обучившей его профессии разведчика, больше не было. Служение, являвшееся главным его побуждением, было прервано. Едва ли он станет тратить остатки сил на неверное, рискованное и, скорее всего, обреченное дело. Но сидящий перед ним человек внушал симпатию. Порождал надежду на то, что сопротивление народа не сломлено, что сохранились силы для отпора, и эти силы нуждались в разумном сбережении, опытном управлении.
На отдаленной эстраде над головами игроков музицировал оркестр. Музыканты качали хромированными саксофонами, похожими на изогнутых морских коньков, шевелили перламутровыми гитарами, напоминавшими раковины. И можно подозвать очаровательную официантку и заказать к красному итальянскому вину извивающийся кусочек саксофона или перламутровую, под острым соусом, гитару. У столов бушевали разгоряченные неистовые люди. Крупье в одинаковых пестрых жилетках напоминали бесстрастных дрессировщиков, которые дразнили животных, заставляли их кидаться в сияющие кольца рулеток. Повсюду стояла охрана в черном, зорко наблюдала за цирковым представлением, готовая в любой момент вмешаться, если взлетит чей-нибудь разгневанный кулак или, не дай Бог, мелькнет вороненая сталь пистолета.
– Все свое состояние, все свои связи я посвящу русскому делу. Я создаю организацию, если угодно, «партию нового типа». Она законспирирована, имеет несколько этажей конспирации. Ее ядро связано священной клятвой. Нам нужны специалисты, способные заниматься разведкой и контрразведкой, способные нейтрализовать тех продажных разведчиков, которые за деньги служат жидам-банкирам. Один из моих друзей, которому я верил, как брату, продался жиду Кугелю, агенту МОССАДа. Он раскрыл одну из моих операций. Я вынужден был его устранить. Его машину взорвали. Он взорвал, – Имбирцев кивнул на верзилу, стоявшего поодаль, положившего огромные ладони на пах. – Я делаю вам предложение возглавить «иранский проект». Мне нужна защита и консультация. Чтобы не случился «русский ирангейт», как говорит генерал Чичагов. Вот моя визитная карточка. Я дам вам мобильный телефон. – Имбирцев извлек маленькую золотую ручку и писал на визитке номер телефона. На карточке радужно мерцала голографическая эмблема, словно крохотное перо павлина. И пока он писал, Белосельцев запомнил и несколько раз повторил: «Кугель, агент МОССАДа». – Я был рад познакомиться. Не требую сиюминутного ответа. Вы знаете, как меня отыскать, – он передал Белосельцеву карточку, давая понять, что их встреча закончена. Верзила проводил его к выходу, посадил в просторный, как шкаф, «мерседес», и молчаливый шофер помчал его среди многоцветных сугробов, сквозь радужную росу, опадавшую с огромного павлиньего пера.
Он вернулся домой, в кабинет с развешанной коллекцией бабочек. Стоял утомленно, разглядывая мертвенные нарядные батальоны, вооруженные синей сталью иголок. Время, в котором он пребывал, расщепилось, и одна его часть отслоилась тончайшими перепонками бабочек с орнаментом военных дорог, речных переправ, рубежей обороны, увлекала его вспять. Другая часть стремилась вперед за метельные окна, обрекая его на неясное и тревожное будущее. Он отыскал под стеклом данаиду, пойманную в джелалабадском саду, и она, как авиаматка, подхватила его и понесла в исчезнувшее драгоценное время.