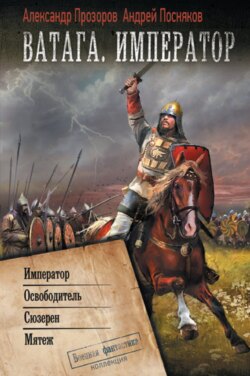Читать книгу Ватага. Император: Император. Освободитель. Сюзерен. Мятеж - Александр Прозоров - Страница 12
Император
Глава 11
Табориты
Оглавление– Рыцари!!!
Едущий впереди обоза молодой парень – Янек – обернулся и, взяв на дыбы коня, поскакал назад, крича и размахивая руками:
– Рыцари! Там, за рощей – я видел их стяги!
– Их тут не должно было быть, – сурово сдвинул брови воевода – знаменитый Ян Жижка.
Вечно насупленный, одноглазый, с темным жестоким лицом и скверным нравом, он вызывал мало симпатий у Вожникова, как и у кого бы то ни было еще, однако полководцем – тут уж никуда не денешься – был знатным: талантливым и умным, строгим и справедливым, когда надо – осторожным, а ежели того требовала ситуация – храбрым до безрассудности. До тщательно рассчитанной и выверенной безрассудности… впрочем, сейчас, похоже, дела складывались по-другому.
Нахлобучив на голову поданный верным оруженосцем шлем, Жижка искоса посмотрел на князя – навязанного ему, кстати, Гусом – и развернул коня, обращаясь к своим воинам, к их женам и детям. Все они как раз возвращались от Кутной Горы, где наголову разбили посланное императором Сигизмундом крестоносное воинство, в небольшой городок Фавор (чехи произносили – Табор), расположенный на одноименной горе, и ставший родным домом для большинства наиболее радикальных последователей профессора, коих Егор про себя именовал «пламенными революционерами», все же остальные – по названию горы и городка – табориты.
Умеренное крыло движения прозвали «чашниками», ибо частью их программы было уравнение мирян в правах со священниками, принятие ими таинства причащения – евхаристии не только хлебом, но и вином, из чаши – как до того полагалось только служителям церкви. Сие требование как раз и составляло ту основу выступлений Гуса против католической церкви, в которой мятежный магистр уже достиг ошеломляющих успехов, напугавших Сигизмунда и папу Иоанна настолько, что те призвали рыцарство всей Европы в крестовый поход против богемских и моравских еретиков.
На сей призыв с охотой откликнулись рыцари Южной Германии, кроме полагающегося отпущения грехов еще и надеявшиеся поправить свое материальное положение тривиальным грабежом богатых чешских земель. Были и бургундские рыцари, и французы, и англичане – этих, впрочем, мало: военные действия между Францией и Англией, прозванные в девятнадцатом веке «столетней войной», снова возобновились, и многочисленным феодальным шайкам было чем заняться и у себя дома. Хотя некоторые все же встали под знамена императора – Чехия все же казалась им более богатой добычей, чем разграбленные области Франции.
Посланное Сигизмундом воинство попыталось пробиться к Кутной Горе, где укрывались сторонники императора и католической церкви, но было разгромлено объединенными отрядами гуситов под предводительством все того же славного Яна Жижки, ныне возвращавшегося на гору Табор во главе большого и богатого обоза – явившиеся пограбить рыцари сами оказались в незавидной роли ограбленных, всякого добра гуситам досталось немало, особенно – чашникам, в отличие от таборитов не брезговавших брать знатных воинов в плен, а потом отпускать за солидный выкуп.
– Может быть – в лес? – подскочил к Жижке его заместитель – длинный и нескладный пан из мелочи, по имени Прокоп Большой.
– Да-да, в лес! – тряхнув волосами, похожими на львиную гриву, поддержал его пан Владислав из Пржемберка, славный богемский рыцарь, настоящий герой, доказавший свою смелость под Кутной Горою.
Сплоченные общей опасностью, табориты и чашники еще не стали собачиться меж собою, еще не пахло гражданской войной, и авторитет профессора Гуса был высок, как никогда!
– Телеги – в лес, – повторил пан Владислав, – а сами останемся здесь и сразимся! Встретим врагов лицом к лицу.
– Да, здесь, в чистом поле, от рыцарей не спастись, – Прокоп Большой передернул худыми плечами. – Против копейной атаки никакой строй не удержим.
Тут он был прав, и князь Егор мысленно согласился с соратником Жижки: кругом поля, равнина – место для атаки тяжелой конницы очень удобное. Таранный удар закованных в латы рыцарей будет сокрушителен и страшен! Большинство таборитов все-таки пехотинцы, бедняки, крестьяне и городской плебс, коим не по карману добрый боевой конь. У пехоты против рыцарской конницы просто нет шансов! Так что правы и пан Владислав, и Прокоп…
– Нет! – отрывисто бросил воевода. – Если разделимся – смерть. Никакой лес не спасет – достанут. Живо распрягайте лошадей! Ставьте повозки в круг, заряжайте пушки. Пан Жегор, – Жижка неожиданно повернулся к Вожникову. – Вот и посмотрим, пригодятся ли ваши пасхальные ленты.
Князь усмехнулся: «пасхальные ленты» – так гуситы прозвали его изобретение, точнее – подсмотренную в каком-то криминальном сериале вещицу – утыканные гвоздями холщовые полосы, типа применяемых для остановки автомобилей «ежей». По мысли Егора – и против конницы это должно было сработать. Вот и проверим!
Повинуясь приказу своего командира, воины и обозные живо принялись за дело: составили в круг возы, сцепили их меж собою цепями, зарядили пушки, копья вперед выставили, приготовили стрелы для арбалетов и луков. Получилась этакая полевая крепость, вагенбург, как ее называли немцы – изобретение на данный момент вовсе не новое, применяли подобное и раньше, только вот наиболее успешно, насколько помнил Вожников из курса истории, с этим справлялись гуситы.
Запряженные четверкой выносливых лошадей, коих вполне можно было использовать в качестве верховых, повозки гуситов отличались завидной прочностью, при составлении «вагенбурга» проходы под ними закрывали толстые дубовые доски, подвешенные на цепях. Попробуй, возьми – танки! Экипаж каждого обычно составлял около дюжины человек – ездовой, сцепщики, копейщики и стрелки.
Рыцари появились внезапно, хоть их и ждали, готовились. Вот только что не было никого, и вдруг, перед рощицей – как-то моментально, сразу, словно бы из-под земли – возникли всадники в сверкающих латах и шлемах, украшенных разноцветными перьями и крестами. До полного латного доспеха осталось еще лет пятьдесят, однако основные шаги в этом направлении уже были успешно проделаны – поверх кольчуги надевались кирасы, поручи, поножи, набедренники, особо тщательно защищались места сочленений – колени, локти, плечи.
Шлемы у крестоносного воинства имелись разные – в большинстве своем «собачьи головы» – бацинеты, но встречались и салады – открытые и с полузабралом, а также – и простые, круглые, с полями, каски.
– Ой, сколько их много-то! – половчей перехватив цеп (обычный молотильный цеп, только вместо палок привешены увесистые, утыканные стальными шипами шары), покачал головой один из простых воинов, Вожников даже знал, как его зовут – Ярослав. Ярослав Гржимек – забавный, вечно улыбающийся и неунывающий мужичок лет тридцати, бывший торговец навозом, кажется.
– Не хватайся за цеп, Ярослав, – глядя, как рыцари деловито выстраиваются кабаньей головою, улыбнулся князь. – Сперва поговорят пушки!
– Ох, вы и скажете, пан Жегор! – рассмеялся Гржимек. – Пушки! Да никто никогда и знать не знает, куда попадет это чертово ядро!
– Ничего! Рыцарей много – наши ядрышки уж точно мимо не пролетят.
– И все же цеп надежнее.
– Пан Жегор! – прозвучал за спиной властный голос.
Егор обернулся, увидев перед собой Яна Жижку, как всегда перед боем – собранного и немного задумчивого.
– Командуйте пушкарями, пан Жегор, – воевода махнул закованной в латную рукавицу рукой. – У вас это неплохо получается. Запомните сигнал – три рога, и ваш вымпел – синий. С зеленым – арбалетчиков – не перепутайте.
– Да что я, дальтоник, что ли? – обиженно протянул князь и, вскочив на ноги, оглядел пушкарей.
Артиллерия тогда была та еще – пушки большей частью не отливали, а сковывали из железных пластин – разрывались они довольно часто. Впрочем, здесь, в вагенбурге, имелись лишь небольшие кулеврины, ручницы и гаковницы.
Пушкари уже зарядили орудия и искоса поглядывали на сигнальщиков. Ждали трехкратного сигнала рогов и синего вымпела.
– Приготовились!
Вожников кивнул и оглянулся – в середине, в окруженном повозками круге, оставались лишь женщины и дети, впрочем, вовсе не выглядевшие безучастными: кто кипятил на уже разожженных кострах воду, кто-то рвал сукно на бинты, готовясь принимать раненых, к тому же нужно было еще подносить ядра и стрелы – ратной работы хватало всем. И все – даже малые дети – были настроены весьма решительно: биться до последнего, победить или – уж по крайней мере – подороже продать свои жизни, не посрамив славного воеводу!
Надвинув на голову шлем – обычную каску с бармицей, Вожников покусал губу, услыхав донесшиеся из рыцарского стана звуки. Утробно затрубили трубы… Легли на упору копья, и тотчас же задрожала земля: тяжелая конница, ускоряясь, понеслась на телеги неудержимой лавою, которую, казалось, ничто не могло остановить!
Кто-то из таборитов молился, кто-то ругался про себя, скрипя зубами… большинство же молча ждали, сжимая в руках фитили, арбалеты, луки.
Князь присмотрелся, прищурив от солнца глаза: та-ак, еще метров двадцать… десять… пять…
Кивок сигнальщику. Взвился вверх синий вымпел. Три раза протрубил рог.
– Огонь! – яростно воскликнул Вожников.
Разом рявкнули пушки… тотчас же, сея смерть, запели в воздухе стрелы… А первые крестоносные всадники уже падали – их лошади напоролись-таки на «ежи»!
Те, кто прорвался к возам, уперлись в почти сплошную стену, которую просто невозможно было атаковать, все равно, что кидаться с копьем на крепостные ворота – славно, конечно, спору нет, но бесполезно и глупо.
Снова ударили пушки – бабах!
Хрипели кони, стонали раненые, и тучи стрел затмили небо – рыцарская атака захлебывалась, это еще не поняли сами крестоносцы, но понял их командир… и Жижка, давший команду на вылазку.
Вот когда пригодилась лихая дружина пана Владислава из Пржемберка! Один из возов откатили в сторону, и конница гуситов с воплями вылетела из вагенбурга, врезаясь в массу врагов. Закипела битва, и вскоре в ход пошла пехота, безжалостная таборитская пехота с цепами. Крестьяне были умелы – молотили вражин, как хлеб, никому не давая пощады. Множество рыцарей погибло, многих добили гуситы – Ян Жижка принципиально не брал в плен никого.
Правда, сие не относилось к пану Владиславу из Пржемберка, как и к прочим иным панам, люди которых уже нахватали изрядное количество пленных, конечно же знатных, о простолюдинах речи и вовсе не шло – что они могут заплатить?
Подобное своевольство не могло не раздражать Жижку, но он пока терпел. До поры, до времени.
Славную победу решили отпраздновать дома, на горе Табор, и, похоронив убитых, не теряя времени, тронулись в путь все по той же дороге, тянувшейся меж горными кряжами и время от времени спускавшейся в долины, полные запахами яблок и груш.
В попадавшихся по пути селениях гуситов встречали восторженно, правда, славный воевода, еще не успевший потерять свой второй глаз, по деревням свое воинство даже на привалах не пускал, дисциплину держал строгую, периодически устраивая показательные судилища с экзекуциями, от присутствия на которых, как мог, уклонялся Егор.
Не всегда, впрочем, удавалось уклониться…
– Конрад Коляда из Прсыхова, обвиняется в том, что присвоил себе часть добычи, утаив ее от своих товарищей.
– Я только крестик взял – уж очень понравился, хотел невесте…
– Смерть!
Вооруженный длинным двуручным мечом палач тотчас же привел приговор в исполнение, и срубленная голова несчастного пана Конрада, словно капустный кочан, укатилась под телегу, где ей тут же принялись играть псы.
– Иржи Грумек, возница и славный цепник, – обращаясь к важно восседавшему на помосте-телеге «высокому суду» в лице всех командиров во главе с самим Жижкой, продолжал свое дело глашатай с длинным вытянутым книзу лицом и отрешенным взглядом.
Стоял славный вечер – тихий, спокойный и теплый, за горами виднелся сияющий край заходящего солнца, в светло-голубом пастельном небе светились золотом редкие полупрозрачные облака. В такой вечер хорошо посидеть с удочкой на берегу реки, или искупаться в озере, а потом понежиться под уже не жарким солнцем, или – пуще того – завалиться с какой-нибудь девой в стог…
– Смерть!
– Смерть!
– Смерть!
– Христо Немечек, славный пушкарь! Мы все знаем его умение и храбрость. Третьего дня отобрал у крестьянки Марты гуся.
– Крестьянка пожаловалась?
– Да.
– Смерть!
– Гунчо из Брдзова, молотобоец. Вчера, сменившись с поста, надавал тумаков десятнику Крошку.
– За что надавал?
– Он не один к нам пришел, с девушкой. А Крошк просто хотел провести с нею ночь! У нас ведь все равно и все общее!
– Все так. Все равны и все общее. Смерть!
Еще одна голова покатилась. Жаль парня. Гнусные тут правила – хотя порядок и дисциплина железные… как в каком-нибудь пятом классе, где мегера учительница без зазренья совести и оглядки на прокурора лупасит детишек линейкой. В таком классе – всё: и дисциплина, и успеваемость, и порядок… как в таборитском войске! Честь и хвала педагогу! Впрочем, при классно-урочной системе иначе-то и нельзя. Систему надо менять – не педагогов. Вот и здесь – система… «Отнять и поделить», возведенная в кратную степень. И ослушникам – смерть.
Вожников даже не вмешивался – знал, бесполезно. Не люди сидели сейчас рядом с ним – машины смерти!
Палача, правда, щадили – не всем он головы рубил, некоторых и вешали – тут же, на ближайшем дубу. И многих – вполне за дело: уснул на посту, не вовремя явился на построение, крестьян местных обидел. Но многих…
– Смерть!
Приговор объявлял некий пан Свободек, то ли бывший монах, то ли учитель – высокий мужчина лет тридцати пяти с холодно-красивым начисто бритым лицом и пылающим взглядом фанатика.
– Смерть!
– Смерть!
Утомился палач. Взмокла на могучих плечах рубаха. Насыщенный людской кровью меч устало вонзился в землю.
Вожников вздохнул: вообще-то, кат был храбрецом и дрался в первых рядах лихо. Однако же сражался всегда цепом – да так умело! Меч же держал для главного дела.
– Смерть!
Когда всех ослушников на сегодня, без всякой жалости и оглядки на заслуги, казнили, поднялся на ноги долговязый Прокоп Большой – Эйфелева башня с руками… нет, не Эйфелева – та уж слишком изящна, скорей – Тур Монпарнас – Прокоп такой же квадратный, мрачный и всегда не к месту. Вот как сейчас.
– О чашниках спросить хочу! О панах. Доколе мы их своеволие терпеть будем?
Воевода помрачнел, недобро покосившись единственным глазом, сейчас, на закате, вдруг вспыхнувшим красным, словно глаз упыря.
Хмыкнул, погладил бороду:
– Недолго, друг мой Прокоп. Недолго – верь!
«Тур Монпарнас» наклонил голову, словно упрямый, глухой к людскому слову, бык:
– Я-то верю. А вот народ наш… Глаза уже устали смотреть на этих ползучих гадов.
Прокоп покосился на раскинувшуюся чуть поодаль полянку, уставленную богатыми шатрами чешских рыцарей. С полянки доносились женские голоса и смех.
– Да, они не признают нашего учения, Прокоп, – поиграв желваками, негромко продолжил Жижка. – Но пока паны нам нужны. Хотя… эти покинут нас уже завтра, неужто ты думаешь, что мы возьмем их с собой на гору Табор? Нет! Конечно нет, не возьмем.
– Ох, друг мой Ян. Скорей бы уж нам до дому добраться.
Честно сказать, стиль жизни богемских дворян и бюргеров – вовсе не обязательно богатых – привлекал Вожникова куда больше, нежели суровый таборитский уклад, который он вынужден был сейчас принимать из-за данного магистру Гусу (ныне председателю парламента – сейма) – слова. Кто-то должен был присмотреть за фанатиками, а явиться сюда самому профессору мешали не только пражские интриги, но и кое-что еще: просто воеводе Жижке, прозванному позднее Страшным слепцом, было бы нелегко терпеть рядом с собой конкурента – и Гус это хорошо понимал. Так к чему обострять отношения? Пока для того совсем не время. Пока…
А вот князя Жегора послать, конечно, не афишируя то, что он – князь (всего лишь туманное «соратник»), и пообещав всевозможную помощь в борьбе за будущее курфюршество – это пожалуйста! Чужестранец никакой Жижке не соперник за влияние на чешские умы! Вот и находился Вожников при таборитах в не совсем определенном статусе «советника» – представителя профессора Гуса.
И с обязанностями своими – по крайней мере, с воинскими – справлялся очень даже неплохо. А вот что касаемо всего остального… «Замполит», как его про себя называл Егор, пан Свободек открыто следил за князем и его людьми – слугами и воинами, не давая без присмотра сделать и шагу. Вообще, сему мрачноватому пану – а среди руководства таборитов весельчаков почему-то не встречалось – очень нравилось всех поучать, наставлять, заботиться о моральном облике… Вот и сейчас, после казней, Свободек подсел к костру, к молодежи – и что-то им все говорил, говорил, время от времени патетически вздымая руки к уже украсившемуся звездами и луною небу.
Егор прислушался.
– Все люди равны, не должно быть богатых, ибо они – волки, вечно алчущие сокровищ. Только смерть может остудить их пыл. Вы же, братья мои, должны быть выше алчности, ибо боретесь за великое дело всеобщего равенства и братства. Старайтесь быть честными, сильными, храбрыми, помогайте друг другу во всем – и тогда удача никогда не покинет вас, и жизнь ваша станет осмысленной, хоть, может быть, и недолгой. Но лучше пылать факелом, освещая путь людям, нежели топить воск свечкой в золоченом шандале какого-нибудь мерзкого богача! Лучше один раз запеть, чем шептать всю жизнь. Жить ради светлого подвига – вот наивысшее счастье!
«…лучше умереть стоя, чем жить на коленях», – уходя в своей шатер, мысленно продолжил Вожников. С одной стороны – правильные слова говорил пан Свободек, а с другой – просто набор банальностей, сдобренный дешевым пафосом, цинично рассчитанным на неокрепшие мозги подростков. Не надо говорить правильные слова – нужно правильные дела делать. Что же касаемо подвига… Егор почему-то считал, что подвиг совершить не так уж и сложно – погибнуть, чего проще-то? Гораздо труднее всю жизнь не делать подлостей… по крайней мере – стараться не делать. Это не сам князь сформулировал – где-то в какой-то газете прочел, давно уже, в интервью с одним актером.
В камне под щитом с изображением золотой секиры – гербом хозяина – на открытом огне жарились сразу три окорока, и капли золотистого сала с шипением падали на угли. Пан Владислав, прощаясь, пригласил всех господ командиров на обед в свой замок Пржемберк, зубчатые стены которого показались еще с утра.
С паном ушли все его люди и еще несколько богемских рыцарей – Жижка их не удерживал, хорошо понимая, что людям подобного типа нечего делать в Таборе, разве что разжигать страсти. Так что «чашники» пусть уходят, «катятся», как презрительно заметил бывший монах пан Свободек. Так-то оно так – немцев разбили, однако Сигизмунд явно не успокоится, организует новый крестовый поход, и тогда отряды рыцарей и баронов Чехии вовсе не окажутся лишними – слепой на один глаз воевода хорошо понимал это и не желал расставаться со своими бывшими соратниками, как выразился один из трубачей – «на фальшивой ноте». Мог, вполне мог еще пригодиться пан Владислав и такие, как он.
Именно поэтому знаменитый полководец не только принял предложение рыцаря, но и настоял, чтоб в замок поехали все приглашенные. Впрочем, и настаивать-то было нечего, Жижка просто бросил:
– Едут все!
И всё, этого оказалось вполне достаточно – попробовал бы кто не поехать! Даже Прокоп Большой и пан Свободек согласились, потащились в замок позади всех с кислыми минами, и даже доброе вино их настроение не улучшило вовсе, разве что свежее, только что сваренное, пиво чуть-чуть разогнало ненависть. Так, слегка.
Слуги доблестного рыцаря, увы, в отсутствие хозяина частью поразбежались, за что благородный пан уже сделал втык своей супруге Йованке, белесой некрасивой даме с большим – месяце на седьмом беременности – животом. Слава богу, хоть верный мажордом остался, да повариха, да еще с дюжину человек, и все же впечатление от замка нынче было вовсе не то, что прежде. Для пущего антуража просто не хватало людей, а потому хозяин замка распорядился выпустить кое-кого из темницы – тех, что еще не совсем отощал и мог самостоятельно ходить.
– Только приглядывайте за ними, не то… – наказав воинам, пан Владислав погрозил кулаком жене и, тряхнув гривой золотистых волос, вернулся с кухни к гостям, вновь предаваясь веселью.
Эта бесшабашная рыцарская веселость вкупе с показной молодецкой удалью, к слову сказать, весьма нравилась князю: лучше уж слушать громкий смех рыцарей, чем смотреть на постные рожи «замполитов», типа пана Свободека или Прокопа Большого. А пан Владислав оказался вполне приятным собеседником и грубые шутки его пришлись по вкусу даже Жижке.
– А вот! – подняв обглоданную лопатку, голосил благородный пан. – Вот давайте посмотрим, кто быстрее слопает корок… Или кто больше всех пива выпьет – ага? Что вы так смотрите, пан Жегор?
– Насчет пива я бы, может, и согласился, – вспомнив Остапа Бендера, кротко ухмыльнулся Вожников. – Да только Заратустра не велит.
– Кто не велит?!
– Обет дал.
– А, ну если обет. Тогда ладно. Хо! А давайте-ка копья метать! Во-он в те доспехи, в дальнем углу. Это, между прочим, доспехи одного ливонца… да-да, ливонца… или тевтонца… да я не помню уже. Что? Что такое?
Подошедший мажордом – седой лысоватый старик с живым, сморщенным, словно печеное яблоко, личиком профессионального сплетника – наклонившись, что-то угодливо прошептал своему господину.
– Ах, вон оно как…
Выслушав, пан Владислав извинился перед гостями и, встав, зашагал следом за стариком, у самой лестницы обернувшись:
– Ну, вы не скучайте тут. Я скоро.
Для того, чтобы гости не скучали, слуги тут же притаранили целый котел пива, прямо оттуда и стали разливать в кружки.
– Хорошее здесь пиво, – вытирая от густой пены усы, заценил Жижка. – Сразу видно – с душой сварено!
– Наверняка какая-нибудь несчастная вилланка варила, – пан Свободек скривился, но его никто не слушал – пиво-то и впрямь оказалось замечательным, даже Прокоп Большой наконец-то расслабился, только этот, «замполит», с кислой рожей сидел и всю обедню портил. Не, ну бывают же люди!
Врезать бы ему… хуком! Или можно свингом в переносицу. Нет! Апперкот в печень!
Егор мысленно представил пана Свободека на ринге в широких боксерских трусах и перчатках. Трусы все время спадали, и достойнейший пан все время их поддергивал, забавно перебирая ногами… Да, забавно. Вроде – не совсем уж и зануда уже! Может, и в самом деле – апперкотом его? Вызвать на шутливый поединок, приз – бочка с пивом… вернее – котел. Большой. Вот этот вот.
Оставив гостей наедине с пенным напитком, пан Владислав снова прошел на кухню, где мажордом, повернувшись, ловко ухватил за ухо какого-то мальчишку, ойкнувшего и выругавшегося по-немецки.
– Это кто еще? – удивился рыцарь. – Немец, что ли?
– Немец, мой господин, – старый слуга низко поклонился, не выпуская из цепких, изуродованных артрозами пальцев ухо парнишки, так что вышло, что поклонились они оба – мажором и пленник. – Вы, господин, его в подвал бросить велели. Сказали, что на всякий случай, авось, мол, пригодится.
– А-а-а! – наконец, вспомнил благородный пан. – Я уж и совсем про него забыл, клянусь святой Катериной. М-да-а… как он хоть не подох-то?
– Мы же его кормили, господин, – слуга развел руками. – Нешто нелюди?
– Так, значит, это он кого-то из моих гостей узнал?
– А он, господин, сейчас сам вам все расскажет… Иначе мы его живо голым задом на сковородку!
– Ну, пусть рассказывает, – усаживаясь в подставленное слугами кресло, покладисто разрешил пан Владислав. – Только не долго – гости ждут. Ну? Что он молчит-то? По-чешски говорить не умеет? Так пусть говорит по-немецки – я пойму.
– Да я вовсе никого не… – испуганно хлопнув глазами, начал было парнишка, но, получив от мажордома смачную оплеуху, едва не расплакался, а уж, как пригрозили пытать, признался во всем.
– Так-так, – выслушав, протянул. – Значит, пан Жегор – твой бывший хозяин, немец? Герр Георг, так ты сказал? А тебя самого – Бруно зовут?
– Да, – подросток опустил глаза, со страхом поглядывая на разбойного пана.
– Ха! – неожиданно расхохотался рыцарь. – Ну и что с того, что немец? Мало у нас немцев? Это где-то даже и хорошо… Вот был бы я из тех, из сквалыг-таборитов, тогда, конечно, мне, может, и не понравилось бы, что посланец самого Гуса – немец, а так… Вон, Николай из Дрездена – тоже немец, и что? Ла-адно, работай пока, парень. Только не вздумай к своему бывшему господину пойти! Вздерну! Хочешь на виселицу, а?
– Не-а…
– То-то, что «не-а», – передразнил пан Владислав и, чуть подумав, приказал: – На задний двор его отправьте – пущай там в навозе копается, нечего тут…
После третьей кружки хозяин и гости принялись бегать на задний двор – отлить, пиво – все-таки сильное мочегонное средство. Какой-то молодой слуга, возившийся в дальнем углу у навозной кучи, увидав князя, бросился было к нему… да побоялся – «герр Георг» был не один, а со страшным паном Владиславом и каким-то одноглазым, не менее страшным, чем благородный рыцарь из Пржемберка.
Сделав свое дело, все трое ушли, а им на смену появился еще один, не старый, чем-то похожий на монаха, мужчина с приятным и добрым лицом. Вряд ли это был кто-то из замка, хотя… Другой бы, на месте Бруно, может быть, выждал бы еще, но юный приказчик слишком устал ждать – насиделся в сыром подвале, каждый миг ожидая самых лютых пыток и казни.
И этот человек, показавшийся мальчишке таким добрым… У незнакомца были такие глаза, такая располагающая улыбка, что Бруно решил ничего больше не ждать. Бросив лопату, подбежал:
– Господин… вы говорите по-немецки?
– По-немецки? – добрый человек удивленно поднял глаза. – Ну, говорю, а что?
– Я бы хотел у вас кое-что спросить. Можно? – умоляюще сложив руки, подросток посмотрел на гостя столь жалобно, что тот махнул рукой:
– Ну, спроси, ладно.
– Вы ведь приехали сюда в гости?
– Да, так. Не понимаю, к чему ты это спрашиваешь?
– Просто… Один из ваших спутников, кажется, мне знаком.
– Вот как? Знаком? – пан Свободек – конечно же, это был он – насторожился. – И кто же это?
– Герр Георг, мастер торговых дел из Аугсбурга, – выпалил Бруно. – Он должен меня помнить.
Пан Свободек пожал плечами:
– Да нет у нас никаких мастеров торговых дел… разве что заплечных, х-хе!
– Да я же его только что видел! – в отчаянии закричал отрок. – Высокий такой, красивый… в бархатной темно-голубой котте.
– А-а-а, вот ты о ком! – таборит поспешно прикрыл глаза, стараясь не показать вспыхнувшие в них искры. – Герр Георг, говоришь? Ну-ну…
– Да-да, именно так, уважаемый господин! Надеюсь, он меня узнает.
– А ты сам-то как здесь? – оглянувшись по сторонам, негромко спросил пан Свободек.
Мальчишка зашмыгал носом и всхлипнул:
– Да вот, ехали… А тут вдруг – разбойники… и оказалось… пан… пан Владислав…
– Понятно, – небрежно перебил чех. – Ах, пан Владислав, пан Владислав… Впрочем, ничего необычного для благородного рыцаря. Что ж, бедный мальчик, я помогу тебе!
Заплакав, Бруно упал на колени:
– Не знаю, как и благодарить вас, благородный господин…
– Никогда не зови меня благородным господином, – резко возразил пан Свободек. – Все благородные господа – суть ненасытные пиявки, пьющие народную кровь. Или ты считаешь иначе?
– Я… я не знаю, благород…
– Ладно, хватит, – махнув рукой, таборит снова осмотрелся и понизил голос: – На другом дворе, у ворот замка – повозка, сможешь туда пробраться?
– Ага!
– В ней и спрячешься, я предупрежу возницу и воинов. Все понял?
– О да, господин!
Чех поморщился:
– И еще одно пойми – герру Георгу мы пока ничего не скажем… вокруг него слишком много врагов, нужно немного выждать. Не бойся, я же сказал, что помогу тебе во всем! Ведь люди же должны помогать друг другу, верно?
– Верно, благород… ой… пан.
– Пока прощай, – пан Свободек потрепал парнишку по плечу. – Увидимся позже, и да поможет нам Бог!
Пригладив волосы – шапку оставил в повозке, – Ярослав осторожно выглянул из-за куста, стараясь понять, откуда послышался странный шум, напоминающий лязг вытаскиваемого из ножен меча. Заросли ольхи, липы, невдалеке – за поляною – ельник, а чуть в сторонке – малиновые кусты с крупными спелыми ягодами. Уже отходила малина, но все же хватало еще ягод, в этот год весна выдалась холодной, дождливою – все поздно цвело.
– Вроде все спокойно, пан Яр, – прошептал позади Крамичек – недавно примкнувший к таборитам молодой парень с русой бородкой и бесшабашной душой. Бывший пастух, виллан какого-то пана. Пана крестьяне сожгли вместе с замком и всей семьею, сами же подались в Табор, и сейчас подвергались строгой проверке, испытанию – на что годны?
Вот и Крамичек доказывал свою преданность – сам вызвался в опасное и непростое дело: съездить за продуктами и фуражом. И то, и другое частью добровольно давали местные крестьяне, но таких сознательных становилось все меньше, и в делах снабжения таборитам все чаще и чаще приходилось прибегать к старому испытанному способу: налетел – отобрал! Некоторым стыдно было, но пан Свободек таковых быстренько вразумил – мол, не просто так разбойничали – а за-ради святого дела народного счастья.
Правда, не все обираемые таборитами крестьяне так считали, некоторые – вот же гады! – упорствовали, прятали скот, овощи, хлеб – с такими пан Свободек приказывал не церемониться. Обычно и не церемонились, правда, на этот раз обошлось – неплохо съездили: часть фуража да немного продуктов крестьяне сами дали, остальное добрали, разграбив возы с оброком какому-то пану. Хорошо все прошло, почти без крови – стражники, едва увидав вылетевших из лесу всадников с цепами, тут же и разбежались… кто успел.
Впрочем, собрать фураж да жратву (как по-простому выражались гуситы) – это еще полдела, еще оставалось главное – вывезти, доставить: война шла, крестовый поход опять же – на чужие обозы с обеих сторон охотников было немало.
Ехали с осторожностью, бывший навозник, а ныне – сам себе пан, Ярослав Гржимпек – за старшего, что многим в отряде нравилось – они Ярослава своим командиром и выбрали, сам Жижка не возражал. Бывший торговец навозом человек хороший, не злой, зря не придирается, однако требует службу сполна, а что военное дело не слишком-то знает, так то не страшно – научится, времени-то полно, когда еще война кончится? Один Господь знает, да еще, может, святой Галл.
Чу! Снова что-то лязгнуло. Ярослав поудобней перехватил секиру – неужто за обозом следят? Неужели – крестоносцы, немцы? Или – местные паны, те тоже могли напасть.
Крамичек позади вдруг рассмеялся. Ярослав возмущенно оглянулся – и чего ржет-то? Тем более в такой момент.
– Глянь, пан Яр! – парень показал вверх, на ветви липы, где болталось что-то такое… лязгающее…
Черт! Старый капкан! И кто его только туда забросил?
– Тьфу ты!
Выпрямившись, Ярослав сунул секиру в лямку да, забросив за спину, оглянулся:
– Ну, идем, Крамичек. Чувствую – то-то сейчас хохоту будет.
Да, хохоту было изрядно, даже пан Яр – сотник! – к общему хору присоединился, усевшись на телегу, искоса поглядывая по сторонам. Да-а-а… повезло нынче. Со всем повезло – и с продуктами, и с погодой. С утра еще туманилось, моросило, а после поднялся ветер, и к вечеру распогодилось – небо стало высокое, чистое, лишь кое-где кучерявились легкие белые, как овсяный кисель, облака.
– Ох-ох-ох, – все же – для порядку! – повздыхал сотник. – Теперь бы к ночи до нашего шляха добраться, и считайте – всё.
«Наш шлях» или «гуситский шлях» – так называли дорогу, что сворачивала прямиком к горе Табор, и на которую с нехорошими целями мог сунуться разве что сумасшедший или самоубийца – все контролировалось постами таборитов, первый из которых вскоре должен был показаться…
– Во-он за тем кряжем, – указал пан Яр усевшемуся за вожжи Крамичеку. – Там будем – можно будет и повеселиться.
Парень улыбнулся, щелкнув вожжами:
– А ведь скоро доедем! Не так-то и далеко.
– Не далеко, верно. К ночи уж точно будем.
Они приехали раньше – солнце еще не успело скрыться за синими отрогами гор, и длинные тени скал чернели поперек наезженной многочисленными телегами колеи, словно вытянутые ноги прилегшего отдохнуть великана. Чуть в стороне, у самого кряжа, виднелся шатер, а из распадка тянуло дымом, и алые отблески костра плясали на стволах росших рядом деревьев.
– Вот и наши, – обрадованно воскликнул Крамичек.
Кто-то из обозных помахал рукой:
– Эй-эй! Сейчас мы у вас утку зажарим!
Воины в стальных шлемах, пропуская обоз, молча отсалютовали копьями. Возы неторопливо, один за другим, втягивались в распадок.
– Я займу местечко?
– Давай.
Крамичек, передав вожжи напарнику – такому же молодому парню из Брно – соскочил с телеги и нетерпеливо побежал к костру… что-то просвистело… и юноша вдруг споткнулся, упал…
И тут же со всех сторон полетели стрелы!
– Засада! – запоздало закричал Ярослав. – Разворачивайте возы, разворачивайте…
Бесполезно. Все уже было поздно. Выскочивший из-за кряжа отряд крестоносных рыцарей, словно ураган, смел всех выскочивших им наперерез воинов, завязалась рукопашная схватка, где парни из отряда пана Яра проявили себя во всей красе, сражаясь отважно и умело. Увы, силы были слишком неравные! И еще – неожиданность… Откуда взялся здесь столь большой отряд? Как они вообще посмели?
Удар! Палица соскользнула со шлема, угодив в левое плечо, и Ярослав, жутко ругаясь, отмахнулся секирой, угодив немцу в латную грудь. Кираса глухо звякнула, загудела, и сотник, не думая, обрушил на врага град ударов с такой непостижимой яростью и силой, что немец вынужден был отступить… И поучил удар в шею!
– Ага! – подняв вверх окровавленную секиру, пан Яр оглянулся, подзывая своих. – Наши недалеко, парни! Выпрягайте коней, скачите. Просите подмогу!
Что ударило по шлему… палица? Верно, кто-то метнул… ничего не скажешь, удачно…
Глаза бывшего торговца навозом затуманились, тело обмякло, оплыло, словно квашня, без сил повалилось на самое дно телеги…
– Разворачивайте возы! – подняв забрало, приказал рыцарь с золотым львом на червленом поле щита. – Уходим. Быстро!
– Мы не будем их преследовать, мой барон? – почтительно поинтересовался один из воинов в заляпанной кровью кирасе.
Рыцарь мотнул головой и усмехнулся:
– Нет! Нас всего три сотни, а их там – тысячи. Достаточно и обоза. Уходим!
Затрубил рог, и крестоносцы, проворно развернув возы, поехали прочь, даже не добив раненых таборитов. Следовало спешить – некогда было! Вот-вот могли показаться войска страшного Жижки! Конечно, было бы вполне достойно умереть за святое дело в борьбе с превосходящим по силе противником, но… Если бы врагами были рыцари, а так… Табориты! Гнусные смердящие мужики – какое уж тут благородство?!
Скрипели колеса возов, ржали лошади, кто-то негромко шутил. Отряд крестоносцев во главе с рыцарем Золотого Льва уходил в ночь, уводя с собой отбитый у гуситов обоз с фуражом и продуктами. Славная вышла победа, лихая. И, главное, под самым носом у знаменитого Жижки!
– Уже третий обоз! – ругался на совете Прокоп Большой. – Третий! И это только за последнюю неделю, ага. Эти недобитые сволочи немцы совсем обнаглели. Нет, ну сколько же можно терпеть?
Табориты хоронили погибших. Тех, кого привезли с Гуситского шляха, где столь бесславно был потерян обоз. Со скорбными лицами погибших товарищей опустили в могилы, священник прочитал молитву, конечно, по-чешски, и очень быстро, как попросил пан Свободек – а этот непростой и приятный с виду пан имел большое влияние. Нечего было и спорить.
– Мы потеряли наших братьев! – после священника пан Свободек как раз и взял слово, поднявшись на невысокое крылечко часовни. – Пожалуй, не побоюсь этого слова, лучших из нас. Мы скорбим, но наша скорбь не есть скорбь трусов, о, нет. Мы обязательно отомстим, и я клянусь в этом сейчас перед всеми вами. Мы боремся за народное счастье, и этим сильны. Сильны и непобедимы. Лишь иногда подлые враги кусают нас исподтишка, нанося страшные свербящие раны. О, славные герои! Никогда народ не забудет ваш светлый подвиг… Никогда! А ныне – мы чествуем этих героев!
Стоявший чуть в стороне Вожников покоробился. Сию прочувствованную речь он слышал уже раз пятнадцать – все в том же исполнении и всегда – одно и то же. Егор с детства не любил пафоса, а слово «чествовать» так и вообще толком не понимал никогда, считая его лишь принадлежностью составителей речей номенклатуры. Что значит – чествовать? Читать хвалебные стихи, аплодировать, с комплексом ритуальных завываний произносить пафосные речи? Что же касается подвигов, то и к ним у князя сложилось свое личное отношение. Егор уже давно совершенно искренне полагал, что все славные подвиги есть результат чьей-то недоработки, ротозейства, а иногда – и откровенной подлости и предательства. Так оно всегда и бывает – кто-то по глупости (либо – специально!) делает ошибки, а кто-то другой закрывает их своими телами. А затем первые произносят пафосные речи о погибших героях – вторых. Сволочи и подлецы. Что тут еще скажешь?
– Страшная боль стучит в моем сердце! – стуча себя кулаком в грудь, продолжал ритуальные завывания «замполит». – Боль о наших погибших товарищах…
Пан Свободек все никак не мог угомониться – то ли доказывал вышестоящим отцам-командирам свою незаменимость и нужность, то ли искренне был уверен в собственной значимости, но полная образных выражений, цитат из Святого Писания и метафор, пламенная речь его продолжалась уже больше часа, и не только один Вожников полагал, что пора бы уже и закончить. Ну, нарвались на засаду. Ну, погибли – что в этом такого необычного? В Средние века вообще гибли часто, и ценность человеческой жизни была близка к нулю. Примерно как в России в крысиные девяностые – «Сдохни ты сегодня, а я завтра! Не дай себе засохнуть, бери от жизни всё».
Пан Свободек все говорил и говорил, то понижая, то повышая голос… а он ведь хороший оратор… где научился? Закончил университет? Несомненно! Тогда почему этим не хвастает, «косит» под простого? Впрочем, почему – понятно: для имиджа. Мол, вот, из простонародья, а уже много чего добился… Или нет, не так! Просто хочет показать, что он и все эти люди – «две пары в сапоге», одной крови, одного поля ягоды.
Но зачем уж так стараться-то? Переборщит ведь, переборщит. И так-то его простые воины не очень жаловали… хотя трескучих замполитов не любят нигде. Кроме речей да стукачества – что от них толку-то?
Воспитывают личный состав – вот как сейчас пан Свободек? Да-а-а… Воспитывать детишек в детском саду можно, а уж если постарше стали – всё! Что выросло, то и выросло.
И что характерно – никто зарвавшегося «замполита» не останавливал, не прерывал – оставив вместо себя Прокопа Большого, Жижка отправился по своим делам – вот и остановить было некому, даже Прокоп – и тот не решался, а князь Егор так и прав таких не имел. Вот и балаболил пан Свободек, «воспитывал».
Вожникову вдруг вспомнился старый участковый уполномоченный, вечный (как говорят в армии – «пятнадцатилетний») – капитан, бывший опер, «сосланный» на село за непочтительность к начальству и крепкую дружбу с зеленым змием. Участковый иногда заходил на пилораму к Егору, поболтать да выпить, бывало, что и пробирало старого капитана.
– Во, Егорша, – отдел по воспитательной работе с личным составом теперь есть! Целый отдел бездельников. Оперов, участковых, пэпээсников сокращают – скоро в патруль ходить некому будет – а этих чертей расплодили немерено! А потом спрашивают – с чего это у нас раскрываемость такая низкая? А ясно, с чего! Пьют людишки-то! Так выгнать пьяниц на хрен. Вот и выгнали… лучших оперов поувольняли, на их место понабрали пацанов, детишки голимые – пить толком не умеют… А как ты без водки с контингентом общий язык найдешь? Да никак! Вот и нет связи… А как без информации? Да никак. Такое впечатление, что начальство судит о раскрытии дел по всяким там дурацким сериалам. От того, что ты пятнышко крови экспертам отнес, преступления раскрываться не будут – только если кто-то что-то скажет… на хвосте принесет.
Стук-стук, короче. И без этого – никак. Свои люди нужны, вот о чем я!
О том же сейчас вдруг подумал и князь. О том, что хорошо бы кого-то здесь заиметь – если такие, как пан Свободек власть возьмут, мало никому не покажется. Присмотр нужен, глаз да глаз.
Нельзя сказать, что и раньше Егор этим вопросом не озаботился, озаботился, даже строил кое на кого планы, да вот только еще не успел толком ничего предпринять. Дело это деликатное, небыстрое – торопиться нечего.
Пан Свободек наконец-то закончил – наверное, просто больше не мог говорить, устал, бедолага, вымотался. Подошедший помощник – худой, вечно сутулый и малоразговорчивый тип по фамилии Рамек – подал утомленному оратору фляжку с водой… или вином, или пивом. Вообще, этот Рамек был своему хозяину предан… хоть и не полагалось в Таборе иметь слуг – ведь все люди равны! – так сутулый и не именовался слугой, а считался «помощником». Убей бог, князь никак не мог придумать, как и на чем с «помощником» этим сойтись, да еще хотелось бы, чтоб тот не донес своему господину. Так ничего пока в голову и не лезло – не имелось соответствующей подготовки, черт его знает – как и завербовать-то? Ах, Рамек, крепкий ты орешек, должно быть.
Рамек помог пану Свободеку забраться в повозку и сам уселся рядом с возницею, тут же хлестнувшего коней:
– Н-но, ироды! Пошли, пошли, драконы!
Возница! – тут же осенило князя. Пан Свободек не очень-то любил ездить верхом (Егор сильно подозревал, что и не умел даже) и передвигался по городу в громыхающей повозке, чуть меньше той, что обычно использовали табориты, но все же вполне громоздкой. Приобрести дорогое рессорное ландо производства фирмы «Ганс и Георг» «замполиту» не позволяли не столько политические взгляды, сколько опасение напрочь погубить свой образ радетеля за народное благо. Да и не позволил бы никто в шикарной коляске ездить – люди ведь все равны и должны быть одинаковы: одинаково выглядеть, одинаково мыслить, одинаково жить – дабы никогда не возникла гнусная, разъедающая общество, зависть. Возникнет – и все, хана, кончилось народное единство. Кстати, в этом табориты вовсе не были так уж неправы.
Итак, возчик. Дородный, с круглым лицом и вислыми, пшеничного цвета, усами, пан, звали его, кажется, Добружа, или как-то так… Нет, именно так – Добружа. Познакомился с ним Егор запросто, просто поехал на коне сзади, да подождал, когда пассажиры сойдут, войдя в предоставленный для жилья дом. Кстати, и сам князь столовался рядом, хотя домов для всех таборитов и не хватало, но кое-кому все же постой полагался, в полном соответствии с Оруэллом – «все овцы равны, но некоторые – равнее других».
И все же это равенство постоянно декларировалось таборитами, в их лагере в городе и на горе Табор не было ни господ, ни слуг. Любой мог подойти к любому – запросто. Вот и Вожников подошел. Похлопал по крупам коней, попинал колесо телеги, поинтересовался:
– А что, рессор нет?
– Чего, чего? – озадаченно переспросил пан Добружа.
Да-да, даже среди таборитов все именовали друг друга из вежливости – пан, до слова «товарищ» как-то еще не догадались, а Егор им этого не подсказывал, не считал нужным.
– Ну, такие стальные пластинки, подкладываются под ось и гасят тряску.
– Под ось? Пластины?
– Хочешь, так пойдем в пивную – объясню.
Славный пан Добружа просиял лицом и согласился в ту же секунду, оказывается, он тут, поблизости, и пивную хорошую знал, называлась классически – «У чаши».
– О, совсем как у Гашека!
– Смотрю, и вы ее знаете, пан? Да уж, пиво там доброе. Только вот гроши…
– Да я вас, пан возница, угощу, раз уж сам разговор затеял.
– Вот это славно! Идемте же скорей, славный пан Жегор!
– Вы что, меня знаете? – спускаясь следом за своим провожатым в какой-то подозрительный подвал, поинтересовался князь.
Возница оглянулся:
– Кто же вас не знает, пан Жегор! Все знают, и уважают все – за нрав ваш и к простому человеку снисходительность.
– Так у нас тут вроде бы все простые… Так это ваша пивная?
– Она!
Пан Добружа гостеприимно распахнул дверь, словно бы сам и был хозяином сего почтенного заведения, несколько запущенного снаружи, но вполне уютного изнутри.
– А вот и она – чаша! – усаживаясь за длинный стол, возница кивнул на висевший над столом щит с изображением чаши – символа провозглашенной профессором Гусом борьбы мирян за равноправие с клиром.
– Аннушка, пива нам принеси.
Ах, вон оно что – Аннушка! Князь с интересом посмотрел на осанистую женщину с крепкими руками и арбузной грудью, принесшую для дорогих гостей аж четыре кружки пива зараз.
– Угощайтесь, милые паны. Ах, пан Добружа, как же я рада вас видеть! Подождите, сейчас еще сыру и кнедликов принесу.
– Это Аннушка, вдова, – покрутив усы, пояснил возница. – Хозяйка всего здесь.
– Вот как, хозяйка? А ведь славный пан Свободек говорил, что все имущество должно быть общим. А Аннушка, вишь ты – хозяйка!
– Пан Свободек много чего говорит, – ухмыльнулся новый знакомец. – И вовсе никакой он не славный. И вы, пан Жегор, нисколько его не уважаете – я давно заметил. Не так?
– Пусть так. – Вожников быстро кивнул и, подняв пенную кружку, улыбнулся как можно шире. – Ну, за знакомство, славный пан Добружа!
По две кружки – это, конечно, только для начала, всего же за вечер приятели выхлебали дюжину на двоих. Можно было бы и больше, да пан Жегор сослался на неотложные дела. О, хитрый князь пил сегодня не зря. Во-вторых – пиво оказалось необыкновенно ароматным и вкусным, ну, а во-первых – Егор много чего узнал.
Как он и предполагал, пан Свободек знал и грамоту, и риторику, и вообще все семь свободных искусств, значит, несомненно, учился в университете, быть может, даже в Праге. Доучился или нет, князь не выяснил, да это было не столь уж и важно, зато Егор враз угадал факультет – да, собственно, нечего и угадывать было. Во всех средневековых университетах имелось всего по три факультета – богословско-философский, юридический и медицинский. Юридическими терминами пан Свободек отнюдь не блистал, медицинскими – тоже, так что оставалось одно: богослов и философ. Если не выгнали – то магистр, если выгнали… или сам по каким-то причинам ушел…
А еще «замполит» нежно любил свою дочь, оставшуюся на попечении двоюродной тетки где-то в Домажлицах, небольшом городке на западе Богемии, и часто писал ей письма, передаваемые с малейшей оказией – с купцами, паломниками, студентами и прочим бродячим людом.
«Надо же! – удивился про себя Егор. – Он еще и дочку любит, а я-то думал, что только партию, в смысле – идейное учение таборитов».
И какого же черта он поперся с крестоносцами? Думал, они захватят Прагу, восстановят все прежние порядки, и он, герр Отто Штальке, вновь станет ратманом, заняв свое законное место в ратуше, из которой его столь бесславно выкинули. Без всякого сожаления! И пана Пржемока тоже прогнали, хоть он и чех, а вот невежливого гордеца Майера – немца! – оставили, вот и пойми этого чертова Гуса!
Бывший ратман все же был человек не бедный, и много чего потерял – особенно жалко было дома, уютного двухэтажного особнячка на самом берегу Влтавы, у Карлова моста. О, Пресвятая Дева – и кто хоть там сейчас живет? Сам-то Штальке, прихватив семью – спасибо тому доброму селянину! – отправился от греха подальше в Дрезден, где, рядом с городом, имел во владении мельницу, приносившую хоть и небольшой, но постоянный доход. Там же, в Дрездене, заручившись поддержкой тамошних ратманов и кое-кому заплатив, открыл и небольшую лавку, в которой пока что и жил… точнее, уже не жил: оставив всю торговлю и мельницу на супругу и дочерей, подался с крестоносным воинством в Чехию, надеясь после победы императорских войск вернуть все свое добро и положение.
Имперский рыцарь Гуго фон Раузе, командир того отряда крестоносцев, к которому, в числе прочих обиженных, примкнул и герр Штальке, отнесся к бывшему ратману со всем почтением: еще бы – вот выбьют гуситов из Праги, а тут уже и член городского совета припасен – все по закону, истинный народный избранник! Хитрый Отто, конечно, не будь дураком, еще и преподнес славному рыцарю презент – украшенный серебряной вязью бацинет настоящей миланской работы, стоимостью двадцать шесть флоринов, и отпечатанное в Аугсбурге «Житие святой Афры» с занимательными картинками, за которое ратман выложил еще пятнадцать золотых, итого, вместе со шлемом, выходило сорок один флорин, сумма немаленькая, но для герра Штальке вполне посильная, тем более, ради расположения такого славного воина, как Гуго фон Раузе, ничего было не жаль – лишь бы выказывал должное уважение да не отказал впоследствии в помощи.
Надо сказать, подарки сей славный рыцарь оценил вполне, особенно, как ни странно, не бацинет, а «Житие святой Афры» – фон Раузе, оказывается, умел читать, да и вообще оказался человеком весьма неглупым и, кроме ратных дел, склонным к долгим и глубокомысленным беседам за кувшином вина.
Они так и провели весь поход вместе – на одном постоялом дворе или в разбитых неподалеку шатрах: рыцарю нужен был ученый собеседник, а герр Штальке, если не говорил о городском хозяйстве и прочих высоких материях, вполне сходил за ученого, уж по крайней мере, читать да писать, как и любой уважающий себя купец, умел.
Увы, Прагу взять не удалось, и рыцари, потеряв две трети отряда, частью разбрелись по домам, а частью – подались на юг, к Табору, как выразился фон Раузе – «тревожить пчел в ульях»! Надо сказать, ратману эта рискованная затея совершенно не нравилась, но, к его удивлению, пока все сходило гладко – все бесшабашные налеты на гуситские обозы удавались блестяще, похоже, хитроумный рыцарь Гуго имел своего человека в самом сердце разбойничьего стана – в городе, на пресловутой горе Табор.
Нет, все так и было, имел – честь ему за это и хвала! – герр Штальке не раз видел, как глава крестоносцев читал про себя какие-то письма… начинавшиеся весьма странно – «Дорогая доченька…» При этом имперский рыцарь Раузе впечатление охотника за чужими семейными посланиями отнюдь не производил, а наоборот, выглядел вполне здравомыслящим человеком, насколько это вообще возможно для рыцаря. И, насколько помнил Штальке, у Гуго фон Раузе вообще не было дочерей, а лишь три сына.
Доставшаяся от удачных налетов добыча перепродавалась все в тот же Дрезден через приказчиков бывшего ратмана, так что союз был выгоден для обоих – и для герра Штальке, и для рыцаря.
Нынче же благородный господин Раузе, на ночь глядя, вновь отправился в набег, и вернулся лишь к утру, сияющий и веселый, из чего разбуженный в своем шатре ратман и заключил, что и этот налет оказался столь же удачным.
– Вставайте, дружище Отто! – хохотал у шатра крестоносец, небрежно прислонив к росшей неподалеку березе щит с золотым львом на червленом поле. – Выпьем вина за удачное дело, а потом, если хотите, можете снова спать, как и все мы. Но я бы вам не советовал…
– А что такое? – откинув полог шатра, выглянул наружу заспанный ратман.
– Мы взяли много добычи. Целый обоз! Кое-что нужно будет продать, господин ратман.
Фон Раузе горделиво ухмыльнулся: веселый, с развевающейся копной темных волос и загорелыми лицом, он сейчас напоминал какого-то древнего героя – Ахиллеса или Одиссея.
– Надо – продадим, – герр Штальке, наконец, протер глаза. – Ну что же, давайте выпьем. А потом уж я займусь своим делом. Дебет-кредит, флорины, марки, гроши – думаю, это несколько скучновато для столь славного господина.
– В этом вы правы, друг мой, – снова рассмеялся рыцарь. – Каждый пускай занимается своим делом, верно? Сейчас принесут вино, да пожарят на костре свежатинки. Вот под этой березой и сядем! Да, мы тут случайно привезли пленного таборита, хотя договаривались в плен никого не брать, да уж так само собой получилось – он просто свалился в телегу, да так там и лежал. Боже, как от него пахнет навозом – прямо разит! Ничего, – фон Раузе сердито сверкнул глазами. – Эти чертовы табориты не так давно сожгли на костре двух наших воинов… Настала пора им ответить! И совсем не обязательно жечь, можно – сварить в котле или, на худой конец, отрубить голову или повесить.
Вскоре подошли и другие рыцари, выпили вина, закусили, да разошлись отдыхать – все же вымотались за ночь. Кстати, пленного таборита большинством голосов решили сварить в котле, для пущего смеха набросав в воду шалфея, луку и прочих пряностей. Так сказать – похлебка!
Посмеявшись вместе со всеми – большие они, оказывается, выдумщики, эти крестоносцы-рыцари… впрочем, ничуть не больше старшин городских цехов – герр Штальке отправился к захваченным возам – приступить к своим обычным занятиям: тщательно осмотреть всю добычу, переписать, поделить, чтоб никому не было бы обидно. Сия кропотливая работа вовсе не терпела нервозности и суетливости, поэтому ратман даже рассердился, когда кто-то из кнехтов спросил его, что делать с пленным? Перевязать ли разбитую голову? Кормить или нет?
– До вечера с едою потерпит, – отмахнулся Штальке. – А голову все-таки перевяжите, да рану не забудьте промыть – еще помрет раньше времени.
Радостно кивнув – все же хоть от кого-то получили распоряжение, – кнехты подбежали к ближней телеге:
– Эй, вставай, вставай, ага. Сейчас мы тебя перевяжем.
– Спасибо, добрые люди, – приподнявшись на локте, улыбнулся гусит.
Ратман злорадно покривил губы – знал бы, за что благодаришь! Тоже еще, нашел добрых людей – кнехтов, сущих разбойников, на которых креста ставить негде…
Черт!!!
Штальке вдруг показалось, будто он узнал и голос… и самого пленного… Да не показалось, а точно узнал, не мог не узнать – тот самый… Ярослав… торговец навозом… спаситель. Ну да – он! Слишком уж приметное лицо… и улыбка…
Ратман машинально отвернулся, сделав несколько шагов назад, за березы, и напряженно задумался. Почему-то – интересно, почему? – не хотелось, чтоб пленник узнал его, хотя, казалось бы, какое уважаемому господину ратману дело до нищего еретика таборита? Ну, казнят его – туда и дорога. Подумаешь, кто-то когда-то кого-то спас… пусть даже и его, Штальке… и семью. Вывез пан Ярослав всех на своей навозной телеге. Ох, и лихо тогда ехали!
Тьфу ты! Святая Дева! Гнать, немедленно гнать из головы подобные мысли. Что такого в этом улыбчивом – пока еще улыбчивом – простолюдине? Он же страшный еретик, враг, достойный – несомненно, достойный! – самой суровой казни.
Герр Штальке прислонился лбом к холодной коре березы. Что за мысли-то! И почему они не уходят? Почему он, уважаемый всеми бюргер, немец и добрый католик, вдруг почувствовал себя так неловко? Ведь не может же он взять и вот так запросто освободить пленного таборита, избавить от смерти? Да и не выйдет ничего – рыцари только поднимут на смех… и это еще в лучшем случае, в худшем же… О худшем не хотелось и думать!
И все же лезли, лезли мысли, и никак их было не прогнать. Герр Штальке сам себе удивлялся – раньше-то, в старые добрые времена, он никогда бы столько о каком-то там простолюдине, пусть даже и оказавшем услугу, не думал бы. Ведь расплатился же тогда, целых пять флоринов заплатил… нет, даже шесть! Между прочим, хорошие деньги, иной и за день столько не заработает, визит хорошего врача всего три флорина стоит. А тут – в два раза больше! Значит, все, значит, в расчете, и нечего теперь тут…
Ратман нарочно начал подсчеты с дальнего воза, и благополучно про проклятого чеха забыл… а потом вдруг увидел, как таскают в воду в котел. Тот самый, большой, осадный, захваченный не так давно в какой-то вражеской крепости или замке. И в этом котле нынче… А вдруг этот… пан Ярослав случайно на него, герра Штальке, взглянет? Да и черт с ним, пусть зыркает, еретик… Или…
Да что же такое с головой-то?! Ну, не спасти таборита никак, не спасти…
Плюнув, герр Штальке посмеялся над своими дурацкими мыслями да зашагал к шатрам – кое-что из писчих принадлежностей взять. Наклонился… послушал раздававшийся рядом молодецкий храп Гуго фон Раузе…
Вскочил, подошел ближе… и яростно пнул рыцарский шатер ногою:
– Герр Раузе! Вы спите еще? Эй!!!
Мало того что кричал, ратман еще и тряс полог шатра с такой силой, что разбудил и рыцаря, и дремавшего неподалеку, в холодке, оруженосца.
– Что? – откинул полог растрепанный со сна рыцарь. – Вы, герр Штальке? Случилось что?
– Да ничего… я просто про кое-какие товары хотел выяс… Ваш пленник – очень хороший каменщик, один из лучших в Праге! А я, как вы знаете, собираюсь строить в Дрездене дом.