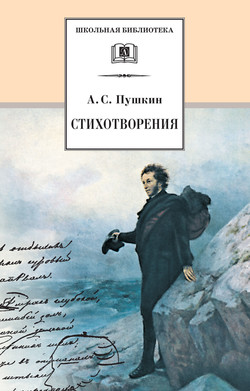Читать книгу Стихотворения - Александр Сергеевич Пушкин, Александр Пушкин, Pushkin Aleksandr - Страница 2
«Духовной жаждою томим…»
ОглавлениеВ пятидесятые годы, когда я заканчивал среднюю школу, мы изучали Пушкина вроде бы неплохо: учили наизусть стихотворенья и отрывки из поэм, за что я до сих пор благодарен своим учителям; писали сочинения на самые разные темы, сочинения, может быть, не особенно оригинальные, но в то же время и необходимые; не говорю уже о том, что читали мы Пушкина в несравненно большем объеме, нежели это делают нынешние школьники… И однако, однако был один очень большой минус в добротном изучении Пушкина тех лет: все учебники и все учителя, вся методика внушала нам, что Пушкин необычайно светел, понятен, общедоступен настолько, что и раздумывать о его творчестве нечего: он сам все нам разжевал, сам все объяснил и наша задача лишь усвоить это общедоступное знание.
И помнится, что я был крайне поражен, когда впервые прочитал у Достоевского: «По-моему, Пушкина мы еще и не начинали узнавать: это гений, опередивший русское сознание еще слишком надолго». А несколько позднее мою школярскую самоуверенность смутило глубокое пророчество Гоголя о том, что «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа; это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Все вроде бы солнечно, ясно, просто – и вдруг аж через двести лет только все определится: вырастет русский человек до идеала, очерченного Пушкиным, или нет…
* * *
Сколько бы раз я ни перечитывал Пушкина – всегда заново в моей душе из каких-то неведомых глубин поднимается волна восторга, рождаемого вещими строками:
Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.
Это сказано не только о Великой французской революции, не только об Отечественной войне 1812 года, не только о пушкинском времени – но о судьбах всех времен, всех революций, всех поколений. Пушкин – угадчик, толкователь неясного и таинственного гула, сопровождающего исторические сдвиги, выразитель сверхчеловеческих идей, которыми движется история. Он чувствовал ее ход и движение, как гениальный геолог чувствует подземное перемещение земных материков, на которых живут обычные люди, не подозревающие того, что ни одна точка земной тверди не находится в полном покое.
В мировой истории, по Пушкину, герои и великие люди величественны не сами по себе, не потому что они сильные натуры, деятели и авантюристы – нет, каждый из них есть воплощение некой мировой идеи, сосредоточившей волю народа или волю государства, волю искусства или волю фанатизма, волю зла или волю добра. Таковы у него владыка Запада Наполеон и Магомет, Емельян Пугачев и Моцарт, Борис Годунов и Петр Великий, превращающийся на протяжении пушкинского творчества в Медного Всадника, христианин Тазит и супермен Герман.
И вот это не механическое, а живое проникновение в недра человеческой истории, в глубины народного духа, в «святая святых» есть урок нашему искусству, упрощающему ради сиюминутных интересов (злоба дня, массовая культура, классовые догмы, узкопартийные страсти, демагогия «народных витий») сложнейшие отношения духа и материи, вождя и народа, человека и общества до романтических мотивов в духе Дюма или даже Юлиана Семенова.
Смотри, вокруг тебя
Все новое кипит, былое истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.
Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Нет, торопливо свести с расходом приход невозможно, как невозможно, глядя в прошлое и рассуждая, кто прав, кто виноват, на уровне узкого юридического мышления постигнуть сущность «игралища таинственной игры», когда свобода, защищаясь и проливая кровь, перерождается в тиранию, гений – в злодейство, справедливость – во зло и репрессии. А Пушкин понимал это уже в свои двадцать пять лет, когда в год Декабрьского восстания в стихотворенье «Андрей Шенье» писал:
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство.
И мы воскликнули: Блаженство!
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон?
Над нами Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари…
И это не просто мозаика из взаимоисключающих воззрений и картин, не пресловутый плюрализм, а художественно цельное исследование громадного Тела Человечества, где все органически взаимосвязано перетекающими и перерождающимися друг в друга потоками энергии, воли, крови и духа.
Объять все многообразие стихийной жизни человечества, остаться цельным, не впадая в соблазнительную односторонность, можно лишь беспристрастным научным анализом либо художественным взором. Кем был Пушкин? Певцом государственности? Избранником чистого искусства? Сторонником народной жизни? Апологетом декабристов? Кто его любимые сердцу герои? Воины 1812 года? Аполлон? Чиновник Евгений? Пимен-летописец? Капитанская дочка?
Помню, как известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди, желая озадачить нас, желторотых первокурсников филологического факультета МГУ, на первой же лекции по Пушкину поднялся на трибуну и с вызовом обратился к аудитории: «Ну как вы считаете: Пугачев – патриот?» – «Патриот!» – раздалось несколько нестройных голосов. «А капитан Миронов патриот?» – «Патриот!» – «Ну теперь объясните мне, почему один патриот повесил другого патриота?..» Вопрос этот не случаен.
Толкование истории как процесса, развивающегося по какому-либо «ведомственному» руслу – классовому, групповому, партийному, сектантскому – опасно тем, что упрощает смысл человеческого бытия. Его носители высокомерно полагают, что для избавления от бед есть простые и эффективные пути, чаще всего насильственного свойства, вступают на них без сомнений и тем cамым быстро увеличивают количество бед и несчастий, от которых мечтали вроде бы избавить мир. Именно о носителях таких взглядов с горьким чувством сказал в свое время Пушкин: «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».
Цельность взгляда на мир была для Пушкина неразрывно связана с красотой сего мира. Пушкин, конечно, понимал, что, допустим, Петр I – не меньший тиран, нежели все другие, что его указы написаны кнутом крепостника, что Петербург построен на народных костях, что под копытами Медного Кентавра погиб не один Евгений, а много ему подобных. И тем не менее, подводя окончательный исторический итог деятельности Петра, преодолевая соблазны осуждения или оправдания, с той или иной частной точки зрения, поэт создает облик героя как бы с точки зрения вечной, утверждающей то, что «красота спасет мир».
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
– За дело, с Богом! – Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
Проходит время, и, любуясь сокровищами Грановитой палаты либо египетскими пирамидами, мы не мучим свою совесть вопросом: а чего это стоило? Мы просто любуемся ими.
Потому-то у Пушкина прекрасно все, что касается Петра: «и царский пир его прекрасен», и прекрасен город, возведенный им с «однообразной красивостью пехотных ратей и коней», прекрасен и памятник герою Полтавы:
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
Но в обоих отрывках – из «Полтавы» и «Медного Всадника» – рядом со словом «прекрасен», как близнец, стоит слово «ужасен». Даже в этом, словно в капле воды, отразилась пушкинская воля к изображению цельности мира, роковой взаимосвязи свободы и тирании, личности и государства, гуманизма и экстремизма. Пуританское осуждение истории с позиции пользы или злобы дня не для Пушкина. Он скорее как бы наслаждается, восхищается, поражается тайной взаимосвязью внешне враждующих исторических сил, и на наших глазах происходит нечто подобное чуду, когда человеческий гений изящным художественным усилием постигает импульсы мировой истории. «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Под пером Пушкина история ведет себя словно булат под ударами тяжкого молота: не разлетается вдребезги, а становится текучей, ковкой и принимает единственно необходимые формы, выражающие ее сущность. Разве это не урок для нашего сознания, упрямо желающего сегодня постичь исторические события лишь в одной выгодной для нас ипостаси, когда злоба прошедшего дня лишь на время опровергается злобой дня настоящего…
«Красота спасет мир». Инстинкт Красоты всегда спасал Пушкина от соблазна выбрать какой-либо простой и удобный, понятный для общественного мнения вариант объяснения истории. Он никогда ради красоты и истины не хотел и не умел потрафлять вкусам моды, желаниям толпы, диктату сильных мира сего. Недаром, когда его философия истории окончательно сформировалась, и сознавая, что ее глубина – глубина «Медного Всадника» и «Бориса Годунова»– не по плечу общественному мнению, окружавшему его, сознавая, что его не поймут – и что это неизбежно, Пушкин в 1829 году писал в набросках предисловия к «Борису Годунову»: «Я выступаю перед публикой, изменив свою раннюю манеру. Не имея более надобности заботиться о прославлении неизвестного имени и первой своей молодости, я уже не смею надеяться на снисхождение, с которым был принят доселе. Я уже не ищу благосклонной улыбки моды. Добровольно выхожу я из ряда ее любимцев…»Для такого шага необходимо мужество. Мужество это может быть рождено лишь любовью к истине. И вот этот завет Пушкина – служить Истине и Красоте, а не моде, стоическая способность к устранению ее из своей жизни – остается вечным уроком для русских поэтов.
* * *
На заре своей молодости юный Пушкин, написав стихотворение по одному внешне незначительному поводу, обмолвился формулой, которая неожиданно стала путеводной звездой для всей русской поэзии:
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой:
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа…
«Тайная свобода»… О ней на закате своей жизни вспомнил Александр Блок, обращаясь в своем поэтическом завещании к тени Пушкина:
Пушкин, тайную свободу
Мы воспели вслед тебе:
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе…
«Немая» борьба Александра Блока в конце его жизни была борьбой за свободу творчества, за независимость художника от воспаленных клановых, классовых, кастовых агрессивных страстей, которые, по убеждению поэта, будучи естественными в своем начале, очень скоро становятся новыми догмами, мешающими творцу осуществить главное дело жизни.
Это была борьба за цельного человека, за цельное художественное понимание мира. И знаменательно, что это понимание Александр Блок выразил в своей пророческой речи о Пушкине:
«Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех слухов; скорее добытая им гармония производит отбор между ними, с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония; никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэта».
Богатство, цельность, гармоничность, таинственность пушкинского мира, собственно, и были главной причиной того, что в разные периоды нашей истории всяческие разрушительные силы объявляли ему войну, ибо этот мир никак не вписывался в их узкое и всегда ущербное понимание жизни.
Очередной (после нападок нарождающейся буржуазной журналистики в лице Булгарина, Греча, Сенковского) натиск пушкинскому наследию пришлось выдержать со стороны нигилистов-шестидесятников, наиболее ярким и талантливым идеологом которых был публицист Д. Писарев. «Польза», «прагматизм», «ближайшие социальные задачи»– вот что было написано на знаменах этого яркого, но культурно неполноценного поколения. Однако его «архиреволюционность» не выдержала творческого спора с гигантами русской художественной мысли – Достоевским, Тургеневым, Тютчевым, Львом Толстым, которые и в практике, и в теории продолжили и укрепили пушкинскую традицию. Венцом этой борьбы стала речь Федора Михайловича Достоевского, произнесенная им в год открытия памятника Пушкину в Москве. Достоевский высмеял прагматиков, утверждавших, что Пушкин – апологет чистого искусства, и, заглянув в будущее, объединил явление Пушкина со всемирно-историческим предназначением всей грядущей русской истории: «Не было поэта с такой всемирной отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов… Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо… тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила».
Речь эта как бы подытожила поражение волны «антипушкинских сил» середины прошлого века. Но прошло всего несколько десятилетий – и следующая волна цивилизованного варварства обрушилась на, казалось бы, надежно защищенное всей русской классикой наследие Пушкина.
«Сбросим Пушкина с парохода современности»– таков был расхожий лозунг многих «революционеров от культуры» в начале нашего века. Поэзия все более и более теряла свою цельность, дробилась на узкие кастовые агрессивные течения – футуристов, акмеистов, символистов, скоропалительно теряя при этом общенародные черты и неуютно чувствуя себя рядом с материком пушкинской культуры. Да и писателям, близким социал-демократии, также не хватало понимания пушкинской широты. Но ниспровергатели гения добились лишь того, что сейчас, листая газеты и журналы тех времен с лихими выпадами против Пушкина и мировой культуры, мы вспоминаем лишь его слова, как будто специально оставленные им потомству для подобных случаев: «Легче превзойти гениев в забвении всех приличий, нежели в поэтическом достоинстве».
В конце концов нигилистическую перчатку, брошенную эпохой Пушкину, поднял духовный потомок Пушкина Александр Блок и, подобно Достоевскому, через сорок лет после того произнес в защиту пушкинского мира столь же бессмертную речь «О назначении поэта». И в те же годы новый гений России Сергей Есенин тоже, как бы становясь поперек волны антикультурного агрессивного варварства, демонстративно обращается к Пушкину:
Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре
И говорю с самим собой…
Слова «того, кто русской стал судьбой…» были сказаны как нельзя вовремя, потому что самые тяжелые для пушкинского мира испытания еще едва брезжили в мутной дымке грядущих лет…
Почти в одно время с Блоком поэт Владислав Ходасевич, предвидя эти времена, написал статью о творчестве Пушкина, которую назвал «Колеблемый треножник». Название статьи Ходасевич взял из пушкинского сонета. Напомню, что в нем Пушкин отстаивает великое право художника на «тайную свободу» творчества, не требующего никаких наград и почестей от внешнего мира, ибо эти награды –
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.
Ходасевич, с угрюмой тревогой вглядываясь в будущее, полное разрухи, кровопролитий, социальных страстей, разрушения культуры, серьезно опасался, что пушкинскому миру, из какого бы прочного, казалось, материала он ни сделан, тем не менее грозят неотвратимые беды, и выстоит ли этот мир под напором социальных стихий, для Ходасевича, в отличие от Блока, было неясно. Он был уверен в том, что ближайшее историческое будущее затянуто темными тучами, неблагоприятными ни для Пушкина, ни для всей культуры.
И дело было не в том, что узкоклассовый, вульгарный подход безмерно умалял величие и значение пушкинского творчества. А это упрощение Пушкина было узаконенным в двадцатые – тридцатые годы: даже такой образованный человек, как нарком просвещения А.Луначарский, в своих статьях всячески втискивал Пушкина в вульгарно-классовое прокрустово ложе: «Пушкин не покинул до конца аристократических позиций», «переход с барских позиций на буржуазные», «Пушкин… поднимается, в сущности, до гегелевской постановки вопроса…». Но это еще, как говорится, полбеды. Не такие бури пролетели над пушкинским миром! Вся беда в том, что ни Ходасевич, ни Блок, ни Есенин, предвидя одичание культуры, цензурные козни нарождающейся чиновничьей бюрократии, несовпадение высокого духовного импульса пушкинской поэзии с узкосоциальной идеологией времени, не предвидели одного: что в ближайшие годы будет осуществлена попытка буквального разрушения пушкинского мира, его материальных форм, попытка полного пересмотра русской истории, служившей фундаментом всему пушкинскому творчеству…
Дело в том, что к концу двадцатых годов в нашей идеологической системе сформировались антинациональные силы, создавшие концепцию, по которой за все многовековые грехи феодально-самодержавного, крепостнического периода нашей истории предъявлялся политический и идеологический счет русскому народу и русской культуре.
Они как бы объявлялись ответственными за все несовершенство минувшего тысячелетия. Эта антирусская, антинациональная в своих крайних формах идеология оправдывала жестокие репрессии по отношению к русскому крестьянству как к реакционному классу, оправдывала разрушение великих памятников русской культуры и истории, якобы обслуживавших идеологию самодержавия, объявляла русский национальный характер консервативным, бездеятельным, неспособным к строительству нового общества. Вот, к примеру, какую программу культурного строительства развертывала перед читателем наша массовая пресса того времени:
«Пора убрать исторический мусор с площадей. В этой области у нас накопилось немало курьезов. Еще в прошлом году в Киеве стоял (а может быть, скорее всего и по сей день стоит) чугунный «святой» князь Владимир.
В Москве напротив Мавзолея Ленина и не думают убираться восвояси «гражданин Минин и князь Пожарский» – представители боярско-торгового союза, заключенного 318 лет тому назад на предмет удушенья крестьянской войны. Скажут: мелочь, пустяки, ничему не мешают эти куклы, однако почему-то всякая революция при всем том, что у нее были дела поважнее, всегда начинается с разрушения памятников. Это вопрос революционной символики, и ее надо строить планово, рационально. Уцелел ряд монументов, при идеологической одиозности не имеющих никакой художественной ценности или вовсе безобразных – ложно классический мартосовский «Минин – Пожарский», микешинская тумба Екатерина II, немало других истуканов, уцелевших по лицу СССР (если не ошибаюсь, в Новгороде как ни в чем не бывало стоит художественный и политически оскорбительный микешинский же памятник 1000-летие России) – все эти тонны цветного и черного металла давно просятся в утильсырье. Если сама площадь «требует» монумента, то почему бы с фальконетовского Петра I не сцарапать надпись «Петру Первому – Екатерина Вторая», и останется безобидно украшающий плац никому не известный стереотипный «Римский Всадник» и т. д. Улицы, площади – не музеи, они должны быть всецело нашими».
Это отрывок из статьи известного литературного критика тех времен В. Блюма, опубликованной в газете «Вечерняя Москва» в 1930 году.
Обратим внимание, что в своем призыве к тотальному разрушению памятников русской истории и культуры нигилист тридцатых годов, в сущности, покушается на наследие Пушкина. Ведь все монументы и реалии, недостойные, по его мнению, существования в новую эру, – это герои пушкинского мира. Владимир Святой, отождествляющийся в русском былинном эпосе с Владимиром Красное Солнышко, – персонаж из «Руслана и Людмилы»; на фоне имен Минина и Пожарского развивается действие «Бориса Годунова», вспомним мысль Пушкина о том, что «имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные»; «микешинская тумба» Екатерина II – действующее лицо «Капитанской дочки»; ну а о «Медном Всаднике» и говорить нечего… Словом, покушаясь на русскую историю, экстремист тридцатых годов покушался на Пушкина так, как еще никто не покушался на него. Скепсис современников в конце жизни поэта, критика Писарева, невежественные призывы футуристов или догматические рассуждения Луначарского рядом с этой тотальной программой выглядят безобидным детским лепетом.
Но ирония судьбы заключалась в том, что все усилия нигилизма двадцатых – тридцатых годов с первых же шагов его были тщетными, потому что русская культура и пушкинский мир уже давно преобразовались из форм материальной жизни в духовные формы, уничтожить которые практически невозможно ввиду их неуязвимости. Ну какой смысл в том, чтобы «стереть надпись с «Медного Всадника»? Ведь все равно, написав свою великую поэму, вошедшую в сердца и души нескольких поколений, Пушкин как бы выдал вечную «охранную грамоту» и Петербургу, и монументу Петра – и, всем своим творчеством, многим другим узловым моментам русской истории! Чиновные моралисты, «неистовые ревнители», вульгарные социологи той эпохи забывали о том, что уже несколько поколений русских людей выросли в мире Пушкина, что уже с первых уроков в какой-нибудь самой захудалой церковноприходской или земской школе в душу ребенка на всю жизнь западали и «Лукоморье», и «Сказка о рыбаке и рыбке», и «Буря мглою небо кроет…». Пока в течение столетия над бронзовой головой поэта проносились социальные страсти, споры, дискуссии, народ медленно и неустанно, как бескрайнее поле влагу, впитывал пушкинские мысли и чувства, пушкинскую музыку, пушкинский дух. Вот почему антипушкинские силы всегда были обречены на поражение и забвение. Пушкин спасал русскую историю, а самого Пушкина – не задумываясь об этом, безотчетно и естественно спасал народ, уже не мысливший без Пушкина своего существования. Поэтому кто бы ни говорил о Пушкине – Гоголь, Белинский, Достоевский, Блок, Есенин – никто из них не обходится без эпитета «русский». Именно с этим эпитетом рифмуется по мысли и другой не менее важный: «всемирный», «всечеловеческий». На примере Пушкина, как под увеличительным стеклом, просматривается суть мирового закона, подразумевающего, что лишь только тот гений, кто до предела разовьет свое национальное начало, свое национальное понимание жизни, достоин того, чтобы встать в ряды всемирно известных имен. Ибо в мировую семью принимают только тех, кто входит в нее не с пустыми руками, а со своим национальным вкладом. А потому волна разрушений, хулы, надругательств разбилась о пушкинские твердыни и откатилась вспять. Мир русской истории, сохраненный его десницей и его волей, словно «град Гвидона», вновь восстал из пучин и хлябей, ибо он уже окончательно вошел в сферу духа.
И это, может быть, для нашего времени важнейший итог полуторастолетия, прошедшего со дня смерти Пушкина. Но как бы ни был велик пушкинский мир, он не может существовать сам по себе, без читательской души, без души общенародной, отзывающейся на его призывы. Пушкин не может быть элитарен. Слово его по-прежнему непрестанно отстаивает человеческую душу, «тайную свободу», которую обязан ощущать в себе не только творец, но и каждый человек, если он хочет оставаться не механической песчинкой общества потребления, но личностью с «Божьей искрой», как говорили в старину.
Что такое духовность? Современная молодежь, часто сбитая с толку поверхностными рассуждениями журналистов и социологов, то и дело приравнивает ее к культурному досугу. Если, мол, мы ходим в кино (а что мы там смотрим – не имеет значения!), если мы имеем доступ к видеомагнитофону, слушаем рок-музыку, знаем имена кумиров маскульта, то тем самым мы живем духовной жизнью. А как же иначе? Но духовная жизнь – не культурное времяпрепровождение, а неустанная, напряженная работа над самим собой, над своей душой, созидание самого себя, расширение своего мира…
А бегство от мучительных процессов душеобразования к внешнему миру, к заполнению своей внутренней пустоты внешними раздражителями и внешними интересами – есть бегство от духовной жизни к стадности, к омертвению, к внешнекультурному безликому стандарту. Это – антипушкинский путь…
Не счесть уроков Пушкина, которые нам еще предстоит усвоить…
Незадолго до смерти Пушкин оставил нам несколько мыслей, без понимания которых невозможно понять многое из политики, культуры, истории сегодняшнего времени. Так, к примеру, читая многие мемуарные книги современников, как не вспомнить пушкинскую характеристику французской литературы двадцатых годов прошлого века:
«Мы не остановились на бесстыдных записках Генриетты Вильсон, Казановы… Журналы наполнились выписками из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновенья для романа, исполненного огня и грязи» («О записках палача Самсона»).
А тот, кто размышляет о роли Соединенных Штатов Америки в нынешнем мире, конечно же оценит проницательность Пушкина, писавшего почти 170 лет назад:
«…С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве» («Джон Теннер»).
* * *
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной глубине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая душу мне…
Обратите внимание на это слово – «мне». Пушкин, как всякий гений, ощущал присутствие в мире злой воли, бесовщины, великого «инквизиторства», но, сталкиваясь с темной стихией, он никогда не впадал в душевную панику, в соблазн тут же освободиться от этого мучительного знания, в «художественную» истерию.
Нет, он мужественно брал «на себя» тьму мира, как бы фильтруя ее собственной душой, проделывал огромную работу в поисках иных сил, побеждающих или нейтрализующих тьму.
И лишь услышав в хаосе мировой метели светлые голоса, увидев, что в результате его усилий вспыхивает колеблющийся зыбкий отблеск идеала, на который может, не сбиваясь с пути, двигаться человек, Пушкин решался выпустить в читательское море тех, кого он называл «питомцы давние, плоды мечты моей». Пушкин обладал духовной силой, позволяющей ему брать «на себя» напор всей бездуховной, темной мировой нечисти. Он не перекладывал эту работу на плечи читателей, простых людей, «слабых мира сего» и этим отличается от современных кумиров массовой культуры, которые, наоборот, концентрируют в себе всю бесовщину мира, чтобы выплеснуть ее на мятущуюся, потерявшую ориентиры добра и красоты душу сегодняшнего «маленького человека», бедного Евгения… И как тут не вспомнить евангельскую истину: горе тому, кто соблазнит малых сих… А ведь в своей коллективной ипостаси души простых людей образуют ту мировую или народную душу, «аукаться» с которой необходимо творцу. Когда-то Александр Блок в речи о Пушкине говорил о том, что «любезные чиновники» уже находят способ замутить гармоническую стихию в душе поэта. Сегодня дело зашло еще дальше: выискиваются и находятся способы замутить «мировую душу», чтобы в грядущем душе поэта не с кем было перекликнуться в бездуховной пустыне, чтобы она была отрезана от мировой стихии, чтобы ее «божественный глагол» не мог бы достучаться до человека. А потому поможем Пушкину, Блоку, искусству вообще. Оправдаем надежды великих на нас, малых. Надо томиться духовной жаждой, ощущать ее как нечто неповторимое, личное, чтобы выстрадать рождение души… Вот еще какая громадная цель возникает перед нами сегодня, цель эта связана и со всемирными заботами человечества, потому что «темная власть барыша» в нашу эру – дело всемирное. Но эта цель связана и с нашими национальными заботами, ибо пророчество Гоголя о том, что Пушкин – «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет», имеет сроки: оно явлено миру в 1832 году, а значит, в нашем распоряжении еще есть 33 года. Так постараемся же оправдать пушкинские и гоголевские надежды, а осуществим их только тогда, когда вспомним, чьи мы наследники, когда поймем, что томление духовной жаждой – может быть, единственный путь для спасения человечества от «темной власти барыша» и от «всемирной пошлости безбожной».
С. Куняев