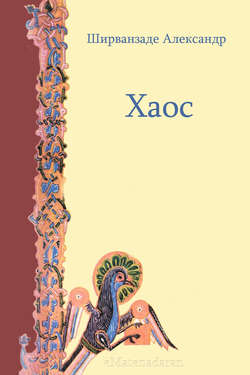Читать книгу Хаос - Александр Ширванзаде - Страница 3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
3
ОглавлениеСидя в отцовском кабинете, Смбат приводил в порядок дела покойного.
На столе множество бумаг – договоров, счетов, векселей Знакомясь с делами отца, Смбат размышлял о том положении, которое предстоит ему занять в совершенно новом, незнакомом коммерческом мире. Однако сосредоточиться на этом ему не удавалось, – нечто, другое властно теснило мысли. Мужественное лицо его то морщилось в горькой улыбке, то разглаживалось.
Посреди стола перед ним стояла фотография, прислоненная к чернильнице. Вот они, дорогие существа, на долгие годы оторвавшие Смбата от родного гнезда и навлекшие на него отцовское проклятье. Ужасная дилемма: он ненавидит жену, но любит детей. Прошло всего пятнадцать дней как Смбат расстался с этими бесконечно милыми ему существами, а сколько тоски, горечи, скорби! Он никогда еще так сильно не любил своих детей, никогда! И вот хотят заставить его расстаться с ними, расстаться навсегда, во имя каких-то вздорных законов, каких-то диких предрассудков! Да разве можно вырвать сердце из груди, разлучить душу смелом и… все-таки жить!
Нет, нет! Он не любит жену и давным-давно убедился, что никогда не любил и не был любим. Произошла роковая ошибка, оплошность, которую он допустил, не разобравшись в своих чувствах, – ошибка, обычная для многих в юности. А когда он понял свою ошибку, было уже поздно, слишком поздно. Что же, разве Смбат, как честный человек, не должен был связать себя законным браком с чистой, непорочной дочерью порядочных родителей, которую соблазнил в минуту увлечения? Наконец, неужели он должен был выкинуть на улицу беспомощное милое существо, которому сам дал жизнь – родное дитя? Зачем, в силу какого морального права? И вот он женился, пожертвовал ради элементарной порядочности темными предрассудками и отжившими традициями родителей, за что был изгнан из отчего Дома и заслужил родительское проклятие…
Теперь он снова у родного очага, но проклятие все же тяготеет над ним. Примириться или же, вырвав собственное сердце, освободиться от проклятия? А потом? Неужели тогда не нависнет над ним еще более жестокое, чудовищное проклятие – вечное проклятие невинных детей? Нет, нет! Он может ненавидеть ту, которую, как ему казалось, когда-то любил, а теперь ненавидит, – но как разлучиться с родными детьми, когда даже хищное животное не покидает своих детенышей? Не легче ли перенести проклятие упрямого и темного отца, насмешки и презрение сородичей, чем стать бесчестным, бессердечным родителем и носить в груди черную змею, а на совести – тяжелый камень?
Смбат снова взял со стола заветную фотографию и прижал к губам, не замечая, что мать неслышно подходит к нему.
Вдова на минуту остановилась за спиной сына. Тронутая зрелищем, она грустно покачала головой. Но это мимолетное чувство тотчас сменилось другим, более сильным; бескровные губы Воскехат дрогнули, и из груди ее вырвался тяжелый вздох.
– Твои дети? – спросила она, положив руку на плечо сына.
Смбат вздрогнул, поднял голову и посмотрел на мать, одетую с головы до ног в черное.
– Скажи, это твои дети? – переспросила вдова.
– Да, мама, мои кровные дети, – ответил Смбат, ставя фотографию на место.
– Нет, сын мой, не кровные они, нет!
– Мама! – произнес Смбат укоризненно.
– Да, да, они от тебя, но не твои!
– Мама, не говори так, у тебя тоже есть дети, которых ты любишь.
– Да, любила и люблю. Но послушай, сынок…
Вдова уселась против сына, сложила руки на груди и направила на него взгляд, полный участия. Взгляд этот „ слегка смутил Смбата, в сердце его закралась какая-то неприязнь к матери. Ему показалось, что перед ним не любящая мать, а неумолимый судья.
– Сын мой – продолжала вдова, озабоченно вздыхая, – довольно тебе позорить себя, родителей и всю семью. Ты с детства был умницей. Отец твой знал это, потому и передал тебе свои дела. Неужели ты не понимаешь, что поведение твое противно обычаям наших отцов, дедов иконам нашей святой церкви? Две недели назад отец твой задел вот тут, на этом месте. Бедняжка! Никогда он не был так озабочен и грустен.
«Воскехат, – сказал он, – мне снилось, что я скоро умру, как быть с Смбатом? Не хочется умирать не помирившись». И он горько заплакал. Потом положил руку мне на плечо и заставил поклясться прахом родителей моих, жизнью детей и брата, что я буду молить тебя образумиться. В завещании написано мало, но он говорил много об этом. День и ночь только о тебе, и только о тебе шла речь.
И вдова черным шелковым платком утерла слезы. – Матушка, значит, ты хочешь, чтобы я своих собственных детей вышвырнул на улицу, как лишнюю обузу? – молвил Смбат, с трудом сдерживая гнев.
– Боже упаси, сынок! Зачем бросать? Отец твой мечтал только об одном: чтобы ты иноплеменницу и детей лишил своего имени. Пусть живут как хотят. Слава создателю, покойный оставил такое состояние, что ты можешь обеспечить на всю жизнь и жену и детей. Пусть им перепадет часть твоего наследства, бог с ними!
– Мать, я понял тебя, довольно, больше об этом ни слова! – возмущенно прервал Смбат.
Он встал и, заложив руки в карманы, подошел к окну. «Ни слова!» – но как же молчать матери, страдавшей за сына целых восемь лет, матери, на которую была возложена исстрадавшимся отцом священная обязанность – помочь сыну ступить на верный путь? Как же было не говорить ей, когда над любимым сыном нависло отцовское проклятье? И Воскехат продолжала говорить. Она описывала свои терзания, муки отца, упреки родни и друзей, молчаливое презрение знакомых, проклятия соотечественников и церкви…
Смбат слушал молча, взволнованно шагая по комнате. Когда мать облегчила сердце, он, схватившись за голову, горестно застонал:
Матушка, ты отвела душу, теперь оставь меня одного. Я обдумаю, как мне поступить.
– Но ты сегодня же, не так ли, сегодня должен это решить! – упорствовала вдова.
Вошел Срафион Гаспарыч и стал успокаивать сестру. Еще не время решать эту тяжелую задачу. Пусть пройдут Дни траура, а после он сам переговорит с Смбатом, объяснит ему все обстоятельства и убедит исполнить последнюю волю родителя. А сегодня надо принять главу епархии, он выразил желание «лично утешить скорбящего».
– Владыка просил передать, чтоб ты ожидал его, – обратился Срафион Гаспарыч к племяннику.
И действительно, час спустя слуга доложил, что епископ уже выходит из кареты.
Прибытие его преосвященства было обставлено довольно торжественно. Он шествовал в сопровождении молодого архимандрита, всех городских священников и двух ктиторов, как бы желая показать все величие своего сана. Два соперника – краснолицый, крепкий, чернобородый отец Симон и сухопарый, в очках, отец Ашот, подхватив под руки владыку, бережно помогали ему подыматься по устланной коврами лестнице. Епископу было пятьдесят лет. Среднего роста, он был кругленький, тучный как хорошо откормленный боровок. С его мясистого, широкого лица ниспадала длинная, густая борода пепельного оттенка, закрывавшая ему грудь, словно два расправленных орлиных крыла. Из-под блестящего шелкового клобука виднелась пара очень бойких глаз с припухшими красными веками, частично скрытыми под густо разросшимися длинными бровями. По обеим сторонам его толстого носа, с жесткими волосками на кончике, возвышались две синеватые припухлости, заменявшие, ему щеки, – единственные места на лице, где не было волос. На грудь владыки спускалась массивная золотая цепь с большим крестом, осыпанным брильянтами.
Пока епископ с важной медлительностью подымался, постукивая о ступени посохом, его беспокойно бегающие глаза изучали обстановку богатой прихожей. У последней ступени Смбат припал к его волосатой с синими прожилками руке.
Епископ тяжело вздохнул и перевел дух, мысленно проклиная свое толстое брюхо. Но пусть окружающие думают, что этот вздох – выражение глубокого соболезнования осиротевшей родне.
Торжественное шествие, возглавляемое владыкой и замыкавшееся священником в коротенькой рясе цвета лягушки, направилось к гостиной в сопровождении Смбата и Срафиона Гаспарыча. Тут его преосвященство ожидали вдова Воскехат, Марта и несколько пожилых женщин. Все приложились к руке епископа и удостоились его благословения. Отец Симон и отец Ашот усадили владыку в кресло, битое бархатом; он утонул в нем до остроконечной верхушки своего клобука, как литая бомба в клубах ваты.
– Его святейшество патриарх и католикос всех армян, – начал епископ, торжественно отчеканивая слова, – соблаговолил прислать кондак с благословением вашему степенству, высокочтимый Смбат Алимян. Я явился, чтобы вручить вам сие святое послание и со своей стороны также, отечески паки и паки воздать благодарность доброй памяти усопшего, а также благословить вас за пожертвования приснопамятного родителя вашего на процветание церкви и на нужды народные.
И, вынув из-за пазухи огромный пакет, владыка высоко поднял его со словами:
– Прочтите, отцы!
Отец Симон и отец Ашот одновременно потянулись к пакету. Отец Ашот, более ловкий, чем его противник, успел перехватить кондак.
– Отец Симон, читай лучше ты, у тебя голос покрепче, – велел владыка.
Отец Ашот, кусая губы, передал пакет своему противнику.
Отец Симон начал читать. Вдова заплакала, за нею последовали другие старухи, хотя ровно ничего не понимали из того, что читалось.
– Сей благословенный дом достоин патриаршего благословения, – изрек епископ по прочтении кондака и собственноручно передал его Смбату. – Не плачьте, сестры, а возрадуйтесь, ибо отныне десница царя небесного пребудет над сим семейством. Да примет всевышний душу покойного в сонм святых и пророков!
При этих словах владыка благоговейно возвел очи. Но тут взгляд его остановился на огромной золоченой бронзовой люстре, спускавшейся с потолка. «Любопытно знать, сколько она стоит?» – промелькнуло в его голове.
Потом он заговорил об эчмиадзинском монастыре, посоветовав вдове Воскехат посетить святую обитель к предстоящему празднику мироварения, добавив, что и сам будет там, чтобы помолиться за паству своей епархии и принести его святейшеству, католикосу, уверения в преданности этой паствы заветам родной апостольской Церкви.
– Грех на моей душе, владыка, великий грех против нашей святой веры, не могу я с чистым сердцем ехать в Эчмиадзин, – проговорила вдова, бросив многозначительный взгляд на окружающих.
Епископ знал семейные обстоятельства Алимянов. Поэтому, поняв намек вдовы, обратился к сопровождавшим его духовным лицам:
– Отцы, и ты, отче архимандрит, пройдите в другую комнату.
Приказ был немедленно исполнен, и в гостиной остались, кроме епископа и Воскехат, Смбат и Срафион Гаспарыч.
Первой начала вдова:
– Да, великий грех тяготеет над домом Алимянов, и пока не будет он искуплен, никто из нашей семьи не посмеет считать себя подлинным правоверным армянином.
Смбат предчувствовал, о чем будет говорить мать с епископом, а потому заранее решил вооружиться хладнокровием, чтобы не огорчить ее каким-нибудь резким возражением.
Вдова вкратце рассказала все то, что уже было известно епископу: говорила она взволнованно, то и дело прижимая к глазам черный шелковый платок.
– Сын мой не повинен, нет, нет, – заключила она. – Он был молод, его совратили и впутали в беду…
Наивная женщина! Она все еще думала, что ошибку сына можно легко исправить, – стоит лишь ему этого захотеть… Она думала, что только тот брак свят и нерасторжим, который связывает двух единоплеменников и единоверцев, и что только дети, родившиеся от такого брака, могут считаться законными и достойными любви.
Епископ чувствовал себя в затруднительном положении. От него требовалось, чтобы он убедил Смбата нарушить обет, порвать с женой и бросить детей. Как заставить человека с твердыми взглядами, с университетским образованием решиться на такой шаг, какими словами и доводами подействовать на него?
У его преосвященства участилось дыхание, он вспотел под тяжестью навалившейся на его тучные плечи непосильной обузы. Но все же он заговорил – заговорил об историческом и политическом значении родной церкви, описал гонения ею перенесенные, доказывал необходимость любви и преданности религии для «сохранности нации», но, не дойдя до сути дела, устремил взгляд на бронзовую люстру и замолчал.
Вдова Воскехат тяжело вздохнула, чувствуя, что вопрос гораздо сложнее, чем ей казалось, и вновь прибегла к своему обычному оружию – просьбам и слезам.
– Сними, сынок, с себя отцовское проклятие, избавь себя и нас от напасти! – твердила она в сотый раз одно и то же.
Для Смбата все это было тяжелым испытанием, которое, если бы продолжалось, могло стать непосильным. Он кусал губы, чтобы сдержать крик, чтобы не оскорбить в присутствии епископа мать лишним словом.
– Владыка, – заговорил он наконец, – благоволите убедить мою мать, что не человек, а чудовище тот, кто способен выбросить родных детей на, улицу. Я любил отца, люблю мать, но как могу я во имя этой любви пожертвовать детьми? Владыка, каждый человек сам отвечает за свои поступки и на этом и на том свете. Если мой шаг – преступление против моего народа, против религии и родины, то я, и только я, должен нести наказание. Проклятие отца я постараюсь снять с себя как-нибудь иначе; я постараюсь быть безупречно честным в отношении семьи, ближних, но покинуть детей – никогда, никогда!..
– А коли так, – возьми детей, а жену брось! – не выдержала Воскехат.
– Бросить мать детей?! – вскричал Смбат, не в силах более сдержать себя. – Что бы ты сделала, если бы у тебя отняли детей? Нет, владыка, ваше вмешательство ни к чему не приведет. Я не могу исполнить требование матери!
При этих словах он встал, давая понять, что не желает более об этом говорить.
Епископу было приятно, что вопрос не усложняется и что он может теперь свободно вздохнуть. Выбрав удобную минуту, владыка тоже поднялся и прочитал молитву, давая понять находившимся в соседней комнате, что беседа на щекотливую тему окончена.
Епископ получил плату «за допущение к его руке» и отбыл с той же торжественностью, с какой прибыл.
Вдова плакала, Срафион Гаспарыч ее утешал.
Четверть часа спустя Смбат снова прошел в отцовский кабинет. Хотя он и был огорчен, но все же чувствовал в душе облегчение. Первая буря, ожидаемая им ежеминутно после похорон отца, оказалась не столь уж сильной. Смбат сумел противодействовать матери. Теперь ему уже не трудно будет намекнуть на близкий приезд из Москвы жены и детей. Вдова, разумеется, вознегодует, заплачет, будет упрашивать, но это не беда, мало-помалу свыкнется с мыслью о неизбежной встрече с невесткой. Ну, а дальше? Неужели вопрос решен? О нет, нет, не в этом суть: примирится ли он сам, Смбат, со своим положением, если даже предаст забвению отцовское проклятие?
Он не мог более заниматься делом, начал собирать бумаги. Вошел слуга и доложил, что уста Барсег хочет видеть хозяина.
– Кто такой Барсег? – Один из ваших арендаторов. – Пусть войдет.
Посетитель оказался тем самым рыжеволосым человеком, который на поминках подошел к «адвокату» Мухану и попросил его зайти к нему вечером. Он остановился у дверей, сложил руки на груди и отвесил низкий поклон, затем, воровато озираясь, подошел к Смбату и с льстивой улыбкой протянул ему руку. С первого же взгляда вид и ухватки этого человека произвели на Смбата отталкивающее впечатление. – Что вам угодно?
– Доброго здоровья вашей милости, Смбат-бек, – раздался в ответ глухой голос уста Барсега. – У вас дело ко мне? – Маленький счетец, Смбат-бек. – Присядьте.
Гость поклонился, но не сел.
– Ваша милость, как вижу, изволили забыть меня, – заторопился он, устремив стеклянные глаза на хозяина. – Оно, конечно, дорогой ага, столько лет прошло… Только мы вашу милость помним. Во какой был ты, – продолжал гость, держа руку на аршин от полу, – маленький-маленький. А потом подрос еще малость и уехал в Москву. Сохрани тебя господь, теперь ты уже мужчина, да еще какой!.. Как поживаешь, дорогой ага?
– Спасибо. Вы сказали, что у вас есть счет, что это за счет?
Барсег сделал вид, будто не расслышал, и продолжал по-прежнему:
– Бывало, приходил ты ко мне в лавку и бубенчики спрашивал – кошке на шею. Вот под этой самой комнатой наша лавка, миленький, топнешь – и прямо в голове слуги твоего отзовется.
– Вспоминаю, вспоминаю, – нетерпеливо прервал его Смбат, – вы – уста2 Барсег, серебряных дел мастер… Скажите, что у вас за счет, уста Барсег?
– Пришел ты как-то ко мне: «Сделай удочку, уста Барсег, рыбу ловить». – «Со всем нашим удовольствием, говорю, сделаю, голубчик ты мой». Засел я, провозился целый день, смастерил хороший серебряный крючок и подарил тебе. Ну и обрадовался же ты, миленький…
– Уста-Барсег, вы про какой-то счет говорили…
– На другой день ты прибежал опять: уста Барсег, говорят, мол, серебро фальшивое. Уж и не знаю, кому это нужно было сказать, что уста Барсег фальшивое серебро за настоящее выдает… Помнишь?
– Что у вас за счет, уста Барсег? – воскликнул Смбат раздраженно.
– Счетец? – небрежно переспросил гость. – Да, заговорился и забыл о нем. Счетец, Смбат-бек, на имя Микаэла Маркича… Счетец, голубчик ты мой, маленький, очень маленький… Но Микаэл Маркич все тянет… Вот уже три дня просим-молим… не оплачивает…
– Не оплачивает? Значит, он вам должен?
– Именно должен, голубчик ты мой. Ежели не отдаст, конечно, помолчим, но ведь он должен по векселю…
– По векселю?
– Чисто… На предъявителя!
– Сумма?
– Для вашей милости – сущие пустяки, цена костюмчика, вечерок в компании. Для нас же, голышей, целая казна, Царство, сад Гарун аль Рашида, ха-ха-ха!..
Смех этот был до того сух и неприятен, что Смбат почувствовал невольное омерзение. Однако он уже был заинтригован словами посетителя.
– А ну-ка, покажите вексель, – протянул Смбат руку.
Барсег, озираясь, вытащил из бокового кармана истертый бумажник. Из пачки каких-то бумаг осторожно извлек вексель, развернул и, держа крепко за уголки, поднес к глазам Смбата.
– Да, это подпись Микаэла, – подтвердил Смбат. – Вы не бойтесь, я не отниму, хочу только взглянуть на какую сумму.
Смбат изумился. Вексель был на семь тысяч рублей, – сумма, несомненно, превосходившая все состояние заимодавца.
– Уста Барсег, вы и теперь занимаетесь вашим ремеслом?
– Да, голубчик мой, как был ремесленником, так ремесленником и остался: постукиваем молоточком, – семью содержим, пятеро детей… Вот уже года два как шкафчик завели, разложили в нем кое-что из золота и серебра и тешимся, будто и мы чем-то торгуем…
– А может быть, Микаэл у вас золотые вещи брал?
– Нет, жизнью твоей клянусь, наличными. Клянусь драгоценной жизнью твоей, у детей изо рта вырывал – ему давал…
– Уста Барсег, вы ему ровно семь тысяч дали или меньше? – спросил Смбат, бросив проницательный взгляд на посетителя.
Уста Барсег смутился, но лишь на мгновенье. Тотчас овладев собой, он ответил улыбаясь:
– Конечно, голубчик ты мой, дал я немного меньше, но вся-то сумма семь тысяч серебром.
– Я вас прошу сказать, сколько вы дали наличными деньгами? Ведь вексель содержит и проценты?
– Проценты, понятное дело, а то как же без процентов… Но долг Микаэла Маркича – ровно семь тысяч рублей.
– Когда истекает срок?
– Срок? Да сегодня. Уже шестнадцать дней прошло, как помер Маркос-ага, царство ему небесное! Клянусь твоей жизнью, мы денно и нощно за него молились. Но что же поделаешь, – ни нам от смерти не уйти, ни смерть нас не забудет. Видно, так богу было угодно…
– Что вы хотите сказать, уста Барсег? Не пойму я вас.
Ясно как день, Микаэл-ага обещал уплатить спустя несколько дней поселе смерти отца.
Смбат вздрогнул. Он понял чудовищный поступок брата, делавшего ставку на смерть отца. Несомненно, этот Барсег, кровопийца-ростовщик, воспользовался стесненным положением расточительного молодого человека и ссудил деньги под чудовищные проценты, с обязательством уплаты тотчас после смерти старика. Но кто из них омерзительней – должник или кредитор?
– Ладно, – сказал Смбат, – повремените до завтра, я переговорю с братом, и после увидимся.
– Нет, нет, молю тебя! Микаэл Маркич не должен знать, что мы приходили к вашей милости. Упаси господи! Буйный он человек, убьет меня и пустит по миру моих детей…
– Ступайте! Приходите завтра – получите деньги.
– Да, голубчик ты мой, завтра покончим. Пятеро детей, старуха мать, сестры, братья, племянницы, племянники – целая орава у меня. По судам бегать неохота. Лучше по-хорошему, сам Христос так велел. Дай бог царство небесное Маркосу-аге, отменный был человек, очень нас любил, каждый день заходил ко мне в лавку. Мы тоже к услугам вашей милости под сенью вашей и живем. Прости за беспокойство, не сердись, голубчик, уходим без разговора, завтра явимся, просим прощенья…
И уста Барсег, пятясь к двери и отвешивая низкие поклоны, выкатился из комнаты.
В тот же вечер между Смбатом и Микаэлом произошло первое столкновение. Микаэл без стеснения сознался, что занял у Барсега всего одну тысячу, выдал же вексель на семь. Ничего другого не оставалось – нужны были деньги. Он поступил так же, как поступали многие дети скупых родителей. Не мог же он морить себя голодом, будучи сыном миллионера, когда его друзья тратили тысячи, десятки тысяч. А сейчас, когда он наконец, имеет право на свободное, независимое существование, вместо одного деспота является другой. Нет, это невыносимо и оскорбительно. Отец оставил незаконное завещание, и он, Микаэл, разумеется, не будет сидеть сложа руки, он примет необходимые меры, а пока что Смбат, без лишних слов, должен заплатить уста Барсегу, иначе дело поступит в суд…
Смбат принялся разъяснять, что ему и в голову не приходило стать деспотом Микаэла, что они равные братья и обязаны помогать друг другу добрыми советами. Но ведь жизнь Микаэла – это духовное банкротство, нравственное падение, разложение. Пусть посмотрит на себя в зеркало. Так продолжаться не может – это оскорбление для семейной чести.
– Наконец, мы не имеем морального права ради нашего удовольствия бросать на ветер состояние отца, нажитое в поте лица.
– В поте лица! – повторил Микаэл с горькой усмешкой. – Ты убежден, что наш отец нажил миллионы честным путем?
– А ты сомневаешься?! – воскликнул Смбат удивленно.
– Я? Я-то убежден, а вот ты – нет.
– Что ты хочешь этим сказать?
– А то, что ты в душе считаешь нашего отца эксплуататором и в то же время не стесняешься пользоваться его богатством.
– Микаэл!
– Зря ты оскорбляешься. Хочешь, я покажу твои письма из Москвы, после того как покойный отказал тебе в деньгах? Ты писал, что в наши дни нельзя разбогатеть честным путем. Ты обвинял отца в эксплуатации трудового люда, в жадности и скупости, я же отвечал, что богатство Маркоса Алимяна не результат чужого труда, а игра случая, дар судьбы, лотерея. Я защищал, ты – наносил удары! Скажи же теперь, кто из нас более достойный наследник, – я, ведущий расточительный, распутный образ жизни, или же ты с твоими экономическими воззрениями и вычитанной из книг философией? – Не знаю, может быть, – ты…
– Да, я! Дай в таком случае мне пользоваться наследством. Отойди от дел и передай мне богатство, накопленное эксплуатацией. Ты – человек образованный, я – неуч, ты – умен, я – дурак, деньги дураку и нужны, ведь умный сам может их заработать. Вот ты козыряешь своей безупречностью и воздержанностью, но забываешь житейские условия, в которых мы росли. Тебя в двенадцать лет вырвали из дурного общества и отправили в Москву. Жил ты там в лучших семьях, воспитывался у лучших учителей, окончил университет. Меня же держали тут, в этом поганом городе, и, не получив по твоей милости никакого образования, я попал в дурную среду.
– По моей милости? – прервал его Смбат. – Да, именно, разве ты этого не знал? В тот самый день, когда отец узнал, что ты женился не на армянке, он поклялся не только не посылать остальных детей в Россию, но и вообще не отпускать их от себя ни на шаг. Вот почему я лишился тех добродетелей, которыми ты теперь гордишься. Да, да, ты умен, ты получил высшее образование, ты можешь себя обеспечить честным трудом, а вот я не могу, ведь я – невежда, дурак, ни к чему не способен. Именно мне, а не тебе, пристало проматывать богатство, добытое чужим горбом. – Но ведь я обязан исполнить волю, выраженную в завещании отца?
Микаэл расхохотался.
– Обязан исполнить волю! – повторил он, всплеснув руками и покачав головой. – Ай-яй-яй, нечего сказать, похвальная покорность! Обязан? Так выполни в первую очередь главный пункт завещания; разведись с женой и брось детей! – Это тебя не касается!
– Пусть так. Если тебе угодно, отныне не буду говорить об этом, но при одном условии, чтобы ты тоже не надоедал мне своими наставлениями, не имеющими для меня ни малейшей ценности.
– Но я обязан тебя наставлять, такова воля не только отца, но и матери.
– Почему? Потому что я шарлатан, а ты порядочный человек, я беспутный, а ты нравственный, да? Потрудись же, нравственный человек, пройти к матери и посмотреть, из-за кого бедняжка проливает слезы. До свиданья, завтра без лишних слов уплатишь уста Барсегу мой долг, отберешь вексель, а для меня приготовишь пять тысяч рублей. У меня есть и другие долги – все оплатишь и запишешь за мной. Он вышел, бросив на брата взгляд, полный презрения. Смбат возмущенно ударил по столу и поднялся. Вот как! Даже этот испорченный до мозга костей юнец укоряет его, тычет ему в глаза его непоправимой ошибкой. Но что поделаешь? Как тут наставить брата на «путь истинный», когда он сам не выполняет возложенного на него посмертной волей отца тяжелого обязательства?
«А все-таки я приберу тебя к рукам», – решил Смбат про себя.
2
Уста – мастер.