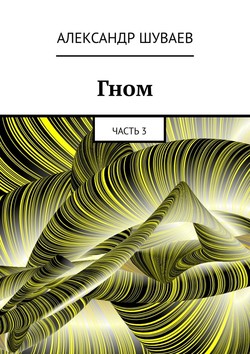Читать книгу Гном. Часть 3 - Александр Шуваев - Страница 7
Курортный роман
ОглавлениеСлучайно повстречав на полупустынном пляже спецсанатория, Карина сразу же узнала ее, хотя со времен памятного знакомства Стрелецкая изменилась очень сильно. Оно, конечно, не мудрено, восемнадцать и двадцать четыре – большая разница. Тоненькая, как стебелек, девчонка превратилась в статную молодую женщину. Формы обрели определенность, став не столько даже пышнее, сколько… резче, что ли? Более какими-то вызывающими. А вообще она с возрастом вовсе не утратила прежней яркой красоты. Куда там. Это другие начинают увядать, так и не пережив настоящего расцвета, а у таких он еще впереди. И продлится долго. И Карина поневоле почувствовала прежнюю глухую неприязнь, хоть и понимала, что это и несправедливо, и неправильно. Обычные люди, просто так, без самых серьезных оснований, в этот санаторий не попадают. И все-таки присутствие Стрелецкой раздражало ее. Купальник самый обычный, черный, достаточно закрытый. Кажется, – иностранный, но вызывающим или нескромным назвать никак нельзя. И все-таки она умудрялась казаться чуть ли ни голой. Да нет. Хуже, чем голой. Карина не имела собственного опыта, но уж зато девок-то повидала всяких. Мужчина попроще без затей, сугубо функционально определил бы облик старой знакомой, как определенно «блядский», и был бы как-то не вполне прав.
Кто покультурней и поэтому знает больше слов, сказал бы, что от нее буквально пышет сексом, – и тоже, пожалуй, ошибся бы. На самом-то деле призыва – не было. Неприязнь, как и ревность, – наблюдательны. Заставляют подмечать и оценивать каждую мелочь. Вот и Карина Сергеевна подмечала. А вот с тем, чтобы оценить, понять, было хуже. Очевидно, в данном случае ей пришлось столкнуться с чем-то незнакомым, не имеющим графы в прежнем ее опыте. Вот и глаза Стрелецкой оставались по-прежнему густо-синими, но при этом глядели все равно как-то не так… не по-прежнему. Все нутро Карины, вся ее врожденная интуиция, женская и вообще, твердили ей, что от этой особы, – такой, какой она была теперь, – надо держаться подальше. Что ничего, кроме беды, компания ее не принесет. Но всякие там предчувствия проходили у нее по графе буржуазного мракобесия, с которым надо бороться. Она и боролась.
В данном случае борьба проявлялась в том, что Карина не только не избегала компании Стрелецкой (та, надо сказать, особо не набивалась), но и старалась проводить как можно больше времени вместе. Делать в санатории оказалось особо нечего, людей подходящего возраста практически не было, а они когда-то все-таки проработали вместе чуть ли ни два месяца. Можно сказать, – земляки. Ну, – почти. А с объективной точки зрения их жизненный опыт различался настолько, что, казалось, они свои двадцать с лишним лет прожили не то, что в разных странах, а и в разные эпохи. Общих тем для обсуждения практически не было. Время от времени, увлекшись рассказом о том, что ее действительно волновало, составляло смысл ее жизни, Карина, глянув на собеседницу, видела этакую слабую, неопределенную улыбку. Обычно так улыбаются собственным мыслям, не слушая собеседника. Карина тоже так думала, и замолкала.
Она была не вполне права. Мысли у ее собеседницы если и не относились прямо к ее словам, то были ими спровоцированы. «Боже мой, – думала бывшая Жар-Птица, – сколько же на свете сортов глупости. Причем характерно то, что наиболее интересные сорта принадлежат людям, в общем, неглупым. Взять хотя бы вот эту вот… мышь. Ведь не дура же. Справляется с такими делами, которые не каждому умному в подъем, а дураку делать нечего. Где можно было, помимо всего прочего, просто-напросто двадцать раз сгореть за эти семь-восемь лет. И сколько же, при этом, дури».
Она глядела на товарища Морозову, и только диву давалась: ведь она тоже была чем-то вроде еще каких-то пять лет тому назад. Пожалуй, даже хуже, потому что имела высокий уровень допуска, доверие больших, – рукой встав на цыпочки не достать, – людей, включая Самого, и была посвящена во многие опасные тайны. Кроме того – она ж из хорошей семьи! Была. Речь «культурная», словарный запас побогаче. Да и книжек прочитала раз в десять больше. Поэтому много о себе мнила, считала себя существом особой породы, и на эту вот Морозову смотрела с тайным презрением. А сама была похо-ожа. Такая курица, сякая курица – все равно курица. Образ Жар-Птицы был, по мнению ученых, навеян нашим эмоциональным предкам павлином, то есть тоже, в конечном итоге, курицей. Теперь она ни к каким курам не относится. И уж, во всяком случае, она больше не Жар-Птица. А кто тогда? Лучше даже не задумываться. Ей и вообще-то задумываться вредно. Даже вспоминать – и то не так.
А эта вот так и осталась. Говорит, а того не понимает, что Настю даже не смысл ее речей коробит, – чего там, человек большое, сложное реальное дело делает! – а сами слова эти ей слушать невозможно. Куда хуже, чем железом по стеклу – для иных-нервных. С души воротит от родимых штампов. Вот еще раз скажет что-нибудь про любовь к Родине, про трудовой героизм, про «почин» или «единый порыв», – и стошнит. А что? Очень даже может быть. За эти годы они стали существами разной породы. Взаимопонимание между ними невозможно в принципе.
После войны кое – сгладилось, поумнело, упростилось, стало действительно добрее и удобнее, а кое – как-то вроде бы подраспустилось, потеряло прежнюю аскетичность*. Да и то сказать, – сколько можно жить затянутым на все дырки? Член ЦК, заместитель члена ГСТО, член Совета Директоров ПО «Степное Машиностроительное объединение» директор серийного производства К. С. Морозова, по факту, имела право на довольно многие блага. Еще важнее всех официальных званий и прав была принадлежность к отцам-основателям, узкой группе руководства, – истинных руководителей! – богатейшего предприятия, всех возможностей, активов, денег, связей и влияния никто посторонний не мог себе даже представить. Практически это обозначало любые деньги и земные блага. Так что на курорте в ее полном распоряжении был, например, катер. Вместе с молчаливым мотористом в качестве непременной принадлежности. Катер привезли в виде комплекта, а потом за день собрали и наладили ребята из Комсомольска. А потом еще неделю делали внутреннюю отделку и обстановку. Это уже кустари, потому как – спецзаказ, а не на нужды военного флота. То есть Карина непременно отказалась бы, поскольку являлась ярой противницей любых привилегий, но Саня без особой натуги обвел ее вокруг пальца. Как обычно. Тем более, что даже не особо и соврал. А у нее в тот момент не было сил сопротивляться. А сам по себе катер был большим удобством. Благодаря ему в их распоряжении оказалось практически все побережье с массой укромных мест, где можно было, например, купаться нагишом. Собственно, катер был одной из главных причин, по которым Стрелецкая продолжала совместное времяпрепровождение. Лежать. Голой. На песке. Под солнцем. Ни о чем не думать. Такой образ жизни ее более, чем устраивал. Точнее, ее мало устраивали любые другие. По настоянию Карины моторист убирался с глаз долой, хотя было ему лет под шестьдесят. Насте, понятно, было все равно, и она в такие моменты обычно думала, что если какой-нибудь мужик решит подглядеть за голой Кариной, то глянет не больше одного раза. А потом будет глядеть исключительно в другую сторону.
Пожалуй, в этих мыслях содержалась немалая доля несправедливости, связанной с не слишком сильной, но вполне определенной неприязнью: ну худая, ну бюст не дотягивает до второго размера, ну – сутуловата, но и ничего, отвращающего глаз, тоже не было. Да и откровенно костлявой назвать все-таки нельзя даже теперь, после болезни. Определенно портили внешность только кисти рук: крупные, с длинными пальцами, но при этом с виду довольно грубые, жилистые. Такие, какие и положены людям, на протяжении многих лет много работающих руками. Сама же она поглядывала на потрясающее тело Насти с явным восхищением и, понятно, не без некоторой зависти. Взгляды эти, в свою очередь, тоже не оставались незамеченными.
«Смотришь? Ну смотри, смотри. Сравнение и впрямь не в твою пользу. Поди, думаешь, – до чего повезло стерве с внешностью. И не поверишь, как и сколько раз, бывало, кляла судьбу и Бога за то, что не уродилась какой-нибудь невзрачно-незаметной. Вот вроде тебя. А интересно, что бы ты сказала, увидав мою задницу? Не снаружи, как сейчас, а, так сказать, – в развернутом виде? Во всей, то есть, красе? Хотя, – оспорила она сама себя, – ни черта бы ты не поняла, даже увидав. Куда тебе. Да и то сказать, вид все-таки уже совсем не тот, что год тому назад. То ли упражнения помогли, то ли здоровье мое лошадиное. А тогда думала, так и останется. И радовалась, что хоть говно держится. А была бы такой, как ты? Да, скорее всего, ничего бы и не было.»
* С самого начала, с 17-го года во многом лицемерную. Потом – тем более. Скромные люди в свою честь городов не называют.
Тут, надо сказать, она была права. Никаких настоящих подозрений она не вызывала, и в ходе массовых облав на коммунистов и социалистов с анархистами ее прихватили единственно только потому, что она имела несчастье приглянуться полковнику Варгасу, и он незаметно кивнул на нее своим подручным, Габриэлю и Игнасио. А потом, когда, будучи уже арестованной, она не видела, еще и показал им кулак: чтобы не распускали лишнего лапы или, – не дай Бог! – не вздумали решиться на большее. Аресты шли массовые, особо разбираться было некогда, и среди низших чинов полиции и жандармерии царила крайняя простота нравов.
Полковник тоже поступал подобным образом не первый раз, но, разглядев поближе нынешнюю свою добычу, осознал, что на этот раз в его руки попал истинный бриллиант. Он даже привлек к детальной оценке возможной драгоценности давнего своего приятеля доктора Вегу, старого холостяка и большого циника. Специалист очень широкого профиля, он, в некоторых случаях, помогал разговорить наиболее неразговорчивых клиентов. С неизменным успехом.
На этот раз он вышел из помещения, служившего ему смотровой, в некоторой задумчивости и начал доклад не вдруг и с непривычных слов.
– Ты не поверишь…
Смысл его достаточно витиеватой речи сводился к тому, что необыкновенно хорошенькая синеглазая маха, – никак не менее двадцати лет от роду! – оказалась девственной.
– И, похоже, – многозначительным тоном уточнил почтенный доктор, – девственна всесторонне, если ты понимаешь, что я имею ввиду.
Еще бы полковник, в соответствии с двухсотлетней семейной традицией бывший, помимо всего прочего, выпускником иезуитского колледжа, не понимал.
– Неужели? – Варгас – улыбнулся улыбкой, обещавшей исключительно много. – Не может быть. Ты не ошибся? – Глянул на обиженную гримасу эскулапа, и резюмировал. – Какая прелесть!
То есть он, может быть, предпочел бы лет шестнадцать-семнадцать, но, с другой стороны, нынешняя добыча была куда более редкой и оттого могла обещать совершенно исключительные нюансы.
Само собой разумеется, девице с такими достоинствами не грозила обычная судьба: два-три дня более-менее замысловатых развлечений а потом, – что останется, – отдать подчиненным. Насте предстоял классический этюд с мастерской увертюрой и более-менее длительной, сложной, многообразной эксплуатацией.
– Когда надоест, – напомнил о своем существовании доктор Вега, – не избавляйся. Дай знать.
Но полковник был погружен в обдумывание деталей, и потому приятель удостоился только небрежно жеста руки: не приставай, мол.
Заранее ясной была одна только первая цель: девку надо было «размягчить», чтоб соглашалась на все сразу и без писку, но при этом так, чтобы избегнуть прямого физического насилия. А то еще будет про себя воображать, что душа у нее все равно осталась чистой. Или что-нибудь в этом роде. Так вот, чтоб того – не было! Должна и быть, и, – главное! – чувствовать себя шлюхой до глубины души. До самых ее потаенных закоулочков. Чтобы и малой щелки не осталось, куда можно было бы спрятаться самоуважению.
Поэтому, не откладывая дела в долгий ящик, он на следующий же день запихнул ее в переполненную камеру, где содержались всякие там коммунистки, анархистки и социалистки. А еще – жены, сестры и дочери арестованных коммунистов, социалистов и анархистов, которых схватили для надежного воздействия на их мужей, братьев и отцов, соответственно. И каждый день по нескольку баб и совсем еще девчонок таскали на многочасовые допросы. А потом возвращали назад, ждать следующих допросов. Тут же находились те, кто больше не годился даже для допросов, в том числе – сошедшие с ума от пыток. Тут же иные и помирали. Тогда мертвые тела лежали, порой, около суток, поскольку, в соответствии с правилами, вытаскивать трупы полагалось только по утрам. Естественно, духота и зловоние, царившие в этих помещениях, были совершенно неописуемы, но на них практически не обращали внимания, потому что каждая здесь могла думать только об одном: когда поволокут на допрос. Предсказать это было совершенно невозможно: могли вызвать через неделю, а могли – часа через два. А еще тут стонали, вопили от невыносимой боли в умело истерзанных телах, бредили, делились подробностями допросов вообще и отдельно взятых методик, ссорились по каждому поводу, умело изводили друг друга, безошибочно отыскивая чужие страхи, и ругались настолько грязными, омерзительными словами, что впору было удивляться человеческой фантазии. По совокупности всех перечисленных причин в этом предбаннике ада, – ну не назвать же это – камерой? – практически никто не спал… А вот Стрелецкую никто не вызывал: время от времени, вроде как, собирались, упоминали ее имя, не забывали насовсем, – но в последний момент отменяли.
Пару дней спустя они, гуляя по городу, познакомились еще с одной дамой, поправлявшей здоровье в здравнице попроще. Нельзя сказать, чтобы Клава навязчивой или развязной, но и к застенчивым, робким, таким, которых легко смутить холодным приемом, она не относилась тем более. Зато даром знакомиться и общаться, – хоть и достаточно своеобразным, – она обладала определенно. Кроме того, налицо было определенное чутье: из всего достаточно скучного контингента она безошибочно выбрала Карину с Настей. И вот что интересно: в общем, не понравившись ни той, не другой, она тем не менее как-то втерлась в компанию и с определенного момента она стала состоять из трех человек.
С виду тетка, бывшая несколько постарше их, была самой обыкновенной, но Настя по ряду эпизодов почуяла, что имеет дело со своего рода человеческой экзотикой. Вроде той, какой являлась сама. Диковинным продуктом редко встречающейся комбинации социальных процессов. Из всех троих вся на виду была одна только достаточно скрытная Карина, а две остальные взаимно помалкивали о прошлом и главном содержании своей жизни. Клава смешновато одевалась, очень сильно напоминая гриб в своей широкополой войлочной шляпе, виртуозно играла в «подкидного», – тоже занятие, когда с прочими негусто! – и еще гадала на той же самой не первой свежести колоде. В гаданиях этих, как и в самой речи достаточно словоохотливой дамы время от времени вдруг прорезались цепляющие детали, подробности, куски бытовых и бытийных концепций, которые в Советской стране простому советскому человеку вовсе не были положены. И: у нее как-то получалось разговорить Настю. Спровоцировать ее на разговор о вещах, которые она не желала ни обсуждать, ни вспоминать.
– … На Западе, поди, даже тюрьмы культурные. Ни тебе «параши», ни тебе баланды.
– И Запад бывает разный. И с тюрьмой как повезет. Даже от того, что попадешь не во-время, может быть большая разница. Но так – да. Культура. Во время следствия никто тебя по ребрам сапогами пинать не будет, потому – надолго не хватит. Иголки под ногти забивать, – так и то непременно сперва спиртиком протрет, простерилизует! Насиловать, – так не абы как, а только в гандоне. Ароматизированном.
– Правда? – Заинтересовалась новой идеей Клава. – А-а, шутишь…
– А ты-то откуда знаешь, – лениво спросила Карина, – сама что ли, сидела?
– Не-е, откуда? Таких, как я, на нелегалку не посылают. На пушечный выстрел не подпускают. Сколько с кадрами работала, слишком много, а, главное, – слишком многих знаю… Рассказывали.
– Чего-то не верится. Уж кто попал, – точно не вернется.
– Всякое бывало. Эту, она курьером работала, по дурке, за бродяжничество взяли. А тут как раз массовые облавы, коммунисты-республиканцы, все прочее, камеры набиты под завязку, не до нее стало, подержали дней десять, да и дали пинка под зад… Отделалась легким можно сказать, испугом. И что интересно, – сразу грязная была, вонючая, да еще обоссалась пару раз, на всякий случай, – так все равно нашлись двое, польстились. Потом мандавошек выводила. Благо, хоть триппером не наградили. Ну и нагляделась, что там с республиканками-то делали. Каждый день.
– Говорят, – деловито поинтересовалась Клава, – провода электрические во всякие места суют?
– Говорю же, – ци-ви-ли-за-ци-я. Высверлят зуб, – и туда иголку под током. Ни тебе переломанных костей, ни кровищи, – а результат налицо.
– Толково, – кивнула Клава, – во звери!
– Да ну вас к черту! – Не выдержала Карина, которая в своей жизни успела настрадаться с зубами и оттого – сочувствовала. – Аж мурашки по коже…
– Это – правильно. – Кивнула Стрелецкая. – Но, говорит, сильнее всего напугала совсем простая вещь.
– Это какая?
– А это, в самом начале, одну коммунистку увели утром, а назад принесли вечером. Никаких изысков. Непрерывно драли ее, по очереди, почти шесть часов подряд. Человек, что ли, двадцать.
– Это как? – На всякий случай осведомилась Морозова, дабы убедиться, что поняла все правильно, и речь идет не о плетях с розгами.
– А это и так, и этак, и перевернумши.
– Что, – осведомилась Клава, – и через «чужую» – тоже?
– Обязательно. Один раз из пяти-шести – непременно. По схеме положено. Но! Под наблюдением, чтоб не озоровали и лишнего не калечили. Строго: сделал свое дело, – уступи рабочее место товарищу, а материал не порть. Тут страшнее всего, что она потом, в камере, еще больше суток прожила, и без крику не могла, и голоса уже не было, сорвала. Тут расчет был безошибочный: больше никому в голову не приходило упрямиться или там в молчанку играть…
– У нас, бабы рассказывали, это, – ну, когда человек сто, двести, весь этап, – «тяжелый трамвай» называлось. В мою бытность неподалеку, на пересылке под Каргополем было. Но те скоро обеспамятели, прямо под мужиками померли, хорошо, быстро… А чего не добили?
– А кто? Там же все в бога веруют истово, греха боятся, никому и в голову-то не пришло. Ну, а нашей, понятно, на себя нельзя было обращать внимания. Оставаться грязной, вонючей бродяжкой.
На самом-то деле свидетелем того самого эпизода была она сама, лично. Тересу в тот незабываемый день увели одной из первых, но другие возвращались, – кто своими ногами, кто не очень, а кто и волоком, – а Тересы не было. Обстановка в этом заведении способствовала эгоизму, всем, вообще говоря, было до себя, до своих сломанных зубов, сорванных ногтей и поврежденных внутренностей, но тут все как-то задумались о постороннем человеке. О Тересе. Те, что возвращались попозже, рассказали о немыслимом, непрекращающемся крике из бокса, куда увели Тересу. Все подавленно примолкли, никто не ругался, наступил вечер, и вот тогда-то в камеру вернули Тересу. Приволокли и кинули на пол. Пока она валялась без сознания, было еще ничего, но бога все-таки нет, и сознание к ней вернулось. С этого момента она кричала непрерывно, до тех пор, пока не потеряла сознание снова и уже с концами. Всю ночь и большую часть следующего дня. Это был даже не крик, а какой-то хриплый вой. В том варианте, который выпал на ее долю, изнасилование являлось, по сути, не слишком интенсивным внутренним избиением, которое зато продолжалось шесть часов подряд. Избитые ткани тазового дна отекли настолько чудовищно, что не помещались внутри, и снизу ее буквально вывернуло наизнанку. Это была огромная, тугая опухоль темно-лилового цвета, которая все увеличивалась по мере того, как жидкость из организма заполняла разбитые, раздавленные ткани. Со временем темно-лиловый цвет перешел сине-черный, а в конце стал угольным. К утру отек лопнул, потекла гнилая сукровица, и обычное зловоние этого переполненного ковчега обреченных прорезал, как нож, едкий запах гангрены, скоро ставший невыносимым.
Стрелецкая числила за собой множество грехов, но то, что она из трусости не добила тогда несчастную женщину, считала чуть ли ни самым тяжким. Голова, понимаете ли, была полностью занята совсем другими мыслями: это что – и ее могут так? И так же искалечат руки, чтобы не могла даже… вырвать себе горло? Что?
Надо сказать, впечатления, полученные ей от эпизода с Тересой, сыграли не последнюю роль, когда ее, наконец, вызвали на первый допрос и ей пришлось-таки выбирать линию поведения. В той допросной, правда, еще и обстановка способствовала правильному выбору. Грубые кресла с ремнями для ног и рук, какие-то козлы с бревнами, затесанными на клин, более современное оборудование, из которого торчали провода с оголенными концами, покрытыми бурой коркой, тиски всевозможных форм и размеров, наборы стальных игл – и прочее. Наконец, последнее по счету, но не по значению, – породистое лицо дона Варгаса. С первого взгляда было видно человека интеллигентного, понимающего, с фантазией. Точнее, – с множеством разнообразных, неожиданных фантазий.
Всему есть предел, и она как-то сразу решила, что гордое, несгибаемое поведение в данных условиях плохо соответствует роли обыкновенной испанской девушки из простонародья, она сразу же себя выдаст, и тем сорвет задание, порученное ей Родиной. Поэтому и плакать – плакала, и не трогать-то ее просила. И о том, что греха боится упомянула. Тем не менее, когда все это не возымело действия, и разделась, как миленькая, и все остальное, что полковник говорил, – исполнила беспрекословно. И тогда исполнила, и потом исполняла.
Все познается в сравнении! Поэтому, когда полковник, в качестве первого знакомства, мытарил ее зад, она поймала себя на мысли, что испытывает определенное облегчение: он один, и, кажется, никого и ничего больше не предвидится. Да и, откровенно говоря, не так уж больно. Во всяком случае, – терпеть можно. Даже с учетом того, что за время «допроса» он проделал с ней это три раза. В его возрасте – немалый подвиг, но она и вообще его как-то воодушевляла.
Тогда термин «предложение, от которого нельзя отказаться» еще не был в широком ходу, но, тем не менее, ей было сделано именно оно. Таким образом, в камеру она больше не вернулась, переселившись в обширный старинный особняк семейства Варгас в качестве горничной и компаньонки супруги полковника, донны Инес. Сама с собой вспоминая эту службу, она неизменно вспоминала свою же шутку, которая, тем не менее, казалась ей страшно удачной: «Ну, горничной я тоже работала…". Что касается роли компаньонки, то чего не было – того не было. Супруга хозяина представляла собой бесцветное, безгласное существо, постоянно находящееся где-то в недрах дома, в своих покоях, и почти никогда их не покидавшее. Она не участвовала в семейных трапезах, не выходила к гостям, муж с ней практически не общался. За все время Настя ее и видела-то всего раза два или три, когда она, под вечер, изредка выбиралась во внутренний дворик усадьбы. Другое дело, – сын и наследник, восемнадцатилетний дон Мануэль Варгас. Его полковник не только любил до обожания, но и дружил с ним. Кстати, именно его полковник угостил Настиной девственностью, на третий день ее пребывания в доме, предварительно приказав молчать о том, что имело место на допросе. Правда, после этого он своих отношений с горничной не скрывал, и они мирно делили ее благосклонность между собой, причем старший имел только небольшой, чисто символический приоритет. Нередко случалось так, что, выбравшись из-под папаши и наскоро подмывшись, она тут же отправлялась в постель к сыну. Несколько раз случалось и так, что они дарили ей свою страсть одновременно. А кроме того, в ее обязанности время от времени входило обслуживание гостей, – наиболее важных персон либо же ближайших друзей хозяина. Впрочем, гостей он таким угощением баловал не слишком часто, берег для себя. Вспоминая полковника, – царство небесное, мир праху, – она в конце концов пришла к выводу, что с головой у него имелся определенный непорядок: к моменту ареста она достаточно изучила испанцев и знала, что такое отношение к сексу совершенно для них не характерно.
То, что так поразило ее во время памятного допроса, получило свое подтверждение: эта жизнь и впрямь имела свои маленькие радости. Если бы кто-нибудь еще года два тому назад рассказал ей, что она когда-нибудь начнет считать французскую любовь халтурой и почти что отдыхом, и научиться радоваться, поняв, что больше ничего не требуется. Что будет воспринимать в качестве выходных дни, когда оставляли в покое если и не ее, то, по крайней мере, ее зад. Может быть, – посмеялась бы, может быть, – пристрелила, но уж, во всяком случае, не поверила бы.
Быть активным агентом-нелегалом а под арест угодить из-за того, что приглянулась именно что офицеру тайной полиции, по совместительству оказавшемуся выродком-аристократом и старым козлом, это, что ни говори, все-таки что-то особенное. У кого-то там, наверху (ну не назовешь же ТАКОЕ – Богом?) просто отменное чувство юмора. В минуту душевной слабости она даже склонялась к тому, что вся эта чертовщина – следствие того давнего разговора, когда она выпендрилась перед Вождем со своей осведомленностью в половом вопросе. Вот жизнь ей и показала, что по этой части знает она еще далеко не все. К примеру, – какова на вкус сперма. Или как ощущают мужской орган, к примеру, – гланды? Да мало ли чего еще. Беда только в том, что, узнав все это, начинаешь совсем по-другому любить Родину. И отношение к Службе этой самой Родине того… претерпевает некоторые изменения. Вопросы появляются разные, глупые: все она от тебя может потребовать, или все-таки нет? Это же, если вдуматься, философский вопрос: может ли Родина потребовать от тебя пожертвовать не жизнью целиком, а, к примеру, жопой? В самом прямом и вполне определенном смысле? И, – стоит ли оно того?
Когда таких философских вопросов набирается достаточное количество, они постепенно складываются в новую жизненную философию, которая несколько отличается от прежней. Тут случай крайний, но для подобных метоморфоз вовсе не обязательно попадать на нелегальную работу в Испании.
Спустя несколько месяцев она умудрилась восстановить контакты и возобновила работу. Работа по-прежнему оставалась добросовестной, но теперь имела еще и ряд дополнительных целей.
В один прекрасный день Карину посетил Берович, непонятно, каким побытом вырвавшийся из круговерти своих бесконечных дел. Саня был весел, одет на манер образцового курортника в свободную косоворотку с легкомысленным пояском, полотняные штаны и полотняную же фуражку, обут был в сандалеты на босу ногу, а с собой имел две весьма объемистые корзины со снедью и хорошим, не поступающим в продажу вином старых грузинских лоз. Потыкавшись с мотором катера, он решительно отстранил моториста, дав ему заслуженный выходной: умеренной сложности техника, даже ранее незнакомых моделей, слушалась его беспрекословно и даже как-то охотно.
От абсолютной непривычки к человеческому отдыху, он несколько опьянел от воздуха, солнца и, главное, избытка пространства. По этой причине и то, как он себя вел, казалось несколько неуместным, впору не взрослому дяде, а, скорее, подростку лет двенадцати-тринадцати, с характерным обилием не всегда удачных, несколько инфантильных шуток. Правда, катер при всем при том он вел ровно, уверенно, и как-то надежно. Они обещали показать ему красивые места для того, чтобы остановиться на пикник, и даже слегка поспорили, но гость находился в столь благодушном настроении, что все уладилось как-то само собой.
В укромной бухте под скалой, так, что в двух шагах были и солнце, и тень, и песок, и море, он послал женщин собирать высушенный солнцем плавник, а сам принялся колдовать над шашлыком. Занимался он этим примерно в первый раз, но раньше пару раз видел, как это делают другие, а к остальному подошел, как технолог: узнал у Арчила несколько основных рецептов и все мельчайшие подробности. В итоге получилось более, чем приемлемо. Тут надо сказать, что шашлык – это такая вещь, которая идет «на ура» практически всегда. Даже при куда более скромном уровне приготовления, чем в данном случае. Пока шел кулинарный процесс, дамы, естественно, полезли купаться, но делали это по-разному. Карина плескалась на мелководье, поскольку плавать сроду не умела и воды боялась. Стрелецкая плавала, как русалка, сильно и стильно, легко разрезая плотную морскую воду: отчетливо видна была школа, причем достаточно серьезная.
Клава плавала, как зверь. Объяснить трудно, но при взгляде на ее движения в голову приходило в первую очередь именно это сравнение. Не относясь ни к какому известному стилю, движения эти все равно казались единственно – естественными. Потом поступил призыв к столу, женщины начали собирать и раскладывать снедь, и Берович, наконец, тоже получил возможность быстренько ополоснуться от пота и дыма. Он плавал, но кое-как: по-собачьи, недалеко, недолго, и избегая по-настоящему глубоких мест.
Увлеченно жуя шашлык, Саня, перешел, наконец, к выполнению Долга. Вспомнил, что официальной целью визита на высшем уровне было проявление заботы и внимания руководства к заболевшему сотруднику.
– А вообще ты, Морозова, страшная личность. Вот хороших мы ребят подготовили, не похаешь, а без тебя все равно, как без рук. Как здоровье-то?
– Да, вроде, нормально. А пускать – не пускают.
– А что говорит медицина?
– Пожимают плечами, и говорят, что так не бывает. У тебя, – говорят, – распад был. Каверна. А они так быстро не затягиваются. Осторожничают.
Это как раз даже очень хорошо понятно, почему не верят. Они ж понятия не имеют о действии новенького, с иголочки, «препарата «Т». Рановато им было знать про такое. Всему свое время.
– Ты все равно того, – слушайся. Набирайся сил, чтоб с запасом. Перебьемся пока как-нибудь.
– Да скучно здесь, Александр Иванович, спасу нет. Я ж без дела сроду никогда не сидела, и знать-то не знала, что это такое – отдыхать. Это первые три дня хорошо было, пока пластом лежала. А потом тоска смертная.
– Ничего, поскучай. Ты не думай, я справки навел: там у тебя, помимо чахотки, и гастрит, и малокровие, и пониженная масса тела. Вон, на подруг погляди: поди, тоже проблемы со здоровьем, не просто так тут зависают, а картина совсем другая…
Показывая ей эту картину, он, естественно, повернулся и сам, и при этом взгляд его как-то притормозил на Стрелецкой. Примерно, как притормаживает автомобиль перед ухабом, перед тем, как переехать его. Как будто увидел первый раз. Так что следующий взгляд случайным уже не был. На миг они даже едва заметно зацепились – взглядами.
И вот такая-то ерунда не прошла незамеченной. Клава заметила, все поняла, и все для себя решила, как решала всегда, сразу, четко и определенно: клиньев не подбивать! Ничего уже не выйдет, да и вообще это был все-таки не ее тип, хотя, – она видела, – на крайний случай вполне сошел бы. Кобеля на время она себе еще сыщет, лучше, понятно, из местных. Всегда находила.
Карина, вроде бы, не придала ерунде особенного значения. Но все-таки, по какой-то причине, ерунду эту и заметила, и отметила. И тоже посмотрела на Настю лишний раз. Та и вообще умудрялась в своем черном купальнике выглядеть более голой, чем когда раздевалась донага перед женщинами. Но уж сегодня, – еще более голой, чем обычно. А еще сегодня это почему-то испортило Карине настроение. И небо как-то посерело, и солнце грело не так, и шашлык остыл, и сердце на обратном пути щемило чем дальше, тем сильнее.
Чудо, – это маловероятное совпадение маловероятных событий. Чудотворство, – оно же колдовство, только для тех, кому можно, – это умение управлять случайностями. От природы оно чаще всего присуще женщинам, поскольку те реже задумываются над всякими глупостями вроде рациональных обоснований.
Когда Карина вечерком зашла к Беровичу, остановившемуся до утра в «гостевом» номере, – а она заходила к нему без стука последние лет пять, так уж повелось, – у него оказалось не заперто. На этот раз старая безалаберная привычка сыграла с ним дурную шутку.
Вечерело, но света из окошка хватило, чтобы в подробностях рассмотреть приключившуюся картину. Улыбающийся Саня, вальяжно развалившийся в кресле, полотняные брюки расстегнуты, – а рядом, на стульчике, Настя, державшая в руке его напряженный член. Вполне, кстати, одетая. Когда дверь открылась, она обернувшись, улыбнулась гостье мягкой улыбкой, не содержавшей ни капельки смущения. Карина, покраснев, выбежала и закрыла за собой дверь.
Она совершенно спокойно восприняла бы картину намертво сцепившихся на кровати голых тел в обрамлении разбросанной одежды: непьющий Саня баб вовсе не чурался, как бы ни наоборот, тем более, что выбор – был, а обид – не было. Но то, что она увидала только что, по какой-то причине проняло ее всерьез. Почему-то пришло в голову, что, приди она еще минутой позже, могла бы увидать что-нибудь и еще более интересное.
Помнится, что когда-то, лет шесть-семь назад, она услыхала от озабоченных подруг возбужденное шушуканье о такого рода делах. Тогда ее, помнится, вырвало, Да не раз: уже все вроде бы, а как вспомнит, – так опять. Но лет с тех пор прошло все-таки порядочно. Поди, – усмехнулась про себя собственной мысли, – и сама бы исполнила, как смогла, если б попросил. Не как любовница или влюбленная женщина, а как человек, обязанный ему буквально всем. Его человек. Самураи в старой Японии. Вассалы в средневековой Европе. И она.
Конец у гнусной, но все-таки сказки тоже был, как положено, сказочный. Вроде бы и удачный, но при этом как-то очень в духе основной части повествования, а оттого – двусмысленный. Каудильо, – совсем как ей некоторое время тому назад, – сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Но он, в отличие от Насти, все-таки отказался вопреки всякой очевидности. Когда события достаточно назрели, горничная бесследно испарилась из гостеприимного дома Варгасов, материализовавшись на базе республиканцев. Среди них даже далеко не все знали, что вооружают, снабжают и обучают их люди, родившиеся очень далеко от Пиренейского полуострова. И особые ударные группы, на которых лежит специальная миссия, тоже состоят из них. Понятное дело, Стрелецкая загодя подготовила почву, подав полковника в качестве потенциально очень ценного источника информации. Так что тот не смог скрыться из пылающего Мадрида, когда дело было уже сделано и сопротивление стало бесполезным. В тот вечер, когда должно было начаться, Настя переоделась в черный комбинезон, не стесняющий движений, собрала волосы в косу, упрятав ее в семислойный черный шлем, утянула щиколотки шнуровкой высоких ботинок на каучуке. Подсумок с тремя магазинами по сорок патронов, еще два – в карманы специальной куртки с множеством карманов, гранаты, пара ножей, «КАМ – 42» в руку. Все. Пошел. Снарядившись, она почувствовала себя совсем другим существом, нежели когда-либо прежде. Ей не раз приходилось носить этот наряд для ночных дел и прежде, на тренировках и в реальных операциях, но теперь это было совсем, совсем другое дело. На улицы смятенного Мадрида вырвалась смертоносная черная тень, демон-убийца, сама воплощенная смерть. Потом в суеверном Мадриде ходили целые легенды. Говорили, что даже мельком увидевшие ее потом жили не больше недели-двух. Да еще мало ли что.
Не стоит рассказывать подробности Пиренейской Стратегической наступательной операции, она вошла в учебники всех военных академий, скажем только, – катастрофа оказалась столь неожиданной и сокрушительной, что сопротивления практически не было, а во всеобъемлющую облаву попали практически все основные фигуры, включая самого каудильо. И полковника Варгаса с семейством – тоже. По странному совпадению, как раз группе Стрелецкой он и попался. Все сбылось так, как и было задумано! Красная Кавалерия прискакала и спасла ту, кто не щадя жизни, – и прочего, – прокладывал ей дорогу. Здравствуй, Родина! Там все изменилось, стало как-то попроще и почеловечнее, без прежней зверской дури, неизбежные проверки она прошла без сучка и задоринки, получила целый ряд высоких правительственных наград, «накопившихся» за время пребывания на нелегальной работе, ей даже вернули в полное ее распоряжение родительскую квартиру в Москве, – и списали в запас без ясной формулировки причины. Взяли соответствующие подписи, выдали зарплату со всеми надбавками за эти годы, – сумма образовалась более, чем солидная, – и положили пенсию в размере оклада капитана ГБ. Все положенные льготы, распределители, базы, все – кроме допусков и использования в профессиональном качестве. И удивилась, как же мало это ее расстроило. То есть вообще никак.
Тогда, вернувшись, она была уверена, что познала Смысл Жизни лучше кого бы то ни было. Само собой разумеется, никаких мужчин: они не вызывали в ней ничего, кроме отвращения. Все, как один, даже явно порядочные и хорошие люди. Никакого секса вообще, – даже вспоминать тошно, и невозможно думать, и забыть бы все, что было, забыть. И можно ничего не делать, ни о чем не думать, ни с кем не общаться. Ничего не читать, – потому что книги вызывали тягостное недоумение или злобу. О чем это? Зачем? Что было – прошло, не было его, наверное, приснилось в страшном сне. Ведь правда уже все? Правда?
То, что это не совсем так, выяснилось через несколько месяцев. Этак, – через полгодика. Разумеется, от сожительства с Варгасами она не испытывала ровно ничего хорошего. Никаких приятных ощущений, а только боль и отвращение. И не могла представить себе, что это – вообще может быть приятным. Не верила, что может нравиться хоть одной женщине. Знала, что это не так, но тем не менее была убеждена, что все кругом врут. Такой вот всемирный заговор. Единственное, – со временем обрела определенную привычку, приспособилась к постылой половой жизни. Выработались даже некоторые реакции физиологического характера, которые помогли ей, наконец, практически не ощущать ничего. Так, легкую щекотку, не мешающую думать о постороннем. Зато теперь, по прошествии долгого времени, в одну прекрасную ночь она проснулась от чудовищного, поглотившего на миг все ее существо ощущения. Спазмы, гасящие сознание, еще продолжались какое-то время после пробуждения, только постепенно слабея. Лицо… пылало огнем, похоже, скорее, от сюжета того сна, что снился перед пробуждением, но после как-то позабылся, а между ног было мокро. Настолько, что она лежала в лужице, словно слегка обмочившись, да только тут-то она точно знала, что это такое. Оргазмы бывают разные, но этот оказался впору качественному нокауту: она не сразу смогла встать, а потом идти смогла только по стеночке, с заплетающимися ногами.
Казалось бы, – ну и что? Дело-то житейское. Первый оргазм во сне – такое нечасто, но случается и с девушками. Так-то оно так, вот только случившееся находилось в недопустимом противоречии с той системой, которую она для себя выстроила. Испытать ЭТО помимо воли и вопреки собственной твердой уверенности, что секс – суть мерзость, было для нее более, чем унижением. Возвращением в дом Варгасов, в допросную, в зловонную камеру к замученной насмерть Тересе. Вторым актом и продолжением пройденного.
Еще более унизительным оказалось то, что у ней возникла вовсе нешуточная потребность в сексуальном удовлетворении. Настойчиво требующая своего, навязчивая, переводящая мысли в определенное русло, и, главное, заставляющее вспоминать кое-что из прошлого. Теперь многое из того, что совсем недавно хотелось только забыть, воспринималось как-то по-другому. Попытки воздержания не имели смысла, поскольку, если она переставала ласкать себя, начинались сны с такими сюжетами, что онанизм был куда как приличнее. В системе координат ее нынешней морали, бывшей соединением несоединимого, химерой в классической трактовке понятия, это могло обозначать только одно: полковник дотянулся до нее из могилы, добившись-таки своего. Сделал какой-то половой наркоманкой. Блядью.
Человек, если он все-таки не умер и продолжает жить, как-то сживается с чем угодно. Сжилась с ощущением своего уродства и двадцатипятилетняя, редкой красоты пенсионерка НКГБ-МГБ, только в процессе этого сживания стала, как это случается очень нередко, еще более, – прямо таки до мозга костей, – циничной.
Вот только мужчин она по-прежнему избегала, а однополая любовь даже не приходила ей в голову. Очевидно, была просто органически чуждой.
Ее спонтанное побуждение соблазнить Беровича явилось неожиданным для нее самой, ничем особенным не мотивированным и не преследовало никаких даже умеренно благих целей.
А вот для Сани после той ночи, проведенной в «гостевой» комнате, все прочие женщины просто перестали существовать. На всю жизнь. Чувство, которое он испытывал к ней на протяжении всей совместной жизни, нельзя назвать любовью, поскольку оно не содержало ни дружбы, ни теплоты, ни нежности, ни душевной близости. В нем не было органически присущего любви счастья. Больше всего оно напоминало непреодолимое пристрастие к какому-то темному зелью. Большая беда, если вдуматься.
На случай беды у достойных людей существуют друзья. Иногда они в своем стремлении помочь действуют опрометчиво.
– Этот отчет является совершенно секретным. Гриф: «Разглашению не подлежит», гриф: «Хранить вечно». Это – точная копия. Почитай, любопытно.
– О чем это? – Лениво проговорил Берович, лениво прикасаясь к папке. – Если коротенько…
– Ну, если коротенько, то это о том, как во время штурма Мадрида боевая группа под командованием твоей Насти проникла в частный дом, где и захватила хозяина дома, полковника Варгаса, вместе с семьей. Там она произвела допрос хозяина дома, бывшего крупным чином тайной полиции. В ходе допроса непрерывно применялись недозволенные методы воздействия на допрашиваемых. В частности, сын хозяина дома был на глазах отца подвергнут длительным, крайне циничным истязаниям, в результате которых умер. Ему раздавили пальцы и половые органы, выкололи глаза, – и все такое прочее, захочешь – прочтешь. После этого, хотя полковник во всех подробностях ответил на все вопросы, она проделала с ним примерно то же, что и с сыном, только в расширенном, так сказать, ассортименте. Рассказывать, с твоего позволения, не буду… Собственно говоря, по содержанию этого рапорта ее и уволили. Да оно и понятно: кому нужна кровожадная психопатка с наклонностями садистки?
Да, так все и было. Она продолжила бы истязания и дальше, и подольше, но только приходилось спешить. А когда они проходили через патио, откуда-то из бокового хода на нее бросилась с ножом донна Инес. В одном полурасстегнутом халате, под которым виднелось тучное, рыхлое, болезненно-белое тело. При захвате дома она была связана, как и слуги, но вот как-то развязалась же. Жар-Птица на ходу, не меняя шага, снесла ее очередью из автомата.
– Мне. Все. Равно. – Полузакрыв глаза, раздельно ответил Саня. – Очевидно, он того стоил, а у нее были весомые причины. И запомни: любые разговоры о моей женщине, о ее прошлом, там, о ее моральном облике есть вторжение в мою личную жизнь, которое я ни в коем случае не намерен допускать. И не допущу. Это запретная тема. Для кого угодно и тебя в том числе.
К счастью, бывает и так, что из неудач делают правильные выводы.
– Слушай-ка, – ты зачем все это затеяла?
– Что – все?
– Да всю эту историю с охмурежем?
– А зачем вообще затевают интрижки? Поразвлечься.
– Так ты выбрала себе неподходящую игрушку. На нем половина страны держится, так что полной воли тебе не дадут, не надейся. Так что решай.
– Чего – решай!?
– Либо серьезные отношения, семья-дети. Либо отваливай с концами. Не буду говорить, насколько предпочтительней второй вариант, но у него, кажется, все слишком серьезно… Так что может не выйти.
– А если нет?
– Тогда я тебя пристрелю. Или прикажу пристрелить.
– Интересно. И кто тебе сказал, что я этого боюсь?
– А я и не говорила тебе, что боишься. И пугать не собиралась. Просто предупредила, что пристрелю. И не вздумай проверять меня на вшивость: будет обидно, если застрелят не за дело, а по ошибке.
– А теперь слушай сюда, коза чахоточная: если я начну капать ему на мозги, потихонечку, прямо сегодня вечером, то в пятницу ты уедешь командовать филиалом в Петропавловск.
– Если я почувствую что-то такое, – а я почувствую обязательно, не сомневайся, – то ты до пятницы не доживешь.
– Под расстрел угодишь, дура…
– Что такое моя жизнь по сравнению с его благополучием?
– Да ладно. Даже интересно для разнообразия. Развестись никогда не поздно. Только он, между прочим, мне предложения пока что не делал.
– Ты знаешь, что предпринять, чтоб сделал. И – всегда помни, что я тебе сказала.
– Слушай, – в глазах Стрелецкой мелькнул интерес, – а почему не убьешь прямо сейчас, если уж я такое говно?
– Потому что не уверена, сможет он это перенести, или нет. И: внесем ясность. Ты не говно, не обольщайся. Ты что-то гораздо, гораздо более вредное и опасное. Говно можно подцепить на лопату. Водой смыть. А с тобой это не пройдет.
А Саблер, познакомившись с ней, позже сказал:
– Ну что сказать? Среди миллионов бесхозных девок он, для жениться, безошибочно выбрал себе шмару. Роскошную, – кто будет спорить? – только не я! Только зачем-то мертвую. Ее забыли похоронить, и она-таки неудачно попалась ему на глаза. Такое бывает только за грехи родителей.
И потом за глаза он называл ее не иначе, чем Мертвой Шмарой.
Свадьба была-а! Хотели, как всегда, скромную, только кто же всерьез обращает внимание на желания новобрачных? Их поздравляют, им дарят подарки, и когда дарителей набирается несколько тысяч человек, включая членов правительства, ЦК, товарищей по ВСТО, масштаб увеличивается на порядки просто сам по себе. Невеста… проявила прямо-таки фантастический артистизм: сплошное счастье и очарование, цветение и такт, непосредственность и обаяние, кружева и цветы.
Естественно, о счастливом супружестве не могло идти и речи. Она и никогда-то его не любила, не могла разделить ни его интересы, ни его энтузиазм, но, будучи человеком по-своему справедливым, отдавала ему должное, как личности безусловно масштабной. Не скучала по нему, не радовалась его приходу, иногда поневоле раздражалась, замечая, что он-то – скучал, что он-то – радуется, хоть радость эта и не продлится долго. Как ни странно, ее животная, механическая сексуальность сказалась на их супружестве весьма положительно. О нем нечего говорить: жена на протяжении всей совместной жизни неизменно пробуждала в нем истинную страсть, но и сама она, благодаря своему искусству, получала необходимое ей удовлетворение.
И: по какой-то причине ей и в голову не приходила мысль, что она может стать матерью. То, что она не забеременеет, не подлежало сомнению, хотя причин для такой уверенности не было, приблизительно, ни одной. Когда у нее через недолгое время появились соответствующие симптомы, неприятному удивлению ее не было границ. Это не помешало ей в положенный срок произвести на свет первенца, Ассунту. За ней, спустя два года, последовал Федор Александрович. Беременности и роды протекали совершенно нормально, но на другой день у матери развился тяжелейший психоз, такой, что она едва не погибла. Но обошлось. Настя поправилась, на семейном совете решили больше детей не заводить, но ничего серьезного не предприняли, в результате чего у них без малейших осложнений родились еще два сына, Иван и Сергей. Детям нанимали нянек, старшие подросли, и у Беровича все-таки появилось что-то похожее на дом, хоть и старался он, чтобы дети с матерью слишком тесно не общались. За год до серебряной свадьбы они отметили появление первого внука, а еще через два месяца Настя, дождавшись, когда останется дома одна, достала из каких-то ей одной ведомых похоронок пожелтевшее свадебное платье, натянула его на свое взматеревшее, крепкое тело, приколола к волосам фату и повесилась на электрическом проводе.
Великая Блажь I
Вчера, когда гигантский вагон тронулся, без малейшего толчка, так, что показалось, будто это вокзал, все его строения, празднично убранные к торжественному моменту Пуска, сдвинулись с места и плавно поплыли назад, он еще некоторое время ждал, когда начнется мерный перестук колес. В его возрасте не так просто расстаться с привычным. Тем более – с привычным настолько, что уже начинает казаться чем-то таким, что всегда было и пребудет до скончания века. Но стука не было, при тех нагрузках, которые возникали при эксплуатации этой колеи, стыки между рельсами были бы недопустимой слабостью. Не было также слышно звука двигателей, и слишком далеко, и слишком тихо работают громадные электродвигатели локомотива. Говорят, – в самом скором времени и локомотива-то никакого не будет… но пока гигантский, как целый сухопутный корабль, электровоз еще имел место. Гула не было, но, передаваясь через рельсы, и дальше – через насыпь на землю давила такая тяжеловесная мощь, что казалось, будто он все-таки присутствовал. Такое напряжение не могло, не имело права разрешаться вовсе без звука.
Никогда, никто, ни один владыка в истории, ни один император, царь или тиран не имели такого дорогостоящего выезда. Даже близко. Восьмерик белоснежных лошадей, лимузин, личный бронепоезд, обставленный изнутри с немыслимой восточной роскошью, – мелочи, не заслуживающие внимания, потные медяки в судорожно сжатом кулаке нищеброда. Трехэтажная повозка, на которой объезжал свои владения легендарный объединитель Китая, – смешная лакированная игрушка для богатенького ребенка… хоть и тащили ее чуть ли ни сто буйволов, а для проезда пришлось специально расширять дороги по всей Поднебесной. Самое смешное, что выезд этот предоставили никакому не императору, не полновластному диктатору, а человеку, у которого от прежней, – действительно, немалой! – власти осталось не так уж и много. Остатки. Угли былого костра.
И главная роскошь не в том, что все четыре вагона гигантского поезда – по сути, к услугам одного человека. И не в убранстве этих вагонов, потому что внутри все, действительно, добротное, удобное, несокрушимо прочное, из недешевых материалов и сделано со вкусом, но без какой-либо особой роскоши. Самая главная роскошь его выезда в том, что настоящая сквозная эксплуатация Магистрали начнется только сутки спустя после его отъезда. Хотя частичная, понятно, велась и раньше. Вовсю. Чуть ли ни с самого начала строительства. А вот теперь специальное постановление издали, хотя он и не просил. Решили дать ему возможность прокатиться по стране до Южно-Сахалинска без спешки, с заездом в города и общением с гражданами, на смешной скорости сто пятьдесят километров в час. Потому что стандартная скорость на длинных перегонах магистрали планируется в двести – двести пятьдесят. При этом интенсивность движения предполагается такая, которой старик Транссиб не видывал ни в сорок первом, ни в сорок третьем, ни позже. Всем вдруг оказалось надо! Сколько талдычили о «заведомой нерациональности проекта» который «не окупится в обозримый срок, а если откровенно, то никогда», а теперь упрекают в том, что вдоль всего континента протянули всего-навсего шесть «ниток». Надо было восемь! Десять! Ага. Двадцать. Это уже без него. Так что сутки Магистрали – это деньги колоссальные, убийственные. По нынешним временам, пожалуй, будет подороже поезда с локомотивом вместе, хотя куда он, поезд этот, денется после его вояжа? Дальнейших прогулок по Магистрали он не планировал, и оставлять поезд за собой не собирался ни секунды. Так что, по сути, речь шла о цене нескольких сотен билетов. А вот уточнять истинную цену этих суток он не захотел, чтобы не расстраиваться, хотя в душе был доволен. Да и то сказать, – задержка-то частичная, только в направлении «туда», и уже завтра поутру они увидят первые встречные составы. Разумеется, грузовые. Разумеется, сверхтяжелые: нужно же побыстрее отбить прибыль!
Нет, все-таки до чего интересно получается: сначала мы им набили морду. Потом вытащили из полнейшей уже ямы. Потом под завязку обеспечили заказами, так, что где-то эта их пресловутая послевоенная депрессия – кончилась, а где-то даже и не успела начаться. А ведь они ее считали совершенно неизбежной. И теперь мы же, в значительной мере, пляшем под их дудку! Точнее, – привычно поправил он себя, потому что даже самому с собой надо быть точным в формулировках, – во многом играем по их правилам.
В отличие от внимания государства, интересы общественных групп есть величина постоянная, они давят и давят, непрерывно, неуклонно и неустанно, так что устоять, в конечном итоге, становится невозможно. И то сказать, – людям же по-настоящему надо. Более того, составляет основное содержание их маленьких, но единственных жизней. И, может быть, именно поэтому, слишком часто их варианты выглядят логичнее, убеждают, и в этих условиях продавливать что-то свое, худшее, только для того, чтобы настоять на своем, выглядит уже чистым капризом. Несолидно, неумно, даже стыдно как-то. Вот и теперь: людям же надо! У людей громадная потребность в быстром перемещении груза за умеренную цену. Были бы те самые двадцать ниток, – и их забили бы под завязку! Казалось бы, – и хорошо, и слава богу, но, однако же, что-то точит. Делаем то, что надо не нам. Точнее, не нам одним. Наверное, он не прав. Даже скорее всего, вот только сердцу не прикажешь. И это еще одна из причин, по которым старикам вроде него надо уходить вовремя. Не только слабость, болезни и все менее продуктивная работа головы, но еще и это: со временем начинаешь хотеть не то, что по-настоящему нужно, и, делая совершенно правильные, полезные вроде бы дела, не испытываешь радости. Только по той причине, что в молодости не считал их чем-то похвальным, а, слишком часто, прямо наоборот. Делаешь, даже убедишь себя в их необходимости, а сам как будто изменяешь самому себе, молодому и горячему.
Поднял глаза и усмехнулся, удивляясь нелепости собственного своего поведения. Долгожданный день, он первый человек, которому предстоит до конца пройти по величайшему Пути за всю историю, как будто бы именно для того, чтобы как можно больше увидеть в путешествии, – а он занят своими мыслями и не глядел в окно, кажется, ни одной полной минуты. Даже в общей сложности. И, словно устыдившись того, что, вроде бы отлынивает от взятых на себя обязательств, – непонятно перед кем, но все-таки, – посмотрел в пресловутое окно. Ну, – посмотрел. Все равно ничего не может изменить того факта, что главным, доминирующим элементом ландшафта, что виден с высоты Магистрали, является сама Магистраль. Все остальное не производит и десятой доли впечатления от увиденного. Значит, и мысли совершенно неизбежно будут соответствующими, и от этого никуда не денешься. Смешно, – он как будто бы снова оправдывается перед каким-то невидимым оппонентом. А раньше полагал своим особым даром умение не считаться ни с чьим мнением. Ему тогда казалось, что с точки зрения стратегии бывает полезно навязать свое решение, даже если оно и не самое лучшее. Прекрасно дисциплинирует, предотвращая разброд и шатания.
Вице-король I: воцарение
Собственно говоря, официальная должность у него была одна и называлась: «командующий Особым Дальневосточным военным округом». «Особым» он оставался по той простой причине, что война по соседству никуда не делась. После того, как перестал действовать японский фактор, безвыходная заваруха в Китае, казалось, сделалась еще более ожесточенной. Своих не стесняются, со своими не считаются, а разобраться в этой каше представлялось совершенно немыслимым. Вроде бы, имел место какой-то «гоминьдан», действовали коммунисты, но на деле это мало что значило. Гоминьдан позиционировал себя в качестве демократической партии, но демократия имела специфические китайские черты и просматривалась с трудом, а товарищ Владимиров считал крайне своеобразным китайский вариант коммунизма. А помимо этого в каждой провинции главный представитель правительства и местный коммунистический лидер одинаково считали себя ванами и поэтому гоминьдановцы соседних провинций нередко резали гоминьдановцев, а коммунисты смертным боем, с применением артиллерии критиковали коммунистов.
Американцы, вместо того, чтобы своим присутствием стабилизировать обстановку на Корейском полуострове, по какой-то причине играли роль фактора, скорее, раздражающего. Южнее 38-й параллели страна тлела непрекращающейся партизанской войной. Многие и многие, досыта нахлебавшись чужеземного владычества, вовсе не были рады тому, что одного хищника сменил другой, еще более сильный и чуждый, нежели прежде. Севернее, соответственно, устанавливалась новая, народная власть, тоже нелегко и непросто, и в этом процессе структуры Красной Армии принимали просто-напросто непосредственное участие. Так что командующему ОсДВО, в общем, было чем заняться. Но это официальный пост. После того, как он испросил себе в качестве заместителя товарища Апанасенко, о вопросах собственно военного строительства в пределах округа можно было не беспокоиться. Иосиф Родионович тоже с удовольствием вернулся на прежнее место службы, а с новым начальством практически мгновенно нашел общий язык. Он увидел, чего тот на самом деле хочет, сколько работает и, главное, оценил способы, которыми Черняховский добивается своих целей. Поэтому очень скоро они начали работать в полном взаимопонимании, как единое целое.
По сути, Ивану Даниловичу вручили всю полноту власти на Дальнем Востоке. Стоит ли говорить, что и территория, на которую эти полномочия распространялись, так и сам их объем были весьма неопределенными. Предполагалось, что он определится на месте, сам. Изобретенный под давлением крайней военной необходимости механизм Представителей Ставки, в общем, доказал свою эффективность, и в ГСТО, в общем, не видели причин, по которым это не сработало бы теперь, в мирное время. Да, прецедентов не было. Да, на первый взгляд, такая полнота власти в столь удаленном регионе таила в себе некоторую угрозу. На самом деле особого риска не было: до сих пор ни у кого, ни при проклятом царизме, ни при новой власти государство особых успехов в освоении Дальнего Востока не стяжало. И на момент принятия решения надежных способов к решению этой задачи тоже не было видно. Так что опасностей на самом деле было немного, а если точнее, то всего две: во-первых – провал, а во-вторых – успех. В провале, понятно, ничего страшного, не привыкать, а вот успех бывает разный. Опасность мог представлять собой успех полный и решительный, как разгром фашистов под Сталинградом, а в него, по большому счету, никто особо не верил. Кроме того, было и еще одно обстоятельство. Война открыла советскому руководству еще одну истину, вовсе невероятную: некоторым людям можно доверять. Умение доверять, понятно, не обозначало доверчивости. Обыкновенный навык, который дается опытом. Этому, – можно, этому – нельзя, этому – до определенного предела.
В конце концов, с Дальним Востоком и его проблемами все равно надо что-то делать, так почему не попробовать еще и эту схему? Этому человеку верить можно. Он изъявил желание, так что стараться, работать не за страх, а за совесть – будет. А снять, если что, никогда не поздно.
Спустя самое короткое время после того, как он принял дела, истинное положение дел открылось перед ним во всей неприглядности. Точнее, это был целый ряд неприглядных истин, главной из которых была такая: Восточная Сибирь вообще и Дальний Восток в частности СССР по большому счету не нужны. Точнее, были лишними в его народно-хозяйственном комплексе. То сравнительно немногое, что здесь добывалось и делалось на потребу остальной страны, не окупало затрат на снабжение, охрану бесконечных рубежей малолюдных краев, защиту и транспортное обеспечение. Парадокс, но малорентабельным было даже золото Магадана.
Разумеется, это произошло не сразу. До этого ему пришлось убедиться, что он буквально ничего не смыслит в экономике. То есть настолько, что до сих пор вроде бы и не знал о существовании у нее каких-то законов. Нет, ему, понятно преподавали все то, что сказал на эту тему товарищ Маркс, но книжное знание тем и отличается, что до поры кажется не имеющим отношения к реальной жизни. Слишком многие, столкнувшись в жизненной ситуации с книжным случаем, испытывают самое искреннее удивление. Специальная литература вкупе с академическими знаниями, по большей части, идет впрок только тем, кто прочувствовал. Зато когда это произойдет, люди учатся, как правило, быстро. Умные люди. Можно даже считать, что это самая правильная последовательность, когда тех, кто по-настоящему умеет, просто нет. Да и то сказать, в случаях непростых чужие рецепты идут впрок только тому, кто сам пару раз пробовал изобретать велосипеды. А случай с советским Дальним Востоком, относился, мягко говоря, к непростым.
Он очень скоро заподозрил, что в глубине души это осознавали если не все, то многие. Вот только тема являлась настолько неприличной, даже запретной, что ее не то, что не обсуждали, а даже от себя самих гнали эти опасные мысли. Понятно, что хозяйственные соображения не могли считаться решающими: тут жили миллионы советских людей, для которых именно этот далекий край являлся той самой Родиной. Вот только легче от этого не стало. Убедившись в реальном существовании такой штуки, как хозяйство, он с безнадежной ясностью увидел перспективу нескольких десятилетий. Все – в последнюю очередь, потому что каждый раз, неизменно, находятся дела и территории поважнее. Чем дальше, тем сильнее будет отставание края от остальной страны, тем ниже будет жизненный уровень, и люди под разными предлогами и по разным причинам начнут уезжать туда, где больше жизненных благ и возможности реализовать себя, чем меньше будет рабочих рук, тем меньше станет отдача территории и круг замкнется. Так в один прекрасный день может оказаться, что единственными обитателями громадных территорий являются исключительно казенные люди вроде военных и пограничников. Разумеется, социалистическое государство способно противодействовать тенденции плановыми, административными методами, это у капиталистов все нерентабельное перестает существовать моментально, но со временем реально существующий фактор все равно проявится так или иначе, либо же полюбившийся ему край так и останется иждивенцем, ярмом на шее и без того не слишком-то зажиточной страны. И то, и другое, разумеется, было совершенно неприемлемо.
Впору было прийти в отчаяние, но неожиданной опорой для него оставалось воспоминание о страшной осени сорок первого, когда Дальний Восток вдруг очень пригодился. Когда все висело на волоске, застыв в неустойчивом равновесии, эти далекие края бросили на чашу весов свою долю. Самый важный ресурс, около полумиллиона вполне кондиционных молодых мужчин. На подступах к Москве, на ее улицах появились эти добротно одетые, спокойные, улыбчивые ребята, как правило, – среднего роста, плотные крепыши, – и все изменилось. Город успокоился, паника как-то очень быстро улеглась, а души начало покидать отчаяние. Солдаты на позициях стали драться спокойнее и злее, без былой обреченности, и это немедленно укрепило фронт, а командиры получили, наконец, возможность оглядеться и не действовать в пожарном порядке. Он помнил слезы на глазах женщин, увидавших, наконец, свежие, уверенные в себе, находящиеся в полном порядке части. Бог его знает, почему именно их появление вызвало такие надежды, только они их действительно оправдали. Как-то очень скоро в безжалостной, неумолимой, неуязвимой вроде бы машине фашистского блицкрига вдруг что-то хряпнуло, заскрежетало, заискрило, задымило смрадным дымом, она застряла в заснеженных полях, а потом попятилась впервые с начала этой войны. Это память чувства той осени, ее не обманешь. А ведь не устояли бы, не будь у страны этих далеких краев. Очень может быть. Похоже на то.
Прецедент на самом деле страшная сила: то, что произошло однажды, по крайней мере возможно и может повториться, и если Дальний Восток однажды смог дать стране то, чего ей не хватало в отчаянный момент, значит, это может происходить и впредь. Нужно только придумать – как. Легко сказать. Так же легко, как повторить хлесткую фразу Ломоносова относительно прирастающего Сибирью могущества России. До сих пор как-то ни у кого ничего не выходило, а думали, – сам с собой Иван Данилович мог быть откровенным, – люди не глупее его и уж, по-всякому, опытнее. Здесь, как и везде, имелись краеведы-фанатики, профессионалы и любители, целиком погруженные в историю родных мест. Подсказать чего-нибудь, они, понятное дело, не могли, он скоро перестал тратить время на общение с ними, но кое-что из этих бесед и корявых писаний почерпнул.
Освоение шло с переменным успехом. Первые русские здесь чаяли ограбить и разбогатеть, в чем, на первых порах, и преуспели, но чтобы грабить систематически, надо иметь – кого, и наплыв лихих людей иссяк. И возобновился, когда был разработан и отлажен немудреный механизм сбора дани пушниной. Заселение края тормозилось, и когда иссякал прежний источник быстрого обогащения, и в тех случаях, когда далеко на Западе находили более короткие пути к богатству. Не важно, «в Европах», или в коренных российских губерниях, потому что отсюда, по большому счету, особой разницы видно не было: когда настало время пароходов и железных дорог, по сравнению с углем и железом доходы от пушнины не смотрелись. Пожалуй, не намного меньшее, чем пряник богатства, значение имел кнут. Если проще, то сюда драпали от родимых властей, помещиков, урядников и митрополитов, от барщины, десятины и рекрутчины те, кому не нашлось места в более западных вариантах Земли Обетованной. На Дону, на Волге, даже на Урале. Когда находилось время и силы у государства, оно тоже предпринимало определенные усилия, чтобы как-то обжить и освоить восточные земли, и если они предпринимались вовремя, что-то удавалось, в Сибири вставали великие города и начинало казаться, что дело наконец-то стронулось с мертвой точки и дальше пойдет само. А потом прилив опять иссякал, в государстве начинались очередные неприятности, и все повторялось снова и снова. Рывки и конвульсии. Почему получалось? Почему не получалось? Почему то получалось, то нет? Во всем этом, судя по всему, присутствовала какая-то причина фундаментального характера, а он ее не видел в упор и не имел никакого представления о ее природе. Разумеется ему, как любому ответственному человеку на его месте, приходили мысли о решающей роли транспорта в развитии восточных территорий. И еще о том, что тут проживает слишком мало людей, чтобы надежно взять все эти бескрайние земли вместе со всем, что расположено на них и находится под ними. И о необходимости развития индустрии темпами, опережающими развитие остальной страны. Все то, что относилось к категории истин, против которых не поспоришь. И от которых не было ни малейшего толка. Одна проблема мешала решить другую, и выхода видно не было. Не то, чтобы тяжкие, а сложные, непривычного уровня раздумья никак не мешали ему в повседневных делах, деятельная натура и навыки человека военного делали для него кабинетный стиль работы практически невозможным. Наматывая тысячи километров каждый месяц, если не каждую неделю, он норовил во все вникнуть сам, переговорить с как можно большим количеством людей, а не только с начальством, менял явно негодных людей, устранял наиболее очевидные глупости, объяснял, разносил, угрожал. То есть делал все то, без чего ни одно дело не только не будет сделано, а скорее, начнет потихоньку разваливаться. Но совершенно не характерные для него прежде поиски сути продолжались тоже. Очевидно, он продолжал думать над всем этим даже во сне, потому что однажды проснулся с мыслью вполне идиотской, как то и положено просоночным мыслям: в тех рамках, которые ему положили и которые положил себе он сам, задача не решается. Обдумал ее снова, и снова поразился ее бездонной глупости.
Он приказал побыстрее, и поэтому из Хабаровска в Домодедово его доставили на «тэшке». И, поскольку мысли о транспорте не покидали воеводу сибирского никогда, он отметил про себя, что машина точно так же может взять на борт и сравнительно быстро доставить в Москву не одного, а несколько десятков пассажиров. «Не забыть, – на ходу записал он в блокноте, – поговорить пасс. сам. Ирк. ав. з-д». Пусть посмотрят, нельзя ли сделать на основе «тэшки» пассажирский вариант. Пилот говорит, что машина экономная, топлива жрет умеренно. Не весь выход, но, может быть, его часть. При всей занятости, на пленарных заседаниях ГСТО время от времени надо было бывать самолично. Чтоб не забывали и не расслаблялись лишнего. Да и вообще. Понюхать, чем пахнет, какие ветры дуют. И обсудить глупую утреннюю идею в неофициальной обстановке, чтоб не со всеми вместе, а с понимающими людьми. Как говорят буржуи, «кулуарно».
– Знаешь, тезка, – сказал Ковалев, – ты на это дело плюнь. Забудь. Нет у страны таких денег. Тридцать восьмой – помнишь? Войной не то, что попахивало, а прямо-таки воняло, на армию ничего не жалели. Так вот когда мы подняли вопрос, на новых территориях перешивать колею на союзный стандарт, – так и то не дали. Уж больно, говорят, дорого. В сорок первом им дешевле стало… А ты о чем? Тут сумма на порядок, как минимум. А, скорее, раз в двадцать. Навскидку тебе ни я, никто не скажет. Да это все равно, в двадцать, в три, или столько же. Нет таких денег, нет!
– Знаешь, Иван Владимирович, – задумчиво проговорил Черняховский, – объясни мне, бестолковому, что такое – нет денег? Не у меня в кармане, это я не забыл, а у государства? Вот веришь ли, у экономистов спрашивал, так никто ничего так толком и не сказал… По-моему, они и сами этого не знают. Или забыли.
– Тебе же не цифра нужна, нет? Тогда это просто. Отсутствие денег в стране обозначает, что ее жители, работая целый день, обеспечивают себе кусок хлеба на этот день, и ничего на завтра. Ни себе, ни другим. Поэтому если они, кроме того, еще будут делать тебе магистраль, то хлеба им не хватит, и они умрут с голоду. Ты слыхал молитву, «Отче Наш»? Там совершенно точно сформулировано именно это положение: «хлеб насущный даждь нам днесь» – дай хлеб необходимый, чтобы выжить сегодня. Говоря по-научному, нет прибавочного продукта. По любой причине. Как только он появляется, появляются и деньги.
– Понятно… – протянул он, приняв ответ за заковыристую шутку, не желая шутить и не успев разобраться в недлинной, но непривычной мысли, – ну, это я всегда знал.
– Молодец. А до нас вот только сейчас начало доходить. А до многих до сих пор не дошло. Так, чтобы до конца. До кого по глупости, до кого – по старости, а до кого – по избалованности.
– Чего-то, – настороженно проговорил Черняховский, который уже понял, что шутки наркома достаточно серьезны, – я вас не пойму. Кого тут в Совете баловали? И кто?
Ковалев угодил в номенклатуру не так давно, зато в тридцать восьмом. Это сказывалось.
– Да так. Не обращай внимания. Лишнего сболтнул.
Похоже, война кончилась, а тут до спокойствия было куда как далеко. Уже начали делить друг друга на «понятливых» – «непонятливых», да еще, вдобавок, выделили фракции «стариков» и «избалованных». Вообще говоря, шибко напоминает стиль товарища Сталина, и, если у него получится, то недалеко до какой-нибудь «антипартийной группы». Не дай бог, конечно. Но могли вырасти и достойные ученики. Да кто бы ни был, – нашли время, суки.
– Я тут знаете, что подумал? Транспорт все равно половину восстанавливать половину – переделывать. Значит, и мощности под это дело. Так, может, заодно как-нибудь? Если заложить с избытком?
– Не-а. – Ковалев помотал головой. – Масштаб, говорю, такой, что заодно не выйдет. Кого обмануть хочешь?
– Не имею такой привычки. – Черняховский упрямо выставил подбородок. – Сроду правду говорил. И по транспорту с содокладом все равно выступлю!
– И в два счета погубишь все дело. Запросто. Сначала с Кагановичем поговори, на нем проверь. Он на этом деле собаку съел. Попробуй перетянуть его на свою сторону, большое дело будет. Только все равно зря ты это. Не вовремя.
– Во-во. Только, сдается мне, так будет и потом. На словах: «Сибирь то, Сибирь се» – а как до дела, то вечно не вовремя. А я тут подумал, как раз очень даже вовремя! Так, что такой момент не повторится, может, сто лет. Может, вообще никогда. Сам же, между прочим, надоумил…
– В чем это? – В голосе наркома чувствовалась некоторое беспокойство. Как бы чего не вышло. – Что-то не припомню.
– Да ничем! – Ожесточенно ответил генерал. – Мелочи. Проехали.
– Слушай. Тебе меня в этом деле никак не проехать. И не объехать. Так что давай, говори лучше. А то ляпнешь сдуру, а мне отвечать… Что за момент такой!
– А то момент, что как раз сейчас работать за пожрать, за в тепле и, главное, при деле, очень даже согласятся. Мно-ого народу! А через год-два может оказаться поздно.
– Да откуда ты это взял-то? Сроду лишних рабочих рук не было, а сейчас и тем более нет.
– Это в Союзе нет. А в Европах – безработица. Так и называются: «лишние люди». Чай, – читал в «Труде» про гримасы капитализма? Так что брать надо, пока дешево!
– А вот про это ты не то, что не говори, но даже и не заикайся! Враз сгоришь на непонимании политического момента! Пообещай, что ЭТУ тему не будешь даже затрагивать.
– Обещаю, что поговорю сначала с Кагановичем. Это ты меня здорово надоумил. Спасибо.
– А что? Это он тебе все правильно говорил. Явная политическая близорукость, и если ты поставишь вопрос официально, то по тебе врежут со всех сторон. И я врежу, так что тогда не обижайся. Не говори потом, что не предупреждал.
Иван Данилович какое-то время смущенно молчал, понимая, что с этой позиции старого хитрого сановника не сбить, и дальше он никуда не продвинется ни в одном из направлений.
– Да понял я! Мне это для себя надо, понимаете? Сам понять хочу. Почему бесхозяйственность? Почему не даст народно-хозяйственного эффекта?
– Да потому, чудак человек, что слишком долгие пустые перегоны. На тысячи километров некому твои грузы ни получать, ни отправлять. По пустому месту рельсы кидать. Это в Европе на каждом километре потребитель, а у нас каждый лишний километр – лишние копейки из бюджета. Лишний труд зря. Старую нитку расширить, залатать-обновить, еще куда ни шло, для военной нужды, всем понятно, это еще поддержат. А новые кидать? Не-ет, плюнь лучше, забудь.
– Выходит, не нужны дороги?
– Да нужны-то нужны… Вот если б была готовая, эксплуатацию оправдала бы, это да, а постройку – не-ет. Так эта дыра в бюджете и будет висеть. Полвека провисит, никуда не денется. Вот если б поток груза в десять раз больше, имело бы смысл подумать, а на то, что есть…
Он сморщился и пренебрежительно махнул рукой.
– Ладно. – Вздохнул генерал. – Видать, ничего не попишешь. Будем и дальше жить на отшибе. Только неправильно это как-то. Все равно неправильно. Да одной рыбы…
– Ага. Ты ее сначала поймай. Да переработай. Да перевези. У тебя, к примеру, есть на чем ловить? Сейнеры, плавбазы? А холодильники? А консервные заводы? Нету? Делать надо, почитай, заново? Так это еще один проект! Понял? Пока солнце выйдет, роса очи выест!
– Так это что получается, никогда из бедности не выбьемся? – Глухо проговорил командующий. – Старайся – не старайся? А это вам, значит, не политический вопрос. У нас ведь не Запад. Мы, большевики, за все отвечаем, свалить не на кого. Не боитесь, что доведем людей, и они нас того… попросят?
– Ты, Иван, давай без демагогии!
– А я думал, что демагогия, это когда обещают светлое будущее, а сами не знают, как его добиться. Да и, откровенно говоря, ни на грош в него не верят. – И, видя, что собеседник начал наливаться дурной кровью, поспешно докончил. – Не-ет, Лазарь Моисеевич, мы просто обязаны найти решение. Передумать всех на свете, а дело сделать. Больше не за счет надорванного пупа, а за счет коллективного разума партии. И, – знаете что? Подать-то это можно под разным соусом. Да, если подумать, так это и не соус вовсе…
– Излагай…
– … И, помимо нерушимых принципов учения Ленина – Сталина, есть еще и тактика революционной борьбы, товарищи. Большевики могут и должны использовать ресурсы капиталистических экономик, поскольку это способствует построению справедливого общества. Великий Ленин пошел на громадные нравственные издержки, но инициировал введение новой экономической политики в качестве временной меры. Во время первых пятилеток партия с успехом использовала кризис капитализма для привлечения буржуазных спецов и технологий для ускоренной индустриализации, и результат вам известен, товарищи. Наконец, совсем недавно, мы пошли на то, чтобы вступить в прямой военный союз с ведущими капиталистическими странами ради победы над немецким фашизмом и японским милитаризмом, и добились величайшей победы в истории человечества. И я не вижу, почему нам и на этот раз не поступить сходным образом: использовать трудности послевоенного периода в других странах, чтобы не только справиться со своей разрухой, но и заложить прочный фундамент собственному развитию на ближайшее будущее и дальше…
– Можьно рэплику? Два слова?
– Да, товарищ Сталин…
– Товарищ Черняховский говорит правильные слова. Только слишком общие. Пора перейти к конкретным предложениям. Ми видим, что они у командующего округом есть. И еще: нэ надо про учение Сталина. Как будто похоронили уже. Извините…
– Хорошо… По моему мнению, товарищи поправят меня, если я ошибаюсь, планируя развитие транспортной системы на востоке страны, мы совершенно неправильно оцениваем условия задачи. Исходим из того, что необходимо соединить европейскую часть СССР с редко населенным, слабо развитым в экономическом отношении Дальним Востоком. Если ставить вопрос таким образом, то, действительно, строительство дорог, позволяющих увеличить грузопоток во много раз, экономически нецелесообразно на перспективу десятка лет в лучшем случае. Это ошибка. На Дальнем Востоке проживает почти сорок процентов человечества. Густонаселенная Япония, густонаселенный Корейский полуостров. И главное, конечно, Китай. Если поставить своей целью создание транспортного моста от густонаселенной Европы до еще более многолюдных стран Востока, картина меняется. Грузопоток возрастает в десятки, сотни раз. Затраты на строительство окупятся во вполне обозримом будущем, и затем страна будет извлекать из своего положения чистую прибыль. Соединив в экономическом отношении две трети населения Земли накоротко, коротким, значит, путем мы станем главными мировыми транзитерами. Скажу еще: осуществление проекта необратимо подорвет положение Англии и Америки как главных мировых перевозчиков. Теперь или никогда, товарищи. В Европе разруха и послевоенная депрессия, безработица местами до шестидесяти процентов, предприятия сидят без заказов, но, при этом, как уже говорили, отчаянный товарно-сырьевой голод. Экономика замерла в мертвой точке, и нет силы, чтобы стронуть ее с места. Капиталисты ухватятся за масштабные заказы, как утопающий за соломинку, даже понимая, чем это может обернуться в перспективе. Уникальный шанс за ничтожную долю цены получить очень многое, товарищи. Куда больший даже, чем в начале тридцатых годов. Тут и такая вещь, как непомерная милитаризация страны, связанная с недавней войной, в данном случае играет нам на руку, поскольку послужит нам хорошей защитой от военного вмешательства на период реализации проекта. А потом станет поздно чему-то мешать. Это в точности, как на войне, товарищи. Успеем до того, как отвердеет единый фронт капиталистов, и получим шанс навсегда стать связующим звеном между Востоком и Западом, возможность, при случае… воздействовать и на тех, и на других без применения военной силы. По крайней мере в прошлые времена только ради одной такой, или даже гораздо меньшей возможности затевали войны, причем не худшие цари с королями, вроде Петра Первого. Разумеется, для нас, большевиков, это неприемлемо, но если уж так получилось… Грех не компенсировать хотя бы отчасти понесенные нами военные потери.
Рокоссовский с интересом посмотрел на докладчика, как будто не узнавая его. Видать, солоно дались ему эти считанные месяцы. Ай да Ванька. Как дошло до дела, даже слова стали другие. Если из этой затеи что-нибудь выйдет, надо и себе попроситься на воеводство. К примеру, – в Польшу. Чем плохо? И дело интересное.
– У вас все? Товарищ Ковалев?
– Что – Ковалев? – Нарком недобро усмехнулся. – Построите – будем эксплуатировать.
И это надо учесть. Не годится, если люди расширение хозяйства воспринимают только как лишнюю головную боль: люди должны быть заинтересованы в нем, как морально, так и материально. Пометить. Подчеркнуть. И отметил про себя, что еще совсем недавно одна мысль об этом была бы крамольной. Точнее: «идеологически невыдержанной».
– Товарищ Жуков?
– Я не очень понимаю, о чем идет речь. Какой Восток? Япония раздавлена, и, судя по настрою наших американских союзников, подняться ей они не дадут. А Китай… ну, несерьезно это, товарищи! Нищая, отсталая на столетия, раздробленная страна, охваченная гражданской войной. Помощь, исходя из интернационализма, я еще понимаю, но каким образом Китай может быть нам какой-то там опорой? Там же ничего нет, кроме нищих китайцев.
На обратном пути, когда он поневоле принимался дремать в самолете, до него дошел смысл Ковалевской максимы относительно насущного хлеба. Может быть, понимание это отличалось от понимания автора, но в нем тоже содержалась доля истины. То, что человек получает сегодня, должно иметь хотя бы сопоставимый размер с тем, что он вкладывает в дело отдаленного будущего. Равенство тут невозможно, поскольку обозначает прекращение развития, но и несопоставимость не может длиться долго, потому что в таких случаях человек со временем теряет охоту к труду.
Великая Блажь II
Вот он всю жизнь считал себя человеком рациональным. По крайней мере, хотел так считать, потому что на самом деле это было не так. Увлекался, и порой очень серьезно. Людьми, идеями, проектами. Но тут, прислушавшись к обсуждению, неожиданно для себя дал волю воображению. Обсуждение становилось все более бурным, но не это стало главной причиной вдруг возникшей мысли. Мысли-образа, мысли-метафоры. Если хотите, – мысли-картины. Он вдруг подумал, что стране нужен хребет. Насыпь таких размеров, что ее можно было сравнить с настоящей горной грядой. Не слишком высокой, но чтобы от западной границы – и до края Сахалина. Видение, хоть и мимолетное, было прямо-таки болезненно-ярким. В прямом смысле. Толчки бешено пульсирующей крови отдались в висках болью. Разумеется, он не подал вида. Никак не показал, что вообще принял к сердцу вопрос, поднятый Черняховским. Он-то – ни сном, ни духом. Свято уверен, что выдвинул просто-напросто хозяйственный проект, хоть и масштабный. Нужный ему для дела, за которое он взялся. Которое на себя взвалил. И – молодец, нашел более общий подход, в рамках которого проект мог стать рентабельным. Вот только полного понимания того, что это будет представлять собой на самом деле, у него все-таки нет. Скорее всего, пока. Наберется опыта и будет видеть такие вещи сразу, на автомате. А на самом деле «хребет» СССР по сути окажется становым хребтом всего континента. Для того, чтобы понять это, достаточно посмотреть на карту. Там все настолько наглядно, что не нуждается ни в каких комментариях. И практические выводы надлежало делать исходя именно из этого положения. И главный вывод звучит так: сооружение должно соответствовать. Не только назначению, но и, – так сказать, – значению. Роли, которую предстоит сыграть. Но, по непонятным причинам, затея слишком многим не нравилась. Ему говорили… Ему много чего говорили.
– Ряд новых технологий позволят довести скорость обычных составов, с колеей стандартной ширины до трехсот километров в час. А в обозримой перспективе – до трехсот пятидесяти – трехсот семидесяти. И это обойдется во много раз дешевле, чем так называемая «Широкая Колея»…
– Замечательно, превосходное достижение, да. Обязательно надо разработать и испытать. Построить на главных пассажиропотоках в Европейской части СССР. Москва – Ленинград, вместо Николаевской дороги или вместе с ней. От Москвы через Ростов к хлебу Кубани, к курортам Северного Кавказа. Советские люди должны иметь возможность после напряженного труда хорошо, полноценно отдохнуть. Но Широкую Колею – тоже, и в первую очередь. Пусть и на ней будет триста… ладно, двести – двести пятьдесят километров. Этого хватит.
Он не хотел дешевле. Он хотел сухопутную транспортную систему, которая по пропускной способности сможет заменить морские перевозки Восток – Запад, и при этом будет быстрее, надежнее, безопаснее. Да попросту дешевле, наконец. И в спокойные времена, и при любых кризисах. А еще чтобы она был на нашей, имеющей хозяина земле, под хозяйским доглядом, не боясь ни блуждающих рейдеров, ни подводных лодок в океане. В ничейном океане, надо добавить, хотя англичане и американцы явочным порядком считают его своим. Это их устоявшееся мнение так или иначе надо было менять, но когда это получится? И получится ли вообще? Дожидаться манны небесной дело, как известно, сомнительное. Куда полезнее сделать то, что зависит только от тебя, и ни от кого больше.
– Товарищ Сталин, эта ваша «Широкая Колея» никак не вписывается в существующую сеть железных дорог. Мало мы мучились с переходом от союзной колеи – к европейской и обратно? А ведь это мелочи по сравнению с этим… Да чего там – с этим вашим чудовищем! Оно же разрежет пополам, на север и юг, всю транспортную систему страны!
– Где – существующую? Все, что восточнее Кузбасса, нэ заслуживает громкого названия сети. Предлагаю, во избежание дальнейших недоразумений, считать Широкую Колею совершенно другим, особым видом транспорта, занимающим особое место. Нас ведь нэ смущает, что к крупнейшим портам ведут железнодорожные пути? А к железнодорожным станциям – шоссейные дороги? То же самое, ви еще увидите, будет с большими аэропортами, туда проложат метро, шоссе, да. Электрички пустят. А та сеть, что есть, повезет груз от Широкой Колеи – в стороны. Еще и нэ хватит, новые придется строить. И порты при пересечении рек. И аэродромы новые.
Люди упорно не хотели понимать, что после появления Широкой Колеи станет выгодно прокладывать железные дороги там, где они до сих пор были прямо разорительны. И тогда они появятся, будто сами собой. И шоссе. И порты. И аэродромы. Черняховский, – тот понял, умница. Причем, что особенно важно, понял сам, от реальной жизни, а не из книжек. И не от каких-нибудь оторванных от реальности болтунов. И его надоумил, молодец. Вот только до сих пор не в полной мере оценил масштаб того, что понял. Опыта мало, привычки рассматривать проблемы в комплексе, но это со временем придет…
– … И еще: в свете последних достижений открытие сквозного движения по Широкой Колее Восток – Запад может утратить свою актуальность. Или, во всяком случае, претерпит радикальные изменения. Гордость советского материаловедения, сверхпрочные минеральные нити большого удлинения, позволяют создать совершенно новые рельсы. Использование принципа «предварительного напряжения» не только делает их прочность невероятной по меркам совсем еще недавнего времени, но и позволяет создать безопорный пролет колоссальной длины. Висящий в воздухе рельс такой конструкции не прогибается и не деформируется под действием силы тяжести, выдерживая при этом крайне высокие нагрузки. Это позволяет проложить пути на высоте, сократив количество опор и обойдясь во многих и многих случаях вообще без насыпи.
– Нэ могу назвать себя специалистом, но как вы в этой вашей подвешенной дороге решите проблемы со стрэлками? Полагаю, это хорошо, скорее, для локальных транспортных систем, там, где метро дорого, и нужно объединить два объекта бэз промежуточных станций. И еще: нэясно, – каким образом это противоречит Широкой Колее? По-моему, так прекрасно дополняет. Позволяет найти решения при возникновении особых условий, удешевить и ускорить строительство.
Тут он не обошелся без хитрости. О работе Виталия Безуглова ему сообщили раньше, так что он имел возможность посоветоваться со знающими людьми и подготовить ответ. Собеседник этого не знал и поэтому получил нужное впечатление. Вообще очень полезно бывает знать то, о чем другие даже не догадываются. Даже если это какая-нибудь пустяковина.
Но еще чаще высказывались возражения другого плана. В струе разговора, поднятого после памятного доклада Георгием Жуковым. Какое нам дело до чужаков? До европейцев и японцев с китайцами? В основе его мировоззрения в данном вопросе лежало совсем простое представление: чем хуже чужакам, чем слабее они, беднее, – да чем их меньше! – тем лучше нам. Вряд ли оно четко сформулировано, и, если приписать ему такую позицию напрямую, он искренне обидится. Он свято уверен, что без чужаков в любом случае лучше, а любое действие на пользу другого народа почитает ущербом для своего. И ведь таких много, если ни большинство. Если не во всем, то во многом они, скорее, правы, но только не во всех вариантах. Потому что если пытаться непременно все делать самому, то и сам надорвешься, и дела не сделаешь. Ради того, чтобы использовать других людей, можно пойти на то, что они используют тебя. Тут уж как на войне, кто – кого, вот только, в отличие от войны, нет ничего страшного, если в итоге обе стороны почувствуют себя победителями.
Другие сильно опасались, что общение с большим числом иностранцев внесет смуту в сознание простых советских людей. Отравит буржуазной заразой их неискушенные души. Практика показала, что не так оно страшно, хотя опасения, надо сказать, были сильные. Решения о том, что делать с миллионами мужиков, что дошли аж до французской границы, повидав, помимо Германии, Бельгию, Голландию, Австрию, не говоря уж о Финляндиях с Норвегиями, принимались всерьез и на самом высоком уровне. Только известные события помешали провести их в жизнь, но ничего страшного с неокрепшими душами русских мужиков в конечном итоге не случилось. Трудно сказать, – почему. То ли Европа была не в лучшей форме, то ли выручила спесь победителей. Вполне естественная и даже, если так допустимо говорить о спеси, – заслуженная. Было и третье, пожалуй, еще небывалое.
Российская армия при царе-батюшке бывала бита неоднократно, проигрывала и сражения, и целые войны, то же самое можно сказать и о Красной Армии РСФСР и Советского Союза, но это не мешало жить крепко въевшемуся в массовое сознание русского народа мифу о собственной непобедимости. Все, что ему противоречило, просто не задерживалось в головах, скатываясь, как вода с навощенной бумаги. Это не война была, а так. Это мелочи. Это не по-настоящему. Это было при царизме. А вот Петр Первый! Вот 1812-й год! Вот Великая Отечественная! Но при этом всегда существовало и другое. Тщательно скрываемое даже от самих себя чувство собственной неполноценности перед мастерством, порядком, обустройством Европы. Перед ее деловой хваткой, лоском ее городов и гладью шоссе, блеском ее витрин и тучностью ее ухоженных полей. Перед тем, что они неизменно обгоняли Россию, делая то, что нам пока не по зубам, заставляя страну тащиться по своим следам, повторяя чужие «зады». Перед тем, что вещи европейской работы неизменно оказывались лучше, аккуратнее, красивее, сложнее, а в тех нечастых случаях, когда это было не так, они лучшими считались. Предел гордости, сделать: «Сукнецо не хуже голландского» – а о «лучше» уже и не думали. Так считали, в общем, все и всегда, хотя и хвастались, хотя и выискивали малейшие свидетельства своего приоритета, высасывали из пальца и всячески раздували, это не мешало молчаливому признанию: Европа умеет больше, Европа умеет лучше, Европа прогрессивнее. Европа более развита. А вот теперь кое-что изменилось.
Уже не одни только сырые идеи, что пришли в отдельные светлые головы, торчащие над убогим средним уровнем, как колоски на поле Фразибула, даже не отдельные уникальные образцы, сделанные на уровне шедевра усилиями всей государственной машины. Громадные серии сложнейших изделий, превосходящих мировой технический уровень и сделанных с безукоризненным качеством, без всяких скидок на условия военного времени. Скромная гордость мастера, тихо знающего про себя, что он – просто-напросто лучший, в своем роде не слабее гордости героя, когда он, не остыв от схватки, попирает тело поверженного чудовища. Да будь ты кто угодно, да пусть я вынужден повиноваться тебе: вот только ты не можешь, и никто не может, а вот я, я – могу!!! Теперь какой-нибудь механик мог по полному праву скривиться, сунувшись в нутро американского судового дизеля или в мотор английского самолета. А радист мог спокойно, никого не боясь, сказать, что у союзников рация – удобнее тем-то и тем-то, потому что знал: по основным характеристикам «РПП – 10» кроет ее, как бык – овцу. Это дорогого стоит. Гораздо дороже, чем может показаться. То ли еще будет. Я могу лучше и поэтому, со временем, и жить буду лучше. Я – сделаю!!! Не везде, не всегда, но это, во всяком случае, начало реально, без натяжек присутствовать в современных советских мозгах. Даже и без этого, знаете: «А зато мы вам та-ак дали!».
Говорили и о нем.
– … Неприятно смотреть. Не понимаю, он что, – до сих пор считает, что мы наперегонки кинемся выполнять его капризы? Даже самые бредовые? Уняться бы пора, чай не мальчик, а, наоборот, гриб старый… Веришь, иногда, вроде, дело говорит, а я все равно принять не могу. Понимаю, что неправильно это, некрасиво, а с собой ничего поделать не могу.
– Ну, – усмехнулся собеседник, – это не по-христиански.
– И давно в верующие записался? Раньше, вроде, помалкивал обо всех этих поповских штучках, нет?
– Я крещеный, ты крещеный. В сорок первом, под артобстрелом, под бомбежкой, не молился ему, которого нет? Поди, и перекреститься случалось? Это потом, как кончится: «Тьфу ты. И что это на меня нашло?». Тоже как-то… некрасиво.
– Да знаю я! Умом понимаю, а как вспомню, как дрожал перед ним, боялся лишнее слово сказать, когда надо бы, как тянулся, глазами ел… И ведь во многом искренне! Не могу с собой ничего поделать. Как гляну, так прямо такая злоба поднимается, что… Его что, – обязательно держать на этом месте?
– А кто тебя спросит? – Он помолчал. – Не ты первый поднимаешь вопрос. Если хочешь знать, то, если тебя он своим присутствием всего-навсего раздражает, – то другие его вовсе ненавидят. Особенно те, кто больше всех перед ним гнулись. И, – интересное совпадение, – те же самые лица больше всех замазаны в крови, а теперь на нем норовят отыграться за свой былой страх, за подлость свою. Никита. Климушка.
– Ну, этот – особая песня. Тут я – не я буду, а вопрос поставлю, и не уговаривай…
– И не подумаю. Прежде всего он просто не нужен. Ни умения. Ни толку, ни влияния, а место занимает. А насчет Председателя ты лучше охолони. Антонов его не отдаст. Устинов. А самое главное, – Александр Михайлович против.
– Чудны дела твои, господи. А ведь среди заговорщиков чуть ли ни в вождях ходил.
– А кому еще, если предстоит делать дело? Он против просто потому что считает, – без товарища Сталина будет хуже. А Антонов даже объяснил, почему именно. Ты ж не все знаешь. – Он замолчал, прикуривая новую папиросу от прежней, хотя имел зажигалку в кармане галифе. – За два месяца пропало восемнадцать уполномоченных. Причем не под Львовом где-нибудь, не на Алтае, а в Подмосковье, на Орловщине, под Тулой, – и тому подобное. Ты понял? Нет трупа, – и почти ничего нельзя выяснить. Нет тела, – нет дела. Это тебе не кулаки в двадцатые годы. Сколько у нас прошло их, – через разведку, от полковой и до ДШР, десант, штурмовые группы, сколько в диверсантах побывало? Молчишь? Я тебе скажу. Четыреста тысяч без малого, только тех, кто с руками – с ногами. Полмиллиона лучших в мире убийц, привыкших лить кровь, как воду. А те, кому сейчас двадцать, так еще и немцами не биты. Это они били. А тут еще и политических из лагерей повыпускали полно. А держать, пока суд, дело, организации-реорганизации, аресты-расстрелы, – некем. Так хоть им. Мудрым, гениальным и никогда не спящим.
– Так хоть поговорили бы с ним. Объяснили, как все обстоит, и как себя вести. А то он думает, что и правда… Да вот хоть эта его затея, – это ж хрен его знает, что такое! Это сбеситься надо, предложить этакое, когда половина страны лежит в развалинах! Тут дыра на дыре, прореха на прорехе, а он…
Собеседник – сосредоточенно курил, слушая его сбивчивую речь, и не спешил высказывать свое мнение. Наконец, щелчком отправив окурок в урну, осведомился:
– Какая – затея? Я, знаешь ли, последнее время очень внимательно слежу за всем, что говорится на заседаниях. А за тем, что говорит Председатель, особенно. И я что-то не помню каких-нибудь особенных затей. Таких, чтобы вызвали какое-нибудь бурное обсуждение.
– Да бр-рось ты! Все знают про затею с Широкой Колеей, один ты ничего не знаешь! Это уж либо наивность, через край, либо уж лицемерие без меры…
– Иными словами, это не его слова, а только твои мысли. Мой совет: если не хочешь выглядеть глупо, не начинай разговора об этом первым.
– Но ты – со мной?
– Опять бессмысленный вопрос. Потому что непонятно – в чем. Пока, – пока! – среди множества разнообразных вопросов время от времени обсуждаются проблемы транспорта. Председатель чуть-чуть нажимает на то, что транспорт у нас во-первых – разрушен, во-вторых – не обновлялся за время войны и поэтому устарел. А в-третьих за то же время войны в технике имел место заметный прогресс. Все это, вместе взятое, по его мысли должно обозначать, что восстанавливать прежнюю систему не то, что не следует, а прямо-таки недопустимо. Что нужно делать совсем новую, в которую остатки старой в лучшем случае войдут в качестве составной части. Я это понял, и не могу взять в толк, почему не понял ты. Или, может быть, скорее, не принял?
– Я понимаю так, что надо по одежке протягивать ножки. Вот встанем на ноги…
– Так – не встанем. А если встанем, то не скоро. И стоять будем еле-еле. Шатаясь. Если я чего понял из этой войны накрепко, так это одну вещь, совсем простую. Если есть лучший способ проиграть сражение, так это именно латание дыр. Пока латаешь одни, появляются новые, а резервы тают. Пока мы принимали так называемые «естественные решения» вместо правильных, нас били. Как только начали думать, как бы одним ходом решить сразу несколько проблем, немец начал вязнуть. А когда научились… Я вот думаю, именно после этого и началась совсем другая война.
– При чем тут война?
– А при том, что все – то же самое. Ты подумай, подумай, – убедишься. Дело не в том, широкая там колея или узкая, а в том, чтобы реализация одного проекта и заткнула бы большую часть нынешних дыр, и сняла бы побольше проблем в будущем. По-моему – так.
– А это что – решение? Не мне тебе рассказывать, чем на той же войне оборачивались кое-когда красивые решения. По-моему здесь – тот же самый случай.
– Не знаю. И ты не знаешь. И товарищ Сталин не знает. Тут к носу не прикинешь. Надо выдвигать варианты, анализировать и считать, считать, считать. По каждому! Ты умеешь? О! И я нет. Тоже могу только прикинуть. Вот только прикидки хороши в делах, в которых разбираешься досконально. А мы? Я военный, ты военный. Мы даже плохо себе представляем, какие именно факторы надо учитывать. Думаю, что прикидки Председателя пока что поточнее. У него, знаешь ли, опыт. Хочешь совет?
– Ну?
– Я понимаю, затею с Широкой Колеей ты считаешь блажью. Я, откровенно говоря, тоже сомневаюсь. Может быть и такое, что Председатель прав, но полномасштабный проект такие, как ты, все равно зарубят. Так вот, чтобы в любом случае быть на коне, надо взять на себя то, что придется делать в любом случае. С инициативой вылезти. Чтобы, пока остальные копья ломают, мы уже занимались реальным делом. И беспроигрышным. Вон хоть на Ивана Данилыча глянь, на орла нашего.
– Ага. Энергетика там, лес крепежный, кирпич-цемент…
– А еще дорожную технику общего назначения. А еще – асфальт. Да мало ли что. Всякие такие штуки, которые понадобятся всегда. Но! Если у меня выгорит, я тоже буду с самого начала искать комплексные решения. Чтобы каждая частность сама по себе была вроде как Проект. Кое-какие мыслишки есть.
Этого он, понятно, знать не мог и только догадывался. Зато он знал, как облупленных, их всех, и потому и о содержании разговоров догадывался, в общем, довольно точно. Знал, как к нему относятся и мог только надеяться, только молить позабытого бога, чтобы неприязнь, мстительность, злорадство, желание поставить его на место теперь, когда он утратил прежнюю, ничем не ограниченную власть, не пересилили бы желания сделать дело. А то, что эти чувства в разной степени присутствовали даже у слишком многих его нынешних сподвижников, он не сомневался.
Вице-король II: дорогами Братской Дружбы
«Дорогой товарищ Черняховский!
Коллектив Комсомольского авиационного завода поздравляет Вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов вашем трудном деле и большого семейного счастья. Разрешите от лица всего коллектива преподнести Вам скромный подарок: сделанный по специальному проекту скоростной самолет нового типа. Надеемся, что с ним даже наша просторная, великая Сибирь не покажется Вам бескрайней. Самолет мы делали Командующему Округом, но специальный проект и изготовление руками лучших работников – это лично Вам, за ваше горячее сердце, за вашу горящую душу, от тысяч наших душ и сердец…»
Подъезжая к условленному месту, товарищ Калягин еще издали увидал приткнувшийся в сторонке самолет командующего округом. Изящную, как ласточка, серебристую птичку нельзя было спутать ни с какой другой из-за особой конструкции отогнутого назад крыла. И хоть не чувствовал он за собой никакой вины, сердце все-таки щемило: когда начальство прибывает на запланированное мероприятие первым, это не есть хорошо. Оно этого не любит, даже самое понимающее и демократичное. Недовольства, пожалуй, не вызовет, а хорошему отношению не способствует. Генерал Ма не подвел: обещанные ресурсы ровными рядами сидели на корточках, тесно прижавшись друг к другу, но и при этом занимали очень порядочный кусок ровной, как стол, степи. Во главе контингента в двадцать пять тысяч голов ровно, в качестве непосредственного подрядчика тоже явился старый знакомец, Ин Цзянь-куа, собственной персоной. Надо же! И не поленился, и не счел ниже собственного достоинства. Видать, – припекло по-настоящему. Впрочем, в прямом смысле этого слова – тоже, потому что август выдался на редкость теплым, и налитый жиром генерал отчаянно потел в своем халате. Он, понятно, обмахивался веером, вытирал круглое, лоснящееся лицо полотенцем, висящим у него на шее, но эти меры помогали не сильно. Располагался провинциальный воевода в походном раскладном кресле под большим зонтом, в окружении свиты мордоворотов в синем, с широкополыми шляпами на головах. Кроме охраны, при его особе находились не один, а целых два переводчика. Александр Яковлевич тоже привел себя в готовность номер один.
– Что он говорит?
– Говорит, что хочет по десять трехлинейных патронов за голову, по винтовке, – за десять голов, по ручному пулемету – за двести пятьдесят и по станковому, – за пятьсот. А еще десять «ЗиС – 3» с двадцатью выстрелами на ствол за все стадо.
– Это как?
– Да, в общем, нормально, но запрашивают, как положено, раза в три.
Иван Данилович мимолетно полоснул китайца скошенным, холодным взглядом, а потом уставился не на него, и не в пространство, а как-то рядом, чуть повыше левого уха генерала. Тот заерзал взглядом, отвел глаза и принялся еще более усердно орудовать полотенцем.
– Переведи ему, что это справедливая, хорошая цена за двадцать пять тысяч здоровых, крепких мужчин. А не за это стадо полумертвых босых оборванцев. Переведи ему, что они не нужны мне и даром, так что пусть забирает этот сброд с собой, чтобы его не пришлось выгонять. Скажи, что за вооружение полнокровного стрелкового полка я всегда найду что-нибудь получше…
Ин Цзянь-куа ощерил редкие зубы и заговорил, быстро и экспрессивно, брызгая слюной.
– Что он там, – хладнокровно осведомился Черняховский, – несет? Чего еще хочет?
– Говорит, что люди в Китае стали редки. Что в провинции был мор, и он с трудом наскреб даже этих. И никто другой ничего подобного не смог бы.
– Ах, вот оно что? Это кем надо быть, чтобы пригнать сюда это чумное стадо, да еще требовать за него плату?! Окружить территорию, выдавить толпу восвояси, ближе, чем на десять метров, к соискателям не подходить! Постой, что он там еще мяукает?
– Говорит, что господин командующий не так его понял, а мор был еще весной…
– Скажи так: по десять патронов, – ладно, одна винтовка за пятьдесят голов, пулеметов пятьдесят и… ладно, тоже пятьдесят. А орудий им хватит пяти… Что он там говорит?
– Говорит, что… ну, в общем, просит добавить.
– Просит? Это другое дело. Скажи, что орудий пять, но по сорок выстрелов на ствол. Могу добавить три миномета и по тридцать мин на трубу. Все! И еще: мы соглашаемся только из присущего нам гуманизма. Если отправить их восвояси, половина не дойдет. А в следующий раз он пусть даже не пробует присылать к нам голых людей. Тут Сибирь. Там, где им предстоит работать, в сентябре по ночам бывают заморозки… Ну что еще?
– По условию он оставляет переводчика Ли с десятью помощниками в качестве наблюдателей с китайской стороны.
– Ладно. Только сдается мне, что мужик этот – большое говно, а мы делаем порядочную глупость…
Когда давно немытые мужчины собираются в таком количестве на, в общем, ограниченном пространстве, запах чувствуется на десятки метров. Вид китайцев потрясал, невозможно и нестерпимо было верить собственным глазам. Здесь собрались люди, лишенные имущества до самого последнего предела, за которым человек окончательно превращается в двуногое животное. Тут выражение «прикрыть наготу» имело самое прямое значение, потому что ни на что кроме эти ничтожные, ветхие лоскуты неопределенного цвета не годились. Каким-то образом с первого взгляда было видно, что это – не бедолаги, которых только что выкинула из домов, сорвала с места, ободрала до нитки война. На корточках перед рослыми, крепкими, добротно одетыми офицерами сидела нищета потомственная, насчитывавшая десятки поколений. Их совершенно неправомерно было бы сравнивать с дикарями, потому что столетиями жить в последнем жизненном тупике способны только самые цивилизованные люди на свете. Китайцы. Любой дикарь отчаялся бы, впал в буйство, сошел на нет, сгорел в считанные месяцы, если не недели.
– Так, – сказал командующий, жестом подзывая порученца – будем работать с тем, что у нас есть… Одеяла – пока отставить. Дрова, весь запас, – сейчас. Бойцам… разложить костры. Из провизии… медицину спросим, но на сегодня из харчей только рис. Весь, что есть, и из резерва. И купите еще. Неважно, у кого, хоть у американцев. Разварить в жидкую слизь. Назавтра, с утра, временный комиссариат, три санбригады и три банно-прачечных отряда. Отправка… отложить до четырнадцати ноль-ноль восемнадцатого. Теперь самое главное: одежда.
– Разрешите доложить? У нас ведь полным-полно армейских складов осталось. Пять раз по стольку обмундируем, и еще останется.
– Отставить. Одежду китайцы будут шить себе сами, до отправки. Я бы их и сапоги тачать заставил, но это уже будет слишком. Как говорится, – вынужден с сожалением оставить эту мысль. Мой немец обещал чуть ли ни целый состав швейных машинок из лагерного конфиската за много лет, и пусть працюют. Потом реализуем среди местного населения.
– Моя не понимай. Роба кули, – засем чена тратить? Все равно сто чена в речка кидай.
– Так пойми, чудак-человек. Там Сибирь. Там твои кули в момент вымерзнут.
– Моя новый таскай. Без генерал совсем шибко дешево. Чена дуван, моя – один, твоя – два…
Какой-нибудь капитан из фронтовиков в ответ на такое предложение, поди, начал бы кипятиться, полез бы в бутылку. Мог бы китайцу и в морду, – но только не он. Слишком давно тут жил, слишком хорошо знал здешние нравы и обычаи, и слишком ясно понимал, что их так быстро не переделаешь. Ему было только смешно.
– Не выйдет, – с видимым сожалением проговорил он, – новые еще быстрее померзнут, там зима начнется.
– Еще новые таскай! – Начал горячиться Ли Гуан-чень. – В Китай кули мало-мало шибко много! Нисего не стоить!
– Вот узнают, – так хрен ты новых найдешь!
– Они знай, – с досадой отмахнулся китаец, – все равно приходи. Столько, сто всех таскай нету. Двух – таскай, оставляй – пять!
– Как ты не понимаешь. Кули сгинут, а робы останутся. Хорошие чена.
– А-а-а, – совершенно по-европейски протянул Ли, мелко кивая, – моя понимай.
Александр Яковлевич развлекался, но при этом даже шуточное взаимопонимание с этим типом ему было как-то противновато. Поэтому он продолжил.
– Вот только Большой Иван, тот генерал, которого ты видел, таких шуток не любит. Шкуру спустит. Он человек, в принципе, добрый, но, если кого-то действительно надо расстрелять, решает это дело быстро. Когда надо, понятно. И еще вот что: те, кто думали, будто его легко обмануть, скоро об этом пожалели. Тут пощады не бывает вообще. Так что боже тебя сохрани… Я предупредил.
Откровенно говоря, он тоже не понимал затеи с пошивом штанов и бушлатов на вате силами самих кули. Дурит генерал.
Страшный опыт перманентной мобилизации времен Гражданской и Великой Отечественной дал советским военным людям невероятное, невиданное в истории умение переработать в некоторое подобие войска любое количество даже самого безнадежного контингента. Невероятное в самом прямом смысле, потому что следующие поколения не могли понять, как это делалось, и не верили, что это вообще возможно. Оно сказалось и тут. К вечеру следующего дня отмытые и наголо остриженные китайцы уже выкопали ямы под отхожие места, натянули палатки, почти закончили временную столовую, вкопали столбы и натянули на них колючую проволоку. Вокруг себя. Чтобы не было соблазна сбежать ночью, унося с собой свалившееся на них неслыханное богатство: поскольку кошмарную ветошь, в которую куталась рабсила, пришлось все-таки сжечь, делать было нечего, и после бани с санобработкой им раздали-таки по комплекту нижнего белья, состоящему из армейских кальсон с завязочками и нижней рубахи. Сапоги и портянки после некоторых колебаний решили пока не выдавать, потому что в таком разе не помогла бы и колючая проволока. В сгущающихся сумерках тысячи фигур в белом выглядели совершенно неописуемо. На завтра предстояли навесы мастерских, установка швейных машинок и собственно начало пошива. Машинки, материал под крепкой охраной и старая знакомая Шпеера фройляйн Виланд к этому времени уже успели прибыть. По приказу Черняховского каждое десятое изделие поступало в собственность работника, поэтому очень скоро у руководства появилась возможность выбирать из числа желающих. Он пошел на этот шаг вполне сознательно, понимая, что несколько рискует, но даже не мог себе представить, каким неслыханным потрясением основ на самом деле было это распоряжение. Ли Гуан-чень пребывал в совершеннейшем смятении. Больше всего его убивала даже не сама по себе неслыханная расточительность русских, а тот заряд разврата, который она в себе несла. Плата такого размера подрывала сами принципы, на которых стояло общество Поднебесной. Кули согласился бы и на в десять раз меньшее, а потом его не только можно, но и нужно было обмануть. Так, чтобы он не только ничего не получил, но еще и остался бы должен. Освященная веками, да что там, – святая традиция. Иначе никак. Да они просто-напросто напугаются!
Люди, подобные Ли Гуан-чень в том или ином количестве водились в Поднебесной всегда. Когда их становилось слишком много, китайцы восставали и страна летела вверх тормашками. Пресловутый русский бунт, бессмысленный и беспощадный, – мелочь, детские игры по сравнению с бунтом китайским. Поля зарастали сорняками, вторгались варвары, которых было некому отразить, генералы и сановники, предав и продав всех и все, думали, кому бы изменить еще и резали друг друга, а там, где прежде жили восемь китайцев, оставался, дай бог, один. А деятелей, подобных Ли Гуан-чень не оставалось и вовсе, потому что они были очень цивилизованными людьми, считали именно себя познавшими смысл жизни и истинными мудрецами, но мудрость их годилась только до тех пор, пока цивилизация, худо-бедно, держалась. Наверное, поганые глисты тоже считают себя шибко умными, вот только, сгубив хозяина, пропадают все, до единого. Справедливости ради, надо сказать, что в безмерной истории Китая также неизменно присутствовали люди другого сорта, наивные, вроде бы, книжники, бессребреники и альтруисты, стараниями которых страна поднималась тогда, когда, казалось, пропали все надежды, некому верить и не во что вбить гвоздя. И тогда все начиналось сначала.
– Насяльника! Нельзя каздый десятый роба кули давай! На сто один мозно. И то многа…
– Что-то я не пойму… Тебе-то какая печаль? Твои они, что ль? Ты вообще кто, – переводчик тут или за начальника над кули?
– Мала-мала – переводцика. Шибка мала-мала – насяльник. Не надо десятый роба давай. Кули стать нахальный, как собака, работай нету!
– Ну, это не тебе решать. И не мне. Генерал лучше знает, кому сколько платить. Тут все в его воле ходят. – Он сжал кулак. – Вот где.
С такими или же подобными разговорами, раз от разу волнуясь все больше, Ли Гуан-чень подходил к нему еще не раз, и Александр Яковлевич решил про себя приглядеть за международным наблюдателем. Первый день массового пошива спецовок прошел, в общем, в штатном режиме. Слушая пронзительные, злобные вопли фройляйн Виланд, полковник думал про себя, что командный голос должен быть именно таким. Образец, можно сказать. В нем, не мешая друг другу, одновременно слышался свист плети, шипение клинка, выходящего из ножен, и лязг затвора, причем уж точно не винтовочного. Орудийного, причем при немалом калибре. Они не имели никакого понятия о немецком, она тем более не знала и не желала знать китайского, но понять себя ценный руководящий кадр из Штутгарта заставила. Некоторые научились, некоторых – заменили, но уже к концу суток машинки функционировали круглосуточно. С работников градом катился пот, но они работали без перерыва, не отвлекаясь ни на минуту и позволяя себе только редкие опасливые взгляды через плечо. Впрочем, на своих работники, – большие, большие, рукой не достать, люди! – начали покрикивать почти сразу, и те беспрекословно подносили плошки с едой из столовой и поганое ведро, дабы те могли справить нужду, не отвлекаясь от производственного процесса. Полковник пытался бороться, наведя подобие армейского порядка, да куда там! Тут действовали порядки куда более строгие, устоявшиеся, и не давние даже, а прямо-таки древние. До него не вот дошло, что новообращенные портные до смерти боятся, что их место тут же похитит кто-нибудь другой. То, что место работы планировалось в качестве постоянного, до них, похоже, просто не доходило. И, тем более, они никак не могли в подобное поверить.
Истинное положение вещей удалось объяснить только с большим трудом, но разогнать по койкам падающих от усталости работников сумели только тогда, когда фройляйн Виланд самолично вывела на предплечье у подопечных личные номера и свою подпись… На следующий день ей для этой цели вырезали из старого каблука специальный штамп.
О восьмичасовых сменах, понятно, не могло быть и речи: минимум двенадцать с принудительной сменой. А уже на следующий день беспрецедентное решение Черняховского начало гнуть под себя ситуацию уже всерьез. Ночью в палатках несколько раз вспыхивали мимолетные, ожесточенные драки, видимо, – за место у швейной машинки. Счастье, что у босяков просто нечем было поубивать друг друга, но, все-таки, несколько раз потребовалось вмешательство автоматчиков. А уже ранним утром, – как узнали, откуда, кто передал? – у проволочного ограждения появились безмолвные серые тени. Работнички передавали им полученные в качестве положенной доли робы, и те исчезали. Охрана, – не мешала, поскольку приказу такого не было, а вот Ли Гуан-чень проявил невиданную активность. Во главе пары подручных бегал, пытаясь поспеть по всему периметру одновременно, визгливо ругался, выдирая ценный товар прямо из рук портных, даже дрался, – но с переменным успехом, а чаще – вовсе без успеха. И вообще – не поспел. Тогда он разослал своих опричников по палаткам и прямо в производственную зону. Он превосходно знал набор заклинаний, при помощи которых можно запугать и принудить к беспрекословному подчинению людей, которым ПО-НАСТОЯЩЕМУ нечего терять, и приступил к этой миссии, но полковник с чувством глубокого морального удовлетворения эту его деятельность пресек. Черт его знает, почему Ли не говорил с ним по-китайски, упорно пытаясь общаться на чудовищно ломаном русском. Очевидно, в глубине души не мог и не хотел верить, что его растленные речения «насяльнику» вполне доступны и, главное, насквозь понятны. Варвар должен быть лохом просто по определению, и это убеждение коррекции не поддавалось.
– Моя, – он растянул губы в фальшивой улыбке, – хранить. Банк. Стобы не пропадай.
– Сожалею, – полковник со знаками различия капитана старательно скопировал улыбку собеседника, – но у нас социалистическое общество и частные банки запрещены. Категорически. За это – казнь. Без пощады. И – вот что. Ты мешаешь исполнению моих приказов, и я сегодня же доложу о твоем поведении своему генералу.
Рассказывая толмачу байки и страшилки с пугалочками о безмерном властолюбии и беспощадной, холодной жестокости Ивана Даниловича, он просто развлекался, извлекая из общения с негодяем маленькое, практически невинное удовольствие, но в данном случае душой не кривил. Безмерно занятый, Иван Данилович, тем не менее, приказал регулярно докладывать, как складываются взаимоотношения с китайскими трудящимися в частности и с китайской стороной вообще. Ежедневно ему приходилось принимать решения такого масштаба, что этот эпизод мог бы показаться мелочью, не заслуживающей внимания, но, однако же, – так. Очевидно, связывал с этим направлением работы серьезные планы на будущее, а потому желал разобраться досконально, в подробностях изучая результаты первого опыта. Как конструктор наблюдает за испытаниями образца новой техники.
Он рассказал все. О социально-психологических последствиях исторического Указа О Разделе Продукции. Об организационных находках фрау Виланд и героических трудовых буднях тех, кто под действие этих находок непосредственно угодил. О многогранной подрывной деятельности, подстрекательских речениях и примерном психологическом портрете Китайского Наблюдателя. О своей реакции на то, другое и третье. Он докладывал, по возможности, казенными словами, с совершенно серьезным и немного печальным лицом и, очевидно, выбрал правильный тон: Иван Данилович хохотал так, что у него из глаз текли слезы.
– Ой, не могу, уморил… хватит уже…
– Да все. Пока.
– Как ты говоришь? Номерочки на руке? – И вдруг посерьезнел. – Но это же ерунда какая-то! Из-за робы, – и такие страсти? Ей же красная цена – грош в базарный день!
– Ну, не скажи. Цена ей три пятьдесят по довоенным ценам. Или, примерно, доллара полтора по ценам тридцать восьмого. Я почему в долларах: запись сохранилась с тех времен. – Он достал потрепанную записную книжку и открыл на заложенной странице. – Вот… доход китайского крестьянина, хоть и арендатора, но все-таки не босяка-кули, после всех налогов и выплат, как раз и составлял те самые полтора доллара…
– В месяц?!
– В год, товарищ генерал армии. В год. Вот и представьте себе самочувствие человека, который получил возможность получать три годовых дохода, – за день.
– Как в пещере Али-бабы.
– Примерно. Запросто можно свихнуться.
– Да-а, это я, пожалуй, погорячился… Но я же не знал…
– А знаете, что, товарищ генерал армии? Сделали, – и не жалейте! Поступать по-своему всегда полезно. Больше уважать будут. Пусть мир привыкает жить не по чьим-то, а по нашим правилам. По вашим в том числе.
– И то верно. – Он явно успокоился. – А почему эти, курьеры, за робами приходили ночью?
– Тоже чисто китайское явление, товарищ генерал. Их так и называют «Ходящие Ночью» или «ночные тени». Это кому вообще нечем прикрыть наготу, а работать надо.
– Да-а… Порядочки. А вообще – хороший доклад. Многое делает понятным и есть над чем подумать ночью. Поверишь ли, – хуже, чем на фронте: там засыпал, падая на койку, еще в полете, а здесь пол-ночи не могу заснуть, думаю. То, что нужно. А ты действуй в том же духе. Спасибо.
– Служу Советскому Союзу!
– Хорошо служишь. – Кивнул командующий. – Вольно. Теперь по этому твоему переводчику. Похоже, я прав: это еще тот фрукт. Я таких людей знаю, они хорошее обращение воспринимают исключительно как слабость, и тут же норовят сесть на шею. Самый негодящий народ. Вот и веди себя с ним соответственно, – как с говном. А в следующий раз будем умнее: никаких китайских наблюдателей. Никаких китайских чиновников вообще. Без всяких объяснений. «Нет!» – и все! Ты меня правильно надоумил, так до них дойдет куда лучше.
Вкопали столб, укрепив на нем громкоговоритель, ради одной, единственной речи: полковник входил во вкус использования дармовой рабочей силы. Да и то сказать, – каждый офицер из настоящих накрепко знает известное правило: подчиненный, если он не спит и не принимает пищу, должен быть постоянно занят. Он поднял ко рту громоздкий микрофон какой-то заграничной фирмы, и громкоговоритель оглушительно загремел и загрохотал посередине строя в форме трех сторон обширного квадрата, так, что непривычные китайцы, по-прежнему босые и в подштанниках, вздрогнули и заозирались.
– Все меня слышат? Те, кто слышат, передайте мои слова тем, кто не слышал. Стоящий рядом со мной человек, известный вам всем Ли Гуан-чень, выполняет обязанности переводчика и никаких других полномочий не имеет. Добавлю, что и переводчик он тоже плохой, и вместо перевода слов русских офицеров вы часто слушаете его глупые выдумки. Поэтому приказываю: никаких распоряжений этого человека не исполнять. Запрещаю отдавать ему заработанную продукцию, деньги, продукты питания. Он до сих пор избегал строгого наказания по той единственной причине, что был рекомендован уважаемым генералом Ин Цзянь-куа. Очевидно, генерал ошибся, будучи обманут Ли Гуан-чень, но мы были вынуждены уважать его решение. Тем не менее, – он возвысил голос, придав ему металлический оттенок, – если он и впредь будет вымогать ваше имущество, доложите об этом ближайшему советскому командиру, и тот накажет его своей властью. Немедленно, палками, публично, по голому телу.
Он медленно опустил микрофон, давая знак отключить громкую связь, а Ли Гуан-чень, ощерившись, прошипел:
– Моя – наблюдать…
– Ты – в сраку е…я …дь, – негромко, но четко выговаривая слова, ответил полковник. Получилось в рифму, но при этом как-то всерьез, даже без намека на улыбку, – а еще вот что: почему это ты, грязь, стоишь рядом со мной? По-моему, тебе никто на это место не звал. И без особого приказа лучше не попадайся мне на глаза. Потому что я могу быть не в духе и разделаюсь с тобой. Представляешь? Сделаю с тобой, что захочу, а вот мне никто, ничего за это не сделает…
Кули по-прежнему получали по одному комплекту спецодежды из десяти пошитых. Будучи вынужден наблюдать это, и при этом не имея ровно никакой возможности вмешаться, Ли Гуан-чень не выдержал и уже через пару дней спятил: это испытание для его, казалось бы, закаленной психики оказалось непосильным.
Еще через пару дней неожиданно похолодало, так что китайцы натянули свежепошитые робы, брошенные в прорыв сержанты и бывалые рядовые бойцы весь вечер обучали их правильно наматывать портянки, – и обучили. Только трети достались солдатские ботинки с обмотками из довоенных запасов, остальные обулись в новенькие кирзовые сапоги со складов 39-й армии. Ночью охрану удвоили, и все попытки как-то скинуть хабар бесшумным Ночным Теням не имели успеха. А наутро контингент отправили на совсем новенькую станцию «Степная – 3» только что проложенной ветки железной дороги, колонной, своим ходом. А товарищ Владимиров, глядя на бесконечные ряды черных фигур, бредущих на север, вдруг спросил:
– А вам, товарищ полковник, не страшно? Вот и мы, наподобие просвещенной Европы, обзавелись рабами.
– Для этих работа на Магистрали – счастливый билет. Хоть какая-то перспектива. Не думаю, что до весны из них дожило бы больше десяти процентов.
– Я не о них. Черт с ними, в конце концов. Я о нас, Александр Яковлевич. К дешевой рабочей силе слишком легко привыкнуть, а потом не сможешь без нее обходиться. Это точь-в-точь, как с опиумом.
В его словах была своя сермяжная правда, и полковник поневоле задумался над ними. А потом, неожиданно для себя, рассердился. Несильно, но все-таки.
– Знаете, Петр Парфенович, я человек военный, и то, о чем вы говорите, для меня, знаете ли, слишком далекая абстракция. Пытаться решать проблемы, которые еще не возникли, значит не делать ничего. А насчет эксплуатации… что до меня, так благотворительность куда хуже. Заработок, даже несправедливо-низкий, в тысячу раз предпочтительнее милостыни.
Счастливый камикадзе I
Поначалу управлять машиной, лежа на животе, было страсть, как неловко. Тем более, что система управления оказалась и непривычной, и, на первых порах, какой-то уж слишком простой. До примитивности. Теперь-то, задним числом, можно было признаться себе, что без подготовки в специальном тренажере он, скорее всего, разбился бы. Но тогда, – что ты! – еле заставили. Могли бы и вовсе отстранить, да только желающих помимо него не нашлось. А дело было простое: в узкой, оперенной капсуле без двигателя его сбрасывали с высоты двенадцать километров, и он изображал из себя что-то вроде планирующей авиабомбы особо крупного калибра, постепенно выравнивая полет, тормозясь и сажая устройство при помощи посадочной лыжи. Два раза он чуть не погиб, а потом приноровился. К десятому сбросу действия при посадке стали рутиной. Вот только эта серия не относилась к программе испытаний и была, всего лишь, подготовкой к ним, по преимуществу, именно отработкой посадки. Причем главной целью серии было подготовить пилота. Его, то есть. Если это вообще возможно. Ну, это, понятно, кого – как.
По сравнению с тем, что предстояло на этот раз, все предыдущее было, можно сказать, не в счет. На этот раз капсула крепилась не к «объемно-весовому макету», а к реальной двигательной установке, да еще состоящей из двух частей: «доразгонной» и «маршевой». Чем ближе становился срок решающего испытания, тем сильнее доходило до всех причастных, что это – не дело для живого человека. Что тут необходимо, пусть потратив сколько угодно времени, сделать автомат управления. Тем более, что делать его все равно придется. Так или иначе.
– Султан, – сказал ему вчера вечером главный конструктор крылатой бомбы, товарищ Черняков, – ты всегда можешь отказаться. Все поймут и никто, никогда не упрекнет тебя ни единым словом. Потому что это уже не риск, а просто черт его знает, что такое…
В ответ он только улыбнулся, не сказав ни слова. Потому что для ответа на подобное Амет-хан считал слова излишними. Все было ясно и без них. Потому что на самом деле отказ от завтрашнего полета был невозможен так же, как, к примеру, отказ от дыхания. На этом испытании сходилось столько всякого, завязывались узлы таких противоречий, за ним, по обе стороны, стояли такие силы, что это привело бы к нешуточным потрясениям. Пожалуй, общегосударственного масштаба. Можно было отложить полет на день-два по техническим причинам или, по болезни ответственного пилота, на неделю-другую. Вот только было это бесполезно: сколько ни тяни время, полет по-прежнему останется рискованным. А вот отказ от испытаний по причине их опасности обозначал, что испытания по этой программе, скорее всего, не возобновятся. Может быть, никогда. В результате вместо плодотворного соперничества, полезной для страны грызни двух могущественных военно-политических групп, дело могло кончиться решительной победой одной из них и, главное, поражением другой. С расточением кадров, роспуском сработавшихся групп, многолетним отлучением от продуктивной деятельности множества талантливых и инициативных людей, закрытием, надолго или навсегда, перспективных тем и значительным количеством иных радостей в том же духе.
Страшная гибель Кобе четко обозначила начало новой эры во многом и многом. Люди прозорливые уже утром седьмого ноября сорок третьего года поняли, что проснулись в новой реальности. Военной, политической, какой угодно. Многое из того, что еще вчера было важным, даже важнейшим, с этого момента практически утратило значение, а то, что еще вчера казалось дорогостоящими игрушками, стало во главу угла.
В частности, именно с этого момента началось малозаметное на посторонний взгляд противостояние между двумя могущественными военно-промышленными группами в советском руководстве. Ключевыми фигурами первой являлись маршалы Говоров и Яковлев, опиравшиеся на возможности ГАУ, и стоявший за ним товарищ Устинов. Ключевую фигуру второй группы выделить было трудно, может быть, вовсе невозможно, потому что все, относившееся к авиации и авиационной промышленности имело неизмеримо более сложную и запутанную структуру, во всех извивах которой разобраться было просто нереально.
Предмет соперничества ясен: перед ответственным руководством страны во весь рост встал вопрос о Носителе. Кому именно, «артиллеристам» или «авиаторам», будет поручено обеспечить гарантированную доставку ядерных устройств в любую точку земного шара. Дело не только и не столько в амбициях могущественных генералов, хотя они, разумеется, тоже имели место. Причина лежала глубже и имела фундаментальный характер. Мало того, что страна лежала в руинах, победа наложила на нее множество дополнительных, и при этом очень тяжелых обязательств за ее собственными пределами. Представители «экономической группы» вообще давили на то, что двух чудовищных по дороговизне программ страна не потянет. «Прямо разорительных, – подчеркивали они, – по отдельности. Не говоря уже про попытку одновременной реализации. Народ нас не поддержит». Справедливости ради надо сказать, что аргументы их особого впечатления не произвели, хотя к сведению их и приняли.
Наиболее естественной политикой в данном направлении при сложившихся обстоятельствах являлось планомерное развитие возможностей стратегической авиации: техническое совершенствование самих бомбардировщиков и постепенный переход от падающих атомных бомб к ракетным или реактивным снарядам большой дальности. Дальности, которая позволяла бы нанести удар, не входя в зону действия ПВО противника. Данный вариант представлялся и естественным, и наиболее выгодным. Вот только окончательный выбор его обозначал, что влияние «авиаторов» станет практически всеобъемлющим, а это не устраивало слишком многих. Не только «артиллеристов», но и сухопутных генералов, не говоря уж о флотских товарищах. Всеобъемлющий характер ставки на стратегическую авиацию нужно было диверсифицировать любой ценой, и жизненно необходимые для этой цели аргументы, разумеется, нашли.
– Полностью поддерживая аргументацию предыдущего докладчика, вынужден, тем не менее, высказать ряд замечаний. Первое. На данный момент мы не являемся монополистами в этой области. И Англия, и, прежде всего, САСШ обладают стратегическими бомбардировщиками. Да, пока они значительно менее совершенны, чем наши, но они есть. А мы с вами знаем, насколько быстро они умеют работать. В связи с этим опасность существует в любом случае. Либо они сумеют достигнуть паритета, и в этом случае дальнейшее понятно. Либо технологическое отставание окажется непреодолимым, и это заставит их искать другие возможности. Что они существуют, мы все знаем. Та сторона, уверяю вас, знает тоже. Поэтому, считая ставку на стратегическую авиацию совершенно правильной в принципе, настаиваю, что отказ от тематики ракет дальнего действия был бы ошибкой. Снаряды с баллистической схемой полета принципиально не сбиваемы после пуска, и малоуязвимы до пуска, особенно при скрытом характере базирования. В отличие от аэродромов стратегической авиации…
На это последовало резонное возражение, что эти аргументы недостаточно основательны для развертывания еще одной программы. Тем более, что она, судя по всему, не уступит по дороговизне атомной программе. И это без всяких гарантий отдачи. После этого раздрай начался сначала, и дискуссия пошла по второму кругу. В итоге был достигнут компромисс, как всегда, не удовлетворивший ни одну из сторон. «Ракетчикам» решили все-таки выделить некоторую долю оборонного «пирога» на то, чтобы они потихоньку решали те задачи, которые придется решать в любом случае. Автоматическое управление вообще и автоматическую навигацию в частности. Материалы. Горючее. Технологии. Запуск разведывательных спутников, наконец. Совершенствование проектирования, моделирования и математических расчетов. «На быка – велика, – флегматично сказал полковник Королев, – на хату – маловата» – но при этом в глазах его стоял отчаянный сухой блеск. А генерал Антонов буркнул: «Версальский мир. Такая верная гарантия новой войны, что непонятно, зачем и мирились».
В этой непростой ситуации конструктор Лавочкин не то, чтобы спас положение, а, скорее, сумел снизить напряжение до приемлемого уровня. Он предложил дополнить тупиковый компромисс элементом беспроигрышной стратегии. Очевидно, крайняя необходимость и присущее хорошему человеку стремление к общему благу, подняли его мысль до уровня настоящего вдохновения. Потому что идей на самом деле он выдвинул две, но если одна была, – или казалась, – явным выходом, то вторая произвела впечатление банальности, на которую никто не обратил особого внимания. Предложение сводилось к проектированию, испытанию и доводке того, что он назвал «универсальным блоком».
– Все мы помним, товарищи, выдающийся триумф советской науки и техники, – достижение двадцать второго ноября прошлого года сверхзвуковой скорости товарищем Коккинаки на рекордном самолете «Стрела – 2». Звуковой барьер пал, товарищи. Не таким заметным, но не менее замечательным событием стало завершение испытаний принципиально нового автопилота. Предлагаю в короткие сроки спроектировать и испытать крылатую ракету, сходную по концепции с «Фау – 1», но при этом сверхзвуковую. Идеальным для этой схемы считаю прямоточный ракетный двигатель, ПТРД. Точнее, в нашем случае, разумеется СПТРД. Тяжелый бомбардировщик сможет взять на борт или в подвеске от двух до четырех стратосферных снарядов такого рода. Скорость новейших бомбардировщиков обеспечивает запуск двигателей подобного типа, а на высоте около двадцати – двадцати пяти километров при сверхзвуковой скорости такие снаряды окажутся неуязвимы, и практически сразу становятся основным оружием стратегической авиации. В ходе разработки этого, явно осуществимого оружия, мы отработаем управление, теорию и практику автоматической навигации, испытаем основные материалы. Уже на этой стадии следует разработать пороховые ускорители тяжелого класса, дающие возможность пуска боевых блоков с транспортных самолетов и, возможно, боевых кораблей. В дальнейшем, на основе полученного опыта и наработок, следует поставить целью довести скорость боевых блоков следующего поколения до двух – двух с половиной километров в секунду и изучить принципиальную возможность их использования в качестве боеголовок тяжелых баллистических ракет. Это даст им определенную возможность маневра и, тем самым, придаст необходимую точность наряду с неуязвимостью. При этом возможность использования их стратегической авиацией, само собой, должна сохраниться в полной мере. Этот подход обещает возможность избежать вредоносного параллелизма в разработках и, одновременно, пустить в практику все имеющиеся наработки по ракетной тематике… Опыт показывает, что закрытие темы практически всегда ведет к утрате технологий, которые потом приходится восстанавливать только с большим трудом. Подобная практика представляется мне крайней расточительностью. В случае полного успеха мы, сохранив передовые позиции в тяжелой авиации дальнего действия, мощном, универсальном, гибком оружии, равно пригодном и в обороне и в наступлении, получим баллистические снаряды межконтинентальной дальности, могучее оборонительное оружие, которое практически гарантирует СССР от любой военной агрессии… В заключение хотелось бы только сказать, что у нас есть предложения по разработчикам. Как по персоналиям, так и по организациям. Я закончил. Прошу поддержать. Полностью или с замечаниями.
Первые боевые блоки, запущенные с борта «Ту – 10Т» на высоте четырнадцати километров, имели двигательную установку на основе СПВРД и прошли испытания в начале 1946 года. Изделия продемонстрировали заявленную дальность в тысячу двести километров. В варианте автономного управления блок дал отклонение от реперной точки всего на два километра, в варианте телеуправления поразил площадную мишень, занимавшую четыре гектара.