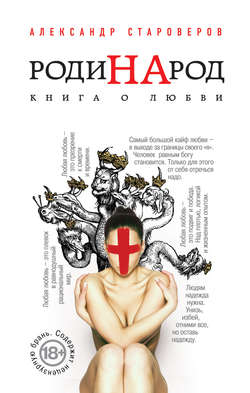Читать книгу РодиНАрод. Книга о любви - Александр Староверов - Страница 8
Часть 1
7
ОглавлениеИз горних высей, расплескав сиси по ветру, мы снижаемся, возвращаемся в жизнь эту. Обратная сторона света нас не приняла, обратная сторона света – это тьма. Земля – тюрьма народов, сборище уродов, тужится под нами. Каждые полторы секунды там происходят роды, появляются новые люди, шевелят ушами, вращают глазами, делая существование друг друга невыносимым. Жизнь, как почва, упруга, жизнь сочна и красива, жизнь – камуфляж для гнили, но нам хватит силы жить, хоть и потрепан наш фюзеляж. Пуля, мы снижаемся, просыпаемся. Пылью осядем на коже прохожих, просыплемся, как дождик со снегом, снова сойдем с ума и станем одним человеком, ведь нас не приняла тьма. Снижение есть унижение, хочешь жить, ползи на брюхе, неважно, юбка на тебе или брюки – ползи. Постепенно исчезают руки, и мы превращаемся, мы превращаемся… О, господи, Пуля, мы пресмыкаемся, мы гады, Пуля, мы суки, и мы возвращаемся.
– Вот за себя и говори. Ты точно сука старая и гадина, а меня не трожь. Я Пуля Молотова – отважная партизанка и разведчица – всегда ходила с гордо поднятой головой. Я никого не боюсь, ни перед кем не унижаюсь. Я знаю, как бороться с любой системой. Я, между прочим, училась на террористических курсах КГБ для освободительных движений в борьбе за мир во всем мире. Училась и была лучшей ученицей под именем Сильвы Де Лакастенды из Никарагуа. Ой, вспомнила, Пульхерия, я же правда там училась. Вспомнила, выздоравливаю, вспомнила…
– Разведчица-минетчица с гордо опущенной к ширинке головой. Минздрав предупреждает: сифилитическая ангина не лечится и вызывает крайне опасный гной в организме. Таким, как ты, не жить при коммунизме.
– Вспомнила! Ты не собьешь меня, старая сволочь. Прорвало плотину, может, инсульт помог, может, бог. Неважно. Воспоминания гудят в голове, нет, в затылке они гудят. Но еще секунда, и попадут в голову, и я вспомню, вспомню себя. Голубчик, вы слышите этот гул? Голубчик, где вы? Я же знаю, это все благодаря вам. Я знала, я верила с первого мига, как вас внутри себя почувствовала, верила, что получится на этот раз, что вспомню, выздоровею. Спасибо вам, голубчик. Итак, я готова. На чем мы с вами там остановились? Ах, да, конечно, конечно … Гагарин.
…от избытка счастья, от чувства распирающего я спотыкаюсь, отталкиваюсь от земли и лечу. Мне кажется, в космос лечу. Но нет, не в космос. Журчащие бессвязно, счастливые ручьи быстро приближаются, но тут меня подхватывает… меня подхватывает… Меня подхватывает ОН, а точнее, они… Руки. Я хорошо их запомнила: большие, в закатанных рукавах желтой рубашки, с горными хребтами тянущихся к запястьям мышц, с петляющими между скал мускулов венами, загорелые, светло-бурые, как земля, растворенная в молоке, покрытые темно-золотыми волосками червовой масти руки. Я лечу прямо в них, я ничего, кроме них, не вижу. Хозяин рук стоит спиной к блистающему апрельскому солнцу, и кажется, мне кажется, что руки растут из солнца. Солнечные руки подхватывают меня, я успеваю заметить раскрывающиеся, как тяжелые бутоны, ладони с длинными, светящимися теплым розовым светом пальцами и, словно Гагарин, взмываю вверх, к небу и солнцу. Я не вижу лица спасителя, только темное пятно и солнечный нимб вокруг большой головы.
– О, ребята, космонавтка прилетела, – говорит обладатель головы с нимбом. Парни вокруг смеются здоровым жеребячьим смехом образцовых советских физкультурников и комсомольцев. И я смеюсь. Это же смешно, что космонавтка. ОН несет меня на удивительных, вытянутых вперед руках. Я счастлива. Как и все рядом, я по-настоящему счастлива. Потому что простой советский парень Юра Гагарин полетел в космос, потому что все не зря и будет теперь по-другому, потому что существуют на свете такие удивительные крепкие и теплые руки.
– Эй, космонавтка, – смеется несущий меня парень, – тебе не низко? Давай на Марс, повыше.
Он поднимает меня к небу и солнцу и усаживает к себе на плечо. Он сильный, этот парень с волшебными руками и солнечным нимбом. Люди, идущие рядом, подхватывают его слова, бросают в воздух головные уборы, кричат: «Даешь Марс, даешь, дае-о-о-ошь!» Через минуту вся улица скандирует: «Да-ешь Марс, да-ешь Марс! Ура-а-а-а-а!!!» А я сижу выше всех на плече простого и такого же солнечного, как Юра Гагарин, русского нашего парня и тоже кричу: «Даешь, дае-о-о-о-шь!» Мне хорошо сидеть у него на плече, не стыдно совсем, приятно даже. Костями, тазобедренными косточками сквозь упруго пружинящую девичью попу я чувствую его твердое и такое надежное плечо. Надежное плечо советского человека. Он мне как брат сейчас, все мне как братья и сестры. Он, может, капельку меньше, чем все, но все равно ничуточки не стыдно. А приятно и сладко сидеть вот так. Немножко дух захватывает, словно на карусели в парке Горького. Под ложечкой немножко сосет, и щекочет в животе. Но не стыдно, не стыдно совсем. Гагарин в космосе!
– Оттого, что дура кричит «ура», она все равно остается дурой. Так и загнется тупой коровой, даже если горло от крика сорвется. Прорвой своей, утробой почувствовала мужика и потекла, как сучки во время течки. Шлюхи всегда танцуют… всегда танцуют от печки, а в печке плавится их манда. Истекает пахучим соком, и вся эта романтическая ерунда выходит шлюхам впоследствии боком. Абортом, выкидышами, перевертышами, опарышами на гниющем теле. Дура ты, Пуля. Что ты наделала? Что ты сделала? Ла-ла. Ла-ла…
– Не волнуйтесь, голубчик. Я вижу, вам крайне неприятны эти пошлые слова старой злобной твари. Но не нервничайте, это она от страха и зависти, что я вспомнила. Ничего… не получится у нее ничего, и ни у кого не получится отнять у меня эти полчаса счастья. Чего бы потом ни было, как бы жизнь ни обернулась, но счастье было. Голубчик, мне помирать скоро, жизнь сделана, высечена на душе кайлом железным, залапана скользкими холодными пальцами, заплевана, загажена, испоганена беспощадным временем и такими же людьми. Но полчаса, но лучик солнца апрельского и удивительные руки, несущие меня 12 апреля 1961 года по улице Горького, отнять не сможет никто, даже она. Так что не надо переживать. Послушайте лучше, что дальше было.
Его звали Игорь. Сказал, что работает мастером в цеху на электроламповом заводе. Только что институт окончил. Улыбчивый, красивый. Пригласил меня в кино. А почему бы и не сходить? Я и раньше с ребятами в кино ходила, так, чисто по-дружески. Тем более с таким красавцем. Пусть девчонки обзавидуются. Мечта комсомолки, под два метра, широкоплечий, с каштановыми вьющимися волосами и светло-серыми, цвета тающего на солнышке последнего весеннего снега, глазами. Почему-то страшно было смотреть ему в глаза. Стучало сердечко, и хотелось отвести взгляд. Почему-то было очень страшно, голубчик… Мы договорились встретиться на следующий день, и я побежала в общагу готовиться к экзаменам. Ночью мне приснился ОН. Он играл в волейбол на пляже в Серебряном Бору, а я с подружками стояла рядом. В плавках он выглядел еще лучше, к удивительным рукам прилагалось роскошное тело спортсмена и защитника Родины. Мы с девчонками яростно болели за него, и он нас не подводил. Раз за разом заколачивал мячи на сторону соперника. Наконец настала его очередь бить подачу. Он пошел в угол площадки, взмахнул красивой рукой и… я увидела, что вместо мяча, обхватив руками коленки, в позе эмбриона над ним зависла я. Он смотрел на меня своими невозможными, почти белыми, глазами, а я висела, покачиваясь, и ждала, и душа моя уходила в пятки, и сердце трепыхалось где-то внизу живота, и сладко замирало сердце. «Если он меня ударит, – загадала я во сне, – то одно, а если поймает в свои удивительные руки, то другое». Что одно и что другое, я и сама не знала. Игорь помедлил четверть секунды, а потом звонко хлестнул меня ладонью. Я взметнулась свечкой в небо, разбила небо, больно ударилась о ледяную непроглядную темень и проснулась. Было очень обидно, от обиды я даже решила не идти ни в какое в кино. На переменке между лекциями, однако, не выдержала и, стесняясь, рассказала о видении подружкам.
– Может, это знак? – спросила я у девчонок. – Может, он не наш человек, не советский? И не надо мне с ним по кино расхаживать?
– Пулька, влюбилась, влюбилась, – весело загоготали они. – Наконец-то пал последний бастион империализма. Влюбилась Пулечка, небеса на землю рухнули. Юрка Гагарин проткнул ракетой небеса, и Пулька влюбилась. Ура-а-а-а!!!
– Да ну вас, дурочки, – надулась я и назло дразнящимся девчонкам решила – пойду в кино. Докажу им и себе, что нет ничего такого. И не верят советские правильные девушки-комсомолки в дурацкие сны. Пойду!
Я любила эти наивные советские черно-белые фильмы, где добро боролось со святостью, где честные, правильные парни совершали трудовые подвиги, и в этом им помогали их принципиальные бойкие подруги. А в конце на вершине только что построенного прокатного стана герои дарили друг другу целомудренный поцелуй. И герой мечтательно говорил:
– Эх, Машка, вот и еще один прокатный стан мы построили, а сколько их еще впереди?
– Вся жизнь впереди, Васенька! – отвечала ему героиня. – Любовь впереди, труд впереди, коммунизм впереди.
И они смотрели счастливыми, наполненными благородством глазами в дымчатую индустриальную даль, где вырастали новые трубы новых прокатных станов. И звучала бравурная духовая, но со скрипками музыка. И появлялись на этом фоне два коротких слова – КОНЕЦ ФИЛЬМА. Я любила такое кино. Я жила в нем. Смешно сказать, но я ни секунды не сомневалась в правдивости подобных сюжетов. Это была моя жизнь, мое будущее, и я сознательно к нему готовилась. Пересматривала фильмы много раз, всегда замирала от восторга и плакала на финальной патетической сцене. «Любовь впереди, труд впереди, коммунизм…» Как тут не заплакать? С Игорем рыдать не вышло. Где-то в середине фильма, когда устаревший главный инженер, перестраховщик Лебёдкин надсмехался над рационализаторскими предложениями молодого рабочего Петрушичкина, Игорь накрыл своей лапищей мою ладошку. Парни и раньше пытались лапать меня в темноте кинозала. Что с них взять, с несмышленышей глупых? Получали локтем под ребра и сразу осознавали свои ошибки. Мужчина все-таки агрессивное существо, а правильная советская девушка должна тащить это существо вперед, к победе коммунизма. И не за половые органы цепляясь, а за сердце большевистское и марксистско-ленинское сознание. Так, по крайней мере, героини из фильмов делали, и у них получалось. И у меня получалось. Но Игорь… он положил руку не так, как мои однокурсники, робко сопя, осторожными перебежками пальцев со своего подлокотника кресла. Нет, он накрыл мою ладонь по-другому, как право имеющий. Я не могла, не хотела спорить с этим его правом. Невозможно было спорить. Со мной начали происходить странные вещи. От его руки били электрические разряды, не сильные, но приятные. Они перескакивали на мою ладонь и поднимались выше, щекотали легонечко подмышки, обволакивали соски и стекались куда-то в район солнечного сплетения. Новое сплетение во мне образовалось, совсем не солнечное, я чувствовала, что не солнечное, а какое – понять тогда не могла. Я перестала следить за фильмом. Черно-белые картинки на экране показались вдруг фальшивыми и смешными. Какие прокатные станы, что за рационализаторские предложения, к чему все это? Как иллюстрации к букварю. Ложь! Правда сплеталась и набухала у меня внизу живота в несолнечном сплетении. Правда была в ладони Игоря, бьющей током. О, это была страшная правда. В ней был мой серый детский дом, голод, пропитанные первой менструальной кровью трусы в 11 лет. Слова воспитательницы: «Не волнуйся, Пуля, это давалка растет». Одноклассница Манька с вечно спущенным чулочком, стоящая на коленях, уткнувшись лицом в пах однокласснику Вите. Ночные стоны соседки по общежитию Верки из-под натянутого на голову одеяла. Все, чего боялась, все, от чего бежала, было в этой правде. И все же правда оказалась прекрасной. Апокалипсис, конечно, но и срывание всех покровов в соответствии с буквальным переводом этого слова. Понимание своей собственной сути и предназначения. Из последних сил, как полупарализованная старуха, я шевельнула пальцами и медленно вытащила руку из ладони Игоря. А он даже не заметил, смотрел фильм, живо реагировал на сюжет, похохатывал. Вы понимаете, голубчик, он даже не заметил! После всего того, что было с нами… со мной… Его уверенность в себе, в своем праве трогать меня, когда захочется, окончательно раздавила меня, вернула в состояние беспомощной сироты, от которого я почти вылечилась за годы в Москве. И когда он, смеясь над глупым инженером Лебёдкиным, обнял меня за плечи и, кажется, засунул большой палец руки под лифчик и начал больно шуровать им, я уже не сопротивлялась. Я не могла сопротивляться. Несолнечное сплетение в моем животе выросло до чудовищных размеров и поглотило меня всю. Я положила голову ему на плечо и закрыла глаза.
Он проводил меня до общежития и, конечно же, долго целовал в кустах перед входом. Я знала, что так будет, я все знала наперед. Никакие слова, никакие действия не имели значения. Я отдалась ему уже. Отдалась там, в темном кинозале на фоне фильма о светлом будущем про ретрограда инженера и отважного молодого рабочего-рационализатора. И не важно, что ничего там между нами не произошло. Там главное произошло. Он власть свою показал. И мне понравилось жить под его властью. Он мир мне перевернул, и я поняла, что раньше мир стоял на голове. Все неправда, не нужна я никому со своим светлым будущим, а ему нужна. Пускай только грудь помять, пускай для других еще более чудовищных и грязных вещей. Но ему нужна именно я. Мои кости, моя плоть, мои слизистые оболочки, рот, губы, маленькие пальчики на ладошках. Я ему по-честному была нужна, по самому честному и простому счету. А не так, как этим всем: учись, голосуй, активничай. Они же все знали, они жрали плоть друг друга по ночам, втыкались друг в друга и терлись. А утром шли на работу, преподавали марксизм-ленинизм, снимали идиотские фильмы про инженеров-ретроградов и обманывали, обманывали меня, дурочку. Не нужна я им, в гробу они меня видели, а ему нужна… Игорь долго слюнявил меня в кустах, потом осмелел и, содрав лифчик, стал щипать грудь. Когда он начал больно кусать мои соски, я чуть не умерла от счастья, а когда залез мне в трусы, я пошире раздвинула ноги. На, бери! Твоя я, по-честному твоя. Как бездомная дворняга, не знавшая никогда ласки, твоя. Поманил ее скучающий прохожий, и привязалась она к нему навеки. Как облезлый котенок, подобранный на помойке. Бери, твоя! Он мог меня отыметь прямо там, в кустах. Он мог вспороть мне живот и зубами рвать мои внутренности, он мог сделать что угодно со мной. Я бы вытерпела, ни стоном, ни криком, ни шепотом не остановила бы его. Но он испугался. Вытащил из трусов окровавленные в моей девственности пальцы, спросил изумленно:
– Так ты девочка?
– Девочка, – стыдливо призналась я.
– А тогда чего же ты так… здесь … в кустах…
Растрепанная, с расстегнутым, сползающим платьем, с текущей по ляжкам кровью я бросилась в его удивительные волшебные крепкие руки и отчаянно прорыдала.
– Я люблю тебя, Игорь, я честно тебя люблю, я все для тебя сдела-ю-ю-ю-ю!
И стала целовать его сквозь рубашку, в твердый живот. А он гладил меня по голове и шептал удивленно:
– Я тоже, тоже, ну не здесь же, не здесь. Я ключи от комнаты завтра возьму. Завтра, завтра. Здесь нельзя, неудобно, увидит кто. Завтра…
Мне захотелось остаться навсегда жить у него в руках, прижатой к его животу. Так хорошо, так уютно и не одиноко. Невозможно представить, как от него отлипнуть. Он гладил меня по волосам, мое дыхание отражалось от его тела, возвращалось ко мне, согревая губы. Я почти заснула, но Игорь поставил меня на землю и стал неумело застегивать распахнутое платье.
– Ну, вот и отлично, вот и хорошо, – приговаривал он, поправляя платье, – вот и умница, завтра все сделаем, а сейчас иди, иди. Главное сегодня сделали, остальное ерунда, ты не бойся, все будет хорошо. Иди.
Он хлопнул меня по попе. Увидел на платье кровяной отпечаток своих пальцев. Негромко крикнул мне вслед:
– Ты только платье не стирай! Это же на всю жизнь… на всю жизнь память!
И захохотал. Смех у него был хороший. Здоровый смех образцового советского физкультурника и комсомольца.
Вот такая история, голубчик. Чего вы молчите? Шокированы? Понимаю. Я и сама в шоке. Но так бывает, голубчик, по крайней мере, со мной так было. Куда приводят мечты… не в смысле места, куда они конкретно приводят, а в смысле, что мечтать вообще вредно. Не случайно герой нашего с вами времени трусливый циник. Он не просто циник, он еще и очень боится поверить во что-либо. Правильно, так жить легче. Идешь по жизни, вдруг облом – а я готов, свернул за угол, предательство – я так и знал, потом сам оказался гораздо мерзее, чем чудилось в самых страшных кошмарах – а я что говорил. Отряхнулся и пошел дальше, насвистывая. Веселый, трусливый циник. Эх, знала бы я тогда эту науку, может быть, жизнь по-другому сложилась бы. Но не знала, дурой романтической была, высоко взлетела, да упала больно.
– Бабы не рабы, рабы не бабы. Бабе жизнь дана не просто так, а дабы она рожала. Не для удовольствия между ног член зажала, а с высокой целью, дать жизнь следующему поколению строителей счастливой жизни. Поиск наслаждений – это лишний рудимент в жизни женщины взрослой. Пощечина божьему промыслу и Карлу Марксу. Шлюхи божий дар меняют на оргазмы. Плодят заразу заразы, а потом говорят: «Ой, он меня обманул, он был такой куртуазный, или брутальный, или грубый». Глупые коровы, дуры, набитые самооправданием. Кошки драные опошляют всё, к чему прикоснутся. Грустно, Пуля, мне так грустно, что хрустят кости и лопаются жилы. Жаль, что мы живы, жаль даже, что мы вообще жили.
– Жаль ей, голубчик, вы только посмотрите, ей жаль. Час назад умоляла меня спасти от смерти неминуемой, ананас обещала подарить, в ногах валялась, а сейчас ей жаль. Сама ты шлюха и лицемерка. Поняла? За душонку свою мелкую трясешься, на все готова ради своего инвалидного существования, а еще смеешь меня осуждать. Заткнись, сволочь! Не знаешь ты ничего. Я сама не знаю. Может, все хорошо у нас сложилось с Игорем? Может, прожили мы с ним долго и счастливо и умерли в один день? Ну, ладно, это я лишку хватила, я-то жива. А с другой стороны, разве не мог он раньше трагически погибнуть? Допустим, от взрыва чеченских террористов на электроламповом заводе. Проработал там сорок лет и умер у станка на боевом посту. Да, голубчик, да, утрирую. От обиды утрирую, а чего она обзывается? Шлюха, дура… Я тут душу перед вами раскрываю, а она опошляет все. И потом, действительно, даже я не помню, что дальше было, а тем более она. Чувствую, конечно, что добром эта история не кончится. Иначе не оказалась бы я в столь плачевном положении. Но ведь надежда умирает последней, правда, голубчик? Спасибо вам, дорогой, что поддерживаете меня. Без вас я бы не справилась, а с вами, с вами… Слушайте, я вспоминаю, я уже вспомнила. Слушайте меня.
На следующий день я пришла в комнату работавшего в ночную смену приятеля Игоря. Комната выглядела совершенно нежилой. Но я не заметила тогда этого. Я вообще ничего не замечала, как на заклание шла, как на тот свет собиралась. Оделась во все чистое, на голову зачем-то повязала аккуратный старушечий платочек. Я маленькая видела, на кладбище бабулек так хоронили. Лежали они в обитых красным сатином гробах, успокоенные, красивые в белоснежных целомудренных платочках, невесты царя небесного, а не старушки. Игорь, узрев меня в таком виде, бодро, по-комсомольски заржал.
– Ну, ты, мать, даешь, – сказал, сдирая платок с головы, – прям бабушка на потрахушки пришла. Ты эти предрассудки брось. Человек вон в космос летает, современнее надо быть и проще.
Он вытаскивал меня из длинных, деревенских почти юбок, а я старалась быть современнее и проще. Я сильно старалась, сама расстегивала пуговички, поджимала и выпрямляла ноги, чтобы ему удобнее было. Выгибалась, прогибалась, на глазах становилась все проще и проще, все современнее и современнее. А потом стала совсем простой, лежала голенькая, дрожащая, покоренная и ждала неотвратимого, как смерть, греха. Со времен сотворения мира лежат так испуганные девочки и понимают – кончалось детство, придушат сейчас ангела, живущего в них, красной налитой дубиной забодают, побьют больно. Он не умрет, нет, будет продолжать жить внутри калекой-инвалидом с переломанными крылышками. Кашлять будет всю жизнь и плакать жалобно. Так надо. Заведено так испокон веков. Растет внутри девочек несолнечное сплетение, зовет за собой в темные и сладкие глубины, и взрывается там ослепительным удовольствием, и оборачивается новой ангельской чистой жизнью. А когда подрастет, жизнь укрепится, круг замыкается, и все по новой идет.
Это я сейчас, голубчик, старая и мудрая стала, могу в слова девичье смятение облечь, а тогда, конечно, я так не думала. Я так чувствовала. Хотелось мне плакать, хотелось убежать, но вместо этого я открывала рот, чтобы ему было удобнее целовать меня, вместо этого я раздвигала ноги, чтобы ему удобнее было меня проткнуть. «Это честно, честно, – твердила я про себя, как молитву, – он честный, и я честная, это по-честному, честно, честно…» А потом он вошел в меня, и не вошел даже, а вставил. Вот именно, вставил. Я не знаю, как это объяснить. Вы же, голубчик, мужчина, вам сложно понять. Я вдруг догадалась, что сама по себе не имею никакого значения. Только с ним, только когда он во мне. Я вторична, как автомобиль без водителя, декорации без актера, как дом без людей. Просто нагромождение никчемной плоти. И только когда он во мне, смысл появляется. А когда нет его, то и смысла нет. Не знаю, может, я шлюха, нимфоманка. Вон старая сука Пульхерия так думает. А я думаю, что я просто женщина. Вернее, не просто. Я женщина-женщина. Женщина, какой ее задумал бог, вылепив из ребра Адама и повелев прилепиться к нему навечно, чтобы уравновесить, стабилизировать это всегда мятущееся в поисках мамонта, смысла, денег, истины и еще черт знает чего существо. Впрочем, я отвлеклась, голубчик. Существо размеренно вколачивалось в меня, не замечая моих смятений и страхов. Существу не до меня тогда было. Он свою программу выполнял. Он кончить хотел. Довести процесс до логического результата и отвалиться, довольно урча. У него получилось. Я пыталась удержать его. Пискнула тоненько:
– Постой, не уходи, погоди еще немножко.
А он засмеялся снисходительно, потрепал меня по щеке, хлопнул легонько по сиськам и сказал:
– Хорошенького понемножку. Ох и горячая ты девка, Пуля. Молодец, мне такие нравятся.
И повалился на спину, раскинув руки, и ударил меня нечаянно ладонью по горлу. Я стала целовать его ладонь, облизывать его пальцы. Потому что вот он, смысл и властелин мой, рядом лежит, дышит устало. Игорь повернулся на бок, посмотрел на меня внимательно и, видимо, все понял. В эту секунду навсегда определилась наша с ним иерархия. Он царь, а я раба верная, почти домашнее животное. Я тонула в его белесых цвета последнего весеннего снега глазах, а он тихо и серьезно спросил:
– Еще хочешь?
– Да, любимый, – ответила, – хочу.
– Это хорошо. Любишь, значит, сладкое. Тогда давай, иди вниз, поработай.
Я впала в ступор, я замерла и оледенела. Я же все-таки комсомолка, я монашкой советской мечтала быть. Я не поняла его. Хлопнула глазами и спросила недоуменно:
– Куда вниз?
– Туда вниз, дуреха, – весело рассмеялся он. – Соси давай.
Сосали только продажные, стиляжные американские подстилки. Это я знала твердо. Минимально приличные девушки, не говоря уже о комсомолках, лучше бы удавились, чем стали сосать. Разве Зоя Космодемьянская стала бы сосать, а Роза Люксембург, а Надежда Константиновна Крупская?
– Нет, нет… – в ужасе отшатнулась я. – Я не могу, я не буду.
– Будешь, дуреха, все будешь делать. Я тебе обещаю, и не такое будешь делать.
Игорь несильно, но ощутимо хлестнул меня по попе. Я вспомнила сон, где висела над ним волейбольным мячиком. Свершилось, произошло. Только не в небеса черные я взметнулась, а наоборот, полетела вниз и уткнулась в кисло пахнущий пах моего властелина. Вот отныне мои небеса, здесь светит мне солнышко, и место мое здесь. Я опустила голову, уронила слезинку на жесткие курчавые волосы и начала сосать.
Вы меня осуждаете, голубчик? Не осуждайте, женщина – это самое приятное и мягкое существо среди окружающей нас мерзости. Тоже, конечно, мерзость по большому счету, но мерзость нежная, смазанная тягучими соками любви и жалости, компотик такой сладенький с ядом вперемешку. Из этого компотика все люди на свет появились. Маленьким слабеньким детишкам нельзя сразу во внешнюю агрессивную среду. В компотике женском, у мамки, у няньки, у учительницы побарахтаться сначала нужно, пообвыкнуться. А вот когда подрастут, тогда можно и в мир, самим агрессивной средой становится. А еще, не осуждайте меня, голубчик, потому что жизнь меня и без вас осудила. Посмотрите на меня, видите? Вот то-то и оно, меня даже увидеть нельзя, я как смерть Кощеева существую внутри безумной старухи, – фантома Пульхерии, а она существует в больном, пораженном инсультом теле дряхлой бабки. Про мир, в котором живет бабка, я вам даже говорить не буду. Сами все знаете. Я, голубчик, боль абстрактная, и ничего больше. То есть для вас абстрактная, а для себя я самая конкретная, нестерпимая и изуверская боль. Так что не осуждайте меня, голубчик. Жизнь моя и до встречи с Игорем зависти не вызывала, а после… а после совсем в незавидную превратилась. Хотя это как посмотреть. А давайте, голубчик, посмотрим? Хорошо? Договорились? Только не осуждайте меня, пожалейте лучше…
Понятно, что курс молодого бойца я прошла очень быстро. Грехопадение было стремительным, как затяжной прыжок с парашютом, только парашют в конце не раскрылся. Ухало сердце, замирала душа, и адреналин приятно покалывал дрожащее нутро. Не буду утомлять вас физиологическими подробностями, скажу лишь, что немецкая порноиндустрия дошла до таких изысков не раньше середины восьмидесятых. Да, голубчик, да, во все дыры. Если предельно опошлить ситуацию. А мне даже нравилось. Безумно меня возбуждала беспощадная честность происходящего. Ну вот, представьте, читает вам кавалер любовный сонет в лунном свете, дарит вам цветочек, нежно целует в ушко, а потом обнажает свои гениталии, а вы свои обнажаете и тут же, после сонета и цветочков начинаете ими тереться, поскуливая от наслаждения. В этом есть какая-то ложь. Вы не находите, голубчик? Фу, отвратительно! Чего здесь может возбуждать? Стыдно. Игорь поступал со мной по-другому.
– Я хочу, чтобы ты мне делала это, – говорил он, и я делала.
– А сегодня я желаю воспользоваться той частью твоего тела.
Я послушно подставляла искомую часть, и он пользовался. Каждый день я получала простые и понятные подтверждения своей востребованности. На фоне окружающей запутанной лжи и лицемерия наши грязные отношения казались прозрачным горным родником. И я пила из этого источника большими судорожными глотками, задыхаясь от оргазмов, счастья и любви. Да, да, голубчик, любви, как бы дико это ни звучало. К сожалению, женская физиология быстро исчерпаема. Ну, куда, ну, как? Где найти еще одну узкую полость для трения? Как еще изогнуться сто пятидесятым способом? Можно ли ублажить любимого и себя новизной, когда рук всего две, пальцев десять, про непарные органы я и говорить не буду. Как писал мудрый поэт:
Дева тешит до известного предела…
…Сколь же радостней прекрасное вне тела…
Вне тела оказался действительно целый океан радостей. От физиологических упражнений Игорь перешел к психологическим экзерсисам. Он начал стремительно хаметь. Теперь, чтобы заслужить близость со своим властелином, я должна была драить полы в его комнате и отстирывать подванивавшее бельишко. Иногда этим дело и ограничивалось.
– Извини, Пулька, – говорил властелин, – устал, смена на работе была сложная.
И да, забыла сказать, голубчик, полы я драила голенькая. А если ему казалось, что я принимала недостаточно эффектные позы, он лениво бил меня по попе ремешком с армейской бляхой в виде звезды. Часто Игорь опаздывал на свидания. Я могла ждать его у памятника Маяковскому часами. Однажды не дождалась и ушла. На следующий день он избил меня, и не солдатским символическим ремнем, а своими удивительными красивыми руками.
– Сука, тварь, шлюха подзаборная! – кричал он, сидя на мне, вырывая одной рукой волосы на голове, а другой крепко сжимая шею. – Ты что о себе возомнила, тварь? Кто тебе разрешил?
– Прости, Игоречек, я не хотела, я думала, ты не придешь, я два часа тебя ждала.
– Кто тебе разрешил думать, корова тупая? Ты не для того, чтобы думать, ты обслуживать меня должна. Поняла, мокрощелка?
Он сидел на моей спине, засовывал пальцы в мой рот, растягивал губы и тянул голову назад. Уголки губ треснули, из них сочилась кровь. Едва шевеля языком, путаясь и задевая пальцы Игоря у себя во рту, я промычала:
– Я лю-блю тебя. Я боль-ше не буду. Ни-ко-гда. Я бу-ду об-слу-жи-вать.
– Давай, – сказал он, отпустил меня и лег на диван.
Мотая головой и мыча, роняя на пол кровь из порванного рта, я поползла к нему. Он долбил меня, как отбойный молоток стахановца угольный пласт. Долбил и целовал в разбитые губы. Кончая, Игорь впервые за время нашего знакомства простонал сквозь сжатые зубы:
– Я люблю тебя, сука-а-а-а-а…
Услышав эти слова, я разрыдалась, и меня накрыл такой оргазм, такой оргазм… наверное, если подключить ко мне тогда провода, Москва месяц бы жила на моем электричестве.
Через год Игорь признался, что он лейтенант КГБ, работает на Лубянке, а история про мастера лампового завода – это легенда для наивных комсомолок вроде меня. Я и раньше догадывалась, слишком он был непрост для обычного фабричного парня. Отношения наши к тому времени утряслись и вошли в спокойное, если так можно выразиться, русло. Каждый прочно занимал отведенное ему место. Свидания как таковые закончились. Игорь просто говорил мне:
– Жди на Пушкинской с восьми до одиннадцати.
Я ждала, и он приходил или не приходил, что случалось чаще. Когда хамство достигало апогея и я, с трудом наскребая по сусекам остатки достоинства, пыталась взбрыкнуть, он выкладывал последний козырь:
– Родина, Пулька, в опасности. Государственная необходимость заставляет меня вести непростой, не всем понятный образ жизни. Ну, ты-то меня понимаешь?
Я делала вид, что понимаю, и все шло своим чередом. Как-то раз Игорь приказал ждать с девяти до одиннадцати около его дома. Я ждала. Ключей от своей комнаты он мне не доверял, объясняя это большими государственными секретами в его комоде. Я ждала, я была послушной девочкой. В пять минут двенадцатого он показался из-за деревьев. Сердечко, как всегда, затрепетало от радости. «Вот хорошо, что не ушла, – похвалила я сама себя. – А то бы разминулись». И уже хотела радостно кинуться ему на шею, прикоснуться к его удивительным рукам и тяжелым распускающимся бутонам ладоней, но вдруг увидела идущую рядом с ним девушку. Оборвалось что-то внутри, нитка какая-то лопнула по самому главному, скрепляющему меня шву. Я осыпалась внутрь, но осталась стоять на месте. «Может, это просто прохожая, – пыталась уговорить я себя, – может, рядом просто идет?» Нет, девушка держала его под руку. «Тогда соседка. Соседка, он говорил, что у него молодая замужняя соседка в коммуналке объявилась». Они подошли поближе, и стало видно, что Игорь обнимает девушку за талию. «Тогда сестра, он рассказывал о сестре в Пскове, встретил ее на вокзале и сейчас домой ведет, сюрприз мне устроить решил, познакомить с сестренкой». Не решаясь заговорить первой, я провожала проходившую мимо меня парочку глазами, полными ужаса и мольбы.
– Игорь, – кокетливо обратилась к моему властелину спутница. – А чего это девушка на нас так странно смотрит?
– Которая, – засуетился он, – эта?
– Эта, эта, со странными выпученными глазами. Это твоя пассия бывшая, что ли?
– Да нет, ты что, это соседская девчонка Пулька – дурочка, с головой у ней не все в порядке. Смотри, я ей сейчас конфетку дам, она обрадуется и очнется.
Он протянул мне леденец в пестром фантике, я машинально взяла, а они пошли дальше. Из раскрытой двери подъезда до меня донесся противный смех и масленые слова девицы:
– Леденец, ха-ха. А мне ты дашь леденец, ха-ха-ха? Смотри-ка, лицо у нее и впрямь разгладилось. Дурочка, а леденцы сосать любит. Ха-Ха-Ха-Ха…
Дверь в подъезд захлопнулась, голоса смолкли. Я стояла в сгущающихся майских сумерках и держала в руке конфету. Лопнувшая по самому главному шву нитка раскрыла мое нутро, и мне почудилось, что сжавшиеся от ужаса внутренности вывалятся сейчас на асфальт, смешаются с пылью, пропитают ее бурой застывшей кровью. Чтобы оттянуть катастрофу, я развернула фантик, вытащила леденец, положила в рот и стала яростно перекатывать его языком. Это что-то напомнило мне. Что-то очень знакомое и приятное. Я представила, как там, наверху, кокетливая девка так же перекатывает во рту, у себя во рту… Это же мне принадлежит по праву! Только мне! Нельзя!!! От обиды я зарыдала, завыла на всю улицу, но вдруг покраснела, размякла и оборвала вой похабным стоном. В липкой от сладкой слюны гортани стало душно и горячо, и не только там. Я плакала и текла, плакала и текла. Как последняя сука текла во время течки. Я понимала, что прощу ему все, и это прощу. Я понимала, что я очень нехорошая, и не я должна прощать, а меня. Я все про себя понимала. На следующий день Игорь, неловко путаясь, объяснил, что это не то, что я подумала, а встреча с агентом государственной важности, и что я молодец, не раскрыла его перед агентом, и что… Он еще чего-то говорил, оправдывался и нападал, а я молчала. Я боялась словом или интонацией выдать свое счастье. Нельзя ему было показывать счастье, таким, как он, нельзя. Я молчала, а сама плавилась от гордости. Я снова нужна, я снова по-простому, по-честному востребована. Он меня не бросил, не бросил!
– Ты вот что, – устав мямлить невразумительный бред, сказал Игорь, – жди меня сегодня у памятника Маяковскому с семи до десяти. Хорошо?
– Хорошо, – ответила я, не удержалась и поцеловала его в шею.
Два года, голубчик, два страшных и прекрасных года я была под пятою моего властелина. Я узнала себя с таких сторон, с которых человек себя знать не должен. Я падала в бездну. На других парней и смотреть не могла. Что они мне могли дать? Любовь? А что такое любовь по сравнению с бездной? Я успела закончить институт и стала работать в школе, учительницей. Я даже получила малогабаритную, но зато отдельную квартиру в Кузьминках. Все радости, все события, для нормального советского человека эпохальные, проскакивали мимо. Квартира, работа, ученики и новые друзья скользили по ледяным краям бездны и тонули в темноте. Жизнь свернулась в крохотную красную точку лазерного прицела, и этой точкой был ОН. После случая у его дома другие женщины стали скучной обыденностью. Игорь даже как-то попросил у меня ключи от моей новой квартиры.
– Понимаешь, – сказал задушевно, словно собутыльнику, – дочка у соседей вымахала в телку сисятую, семнадцать уже ей. Согласная она на все, только стесняется, все-таки родители за стенкой. Дай ключи, будь человеком, а?
И я дала, я дала, голубчик. А что делать? Потерявши голову, по волосам не плачут. Бездна, ледяная и скользкая. По-своему Игорь привязался ко мне, можно сказать, полюбил. Ну, как к домашнему животному, голубчик, привязался. Ласковая, послушная теплая собачка, и трюки всякие делать умеет, и постирать, и другое. И квартира отдельная опять же. Редкий по тем временам вариант. Это сейчас бабы ради самого завалящего члена на ушах танцевать готовы. А тогда, несмотря на острую послевоенную нехватку самцов, старались себя блюсти. Любопытно, голубчик, но я не чувствовала себя жертвой. Все понимала про него, но еще больше понимала про себя. И в принципе была счастлива, как никогда после. Охо-хо… горе от ума, и от тела предательского, и от честности чрезмерной. Нельзя честному человеку на свете жить, лучше повеситься сразу. Так честнее будет.
На двадцатисемилетие Игоря я решила сделать ему подарок. Думаю, это стало последней каплей, окончательно определившей мою судьбу. А может, и нет, голубчик. Не знаю, да и какая теперь разница? Я готовилась, накрыла стол у себя в хрущевке, надела самое красивое платье и неумело накрасила лицо. Он пришел поздно, умеренно пьяненький, и с порога стал расстегивать ширинку. По пьяни у него всегда случался приступ стояка.
– Подожди, – сказала я. – У меня для тебя сюрприз.
Я повернулась к нему спиной, подняла платье выше пояса и встала на колени. Под платьем ничего не было.
– Выпори меня, – сказала, уткнувшись лицом в похолодевшие ладони.
Он и раньше меня поколачивал. Обычная бытовая история с минимальным эротическим подтекстом. Мужик самоутверждается, баба выворачивается. Старинный и набивший оскомину брачный ритуал. Зачем я решила вытащить на свет традиционный садомазохизм, присущий всем русским людям? Не знаю. Угодить хотелось ему сильно, придумать, подтвердить тысячу первым способом свою востребованность. Из омута в омут нырнуть хотелось. Вроде когда падаешь без парашюта, и земля уже близко, и ужас пика достигает, но вдруг открывается люк в земле, и падаешь в него вместо ожидаемого столкновения. И ужас сменяет еще больший ужас, такой беспредельный, что оборачивается своей противоположностью, извращенным и от этого еще более острым счастьем.
Я стояла перед моим властелином на коленях, обхватив ледяными руками горящее лицо. Оголенную попу щекотал гуляющий по квартире сквозняк. Игорь не шевелился, казалось, он даже не дышал. Сколько так продолжалось, не помню. Долго, очень долго. Напряжение росло, словно неведомый пресс сдавливал секунды в крепчайший монолит, без просвета, без зазора, без продыху. Невозможно было существовать, не оставалось места для существования… Свист. Свист ремня прекратил мучение. Кожу на попе ошпарило благодатное, несущее свободу действие, и время двинулось дальше. Вакханалия началась, истерика. По-моему, я плакала, по-моему, он тоже плакал или рычал. Или это я рычала. Или молилась в экстазе, или умерли мы оба. Или воскресли?..
После, натягивая брюки, возвышаясь надо мной, помятой, в очередной раз покоренной и униженной, он небрежно сказал:
– Меня кандидатом в партию сегодня приняли.
– Поздравляю, любимый, – сказала я, обнимая его лодыжки.
Он пнул меня ногой в живот и раздраженно огрызнулся:
– Чего поздравляешь, дура, холостых в партию не берут. Указивка новая вышла.
«Сейчас скажет, что ему надо жениться, – испугалась я. – На какой-нибудь страшной дочке полковника или генерала. Для партии, для карьеры. Господи! Сделай так, чтобы он не женился или хотя бы чтобы я осталась его любовницей. Я знаю, что партийным офицерам КГБ запрещается любовница. Но сделай, в виде исключения, пожалуйста, умоляю. Я не смогу снова жить сиротой. Умоляю, сделай…»
– Что вылупилась, корова? – спросил Игорь. – Не поняла еще? Расписаться нам надо. Ты девка теплая, послушная, с квартирой. Зря я, что ли, два года тебя воспитывал.
Счастье, голубчик. Сейчас есть, когда сейчас есть, когда живешь, тогда и счастье. А без него мне никакого «сейчас» не было, без него меня самой не было. От резких, словно на американских горках, перепадов настроения я совсем растерялась. Спросила глупо:
– Так это предложение?
– Не предложение, дуреха, а приказ. Ну-ну, смотри, не обсикайся от радости. Еще начальство должно одобрить твою кандидатуру. Положено у нас так.
Я сидела у него в ногах, растрепанная, с красными следами ремня на голой попе, залитая его выделениями, и чувствовала себя победительницей всех соревнований и конкурсов на свете. Смогла, сумела, вытащила выигрышный, один на миллиард, лотерейный билет. Благодарность к моему властелину чуть не разорвала меня. Я замерла, сидя на холодном полу, хлопнула ресницами, смахивая с глаз набухшие слезы, а потом прильнула к его голым ступням и стала нежно посасывать пахнущие несвежими носками пальцы.
Голубчик, миленький мой голубчик, если вы думаете, что порка была дном моего падения, то ошибаетесь. У падения нет дна, я вам уже говорила. Оно свободное, это падение. Некоторые романтики называют это состояние невесомостью. Возможно. Нет веса, нет дна, no woman, no cry. Гагарин тоже думал, что летит над землей, а он падал. Это физика, голубчик, будь она неладна, все беды в мире от нее. Но я опять отвлеклась. Через месяц, когда начальство Игоря одобрило нашу свадьбу, он пригласил своих друзей отметить нечто вроде нашей помолвки.
– Смотри, Пулька, – сказал строго, – будь с ними ласкова, нам еще вместе Родину защищать.
Я старалась, голубчик, ой, как я старалась. В субботу взяла отгул в школе, позвала девчонок-однокурсниц, и мы сутки почти кашеварили на моей маленькой кухне. Я купила дорогущее платье в ЦУМе. Рано утром в воскресенье первый раз в жизни провела три часа в парикмахерской. Вышла кинозвездой с завитыми барашком волосами, стрелками на глазах и наманикюренными пальчиками. Увидев меня, Игорь произнес странную фразу:
– А ты ничего, даже жалко…
– Что, что-то не так? Что жалко?
– Жениться на тебе жалко, – засмеялся он. – Такая красота должна принадлежать народу. Обзавидуются мне мужики, на части разорвут.
Я поцеловала его в щеку и, счастливая от редкого комплимента, побежала готовиться к приходу гостей. Они пришли без опоздания, шесть неприметных молодых мужичков со смазанными простыми лицами. Почему-то у всех были тонкие губы и светлые, цвета алюминия глаза. «Расстрельная команда», – некстати вспомнилась мне фраза из книжки про войну. Но я отогнала неуместную мысль. Я пыталась быть приветливой и светской. У Игоря должна быть фантастическая жена, такая же фантастическая, как и он сам. Я принесла из холодильника водку и пригласила гостей за стол. Они сели синхронно, словно строевое упражнение выполнили. Мне стало страшно, за столом повисла неловкая пауза.
– Ну, выпьем за хозяйку дома, – разрядил обстановку Игорь. – За ее золотые руки, за сердце алмазное, за доброту и ласку, которой она нас сегодня обогреет.
Я едва пригубила стопку. Водка неприятно захолодила губы.
– Э, нет, – заметил мой символический глоток Игорь, – Не надо моих товарищей обижать. Сегодня пьем до дна.
Меньше всего мне хотелось обижать его товарищей. Пятьдесят граммов провалились в желудок, немного отпустило, страх куда-то ушел, и я стала накладывать гостям салаты. Через полчаса, после пяти тостов парни уже не казались мне расстрельной командой. Обычные ребята, а что до их неприметной внешности, так ведь работа у них такая, Родину защищать. Включили музыку. Когда я танцевала с Игорем, он просительно, что было для него странно, шепнул мне на ухо:
– Потанцуй с парнями, а то они вообще без женщин озвереют.
– Конечно, конечно, Игоречек, не волнуйся, – ответила я и на следующий танец сама пригласила одного из гостей. Заиграла медленная мелодия. Парень крепко прижал меня к себе. Ничего неприличного, но мне почему-то стало неловко. Танец закончился, мы сели, выпили и опять поставили музыку. Я запомнила эту песню, она тогда только появилась, Tombe la neige Сальваторе Адамо. Падает снег. С тех пор я не могу смотреть на снегопады, голубчик. И зиму переношу с трудом. И цвет белый ненавижу. Второй гость танцевал наглее, пытался ущипнуть меня за попу. Я терпела, ради Игоря я терпела. Снова сели и выпили. Но отдохнуть мне долго не дали. Опять поставили полюбившуюся Tombe la neige, и меня пригласил следующий гость. Он оказался самым наглым, сосал мокрыми губами шею, лапал за сиськи, а когда на глазах у всех засунул мне руку под юбку, я не выдержала, подбежала к стоящему спиной Игорю и закричала:
– Он меня лапал, лапал. Ты видел, он меня лапал!
Игорь медленно развернулся. Спокойно развернулся, неудивленно совсем.
– Пулечка, родная, не волнуйся, сейчас разберемся, – сказал он ласково. – Я не видел, я спиной стоял, но сейчас разберемся. Я никому свою невесту в обиду не дам.
Он гладил меня своими волшебными солнечными руками, а я плакала у него на груди, пачкая рубашку потекшей тушью. Так спокойно стало, так хорошо. Как будто он отец мне, а я девочка маленькая снова. Только не было у меня отца никогда, голубчик. Не заслужила. Игорь был. Игорь – это все, что отмерили мне щедрые небеса. Игорь – мой хозяин и повелитель.
– Я сейчас разберусь, – уверенно сказал он. – Это очень просто. Просто спросим у Николая, как у офицера спросим, как у коммуниста. И он нам просто все расскажет. Давай? Давай спросим?
– Да-вай-й-й-й… – всхлипнула я.
– Ну, вот и отлично. Коля, скажи мне, перед лицом наших товарищей скажи. Ты лапал мою невесту?
– Да ты чего, Игорек, охренел? – возмутился Коля. – Как я мог? Она же невеста твоя. Нервная она у тебя. Показалось ей.
– Не врите, – заорала я, – все видели! Зачем вы врете?! Скажите ему, вы же видели, скажите…
Гости молчали, недоуменно кривили тонкие губы и отводили глаза.
– Вы видели? – после паузы похоронным голосом спросил их Игорь.
– Нет, нет, нет, – зашелестели парни. – Да разве мы бы допустили, если бы видели. Нет… нет… не видели…
Мне стало очень стыдно, я почувствовала себя сумасшедшей. Может, и правда мне показалось? Господи, ужас-то какой!
– Простите, извините, наверное, я неправильно поняла… – залепетала жалко, покрываясь бордовыми пятнами.
Игорь больно схватил меня за плечи и дернул к себе. Его лицо застыло, превратилось в светлый, белый почти гранит. Он отчетливым громким шепотом, почти не разжимая губ, прошипел:
– Что ж ты, сука, делаешь? Ты с товарищами меня поссорить хочешь? С боевыми товарищами? Ты, тварь, опозорить меня решила, да?
– Но я… но мне… показалось… Прости мня.
– Раком, сука! – рявкнул Игорь. – Быстро встала раком!
За два года он хорошо меня выдрессировал. Как собаку Павлова. Ослушаться его было немыслимо. «Ну, вот сейчас унизит меня и успокоится, – уговаривала я себя. – Тем более я и вправду виновата. Подставила его перед друзьями». Медленно, очень медленно я нагнулась и опустила голову в пол.
– Голову, тварь, подними! Посмотри в глаза моим товарищам.
Я подняла голову.
– А теперь, задрала платье и спустила трусы. Быстро, я сказал!
Остатки человеческого достоинства булькнули где-то глубоко внутри. Я замотала головой и тихо произнесла:
– Нет, нет, ты что, так нельзя. Нет.
Позы не изменила. Привычка слушаться своего властелина сковала тело. Сильно, до полуобморока, заныла спина. Пальцы похолодели и начали неметь.
– Молчать, тварь! – как Гитлер, срываясь на фальцет, закричал Игорь. Потом снизил тон и более спокойно, даже проникновенно продолжил: – Ты обидела моих друзей. Понимаешь? Ты должна искупить, загладить. Сделай это, и мы все забудем. Они никому не скажут, они настоящие офицеры…
– Нет, нет, нельзя, – в ужасе шептала я.
– А если нет, то не будет никакой свадьбы. Я не смогу, я просто не смогу на тебе жениться. Сделай, Пулечка, ради нас сделай. Мы будем с тобой долго жить, у нас детки родятся. Двое, девочка и мальчик…
– Нет, нет, неправильно, – бормотала я, зажмурив глаза.
Я просила бога, Карла Маркса, Партию, пол из линолеума, я всех просила, чтобы он остановился. Я надеялась. Я очень надеялась. Очень…
– Трусы сняла, сука! – после увещеваний снова рявкнул Игорь и ударил меня ремнем по попе. – Быстро! Кому я сказал, быстро!
Удар ремня сломал меня, как будто я не человек, а хрупкая детская игрушка из тонкой пластмассы. Торопясь и путаясь в оборках длинной юбки, я задрала платье и суетливо стянула трусы. Но я надеялась, даже с голой задницей надеялась, что он остановится. Потреплет мои волосы, прикроет голую попу, скажет: «Шутка, шутка это была, а ты и поверила, дуреха. – И даже когда он вонзался в меня, я надеялась. – Шутка, шутка, розыгрыш…»
– Музыку включите погромче, – сказал Игорь.
Он приладил меня к себе, как мастеровитый столяр громоздкий верстак. Крякнул удовлетворенно и начал РАБОТАТЬ. Туда-сюда, туда-сюда. Скупые, точно рассчитанные движения знатока своего дела. Заиграла музыка. Невероятно красивая песня на невероятно красивом французском языке оплакивала мою невероятно глупую и убогую жизнь. Tombe, будь оно все проклято, la neige…
Голубчик, я хотела честности, я получила ее сполна. Честность была передо мной, кривила тонкогубые рты и смотрела равнодушными белесыми глазами. Честность стояла позади и натягивала меня на свой честный осиновый кол. Tombe la neige, голубчик… Это было так честно. Меня, родившуюся в тюрьме, дочь замученных родителей, убогую сироту, обманом пробравшуюся в счастливую московскую жизнь, трахали, распинали и унижали семь бравых молодцов из ЧК. Белоснежка и семь гномов, русский холодный вариант. И Tombe la neige, голубчик. Все по-честному, они трахали мою мать, они трахали меня, они и мою дочь трахать будут. Голубчик, есть те, кто трахает, а есть те, кого. Я из вторых, я тогда поняла это очень четко и поклялась, что никогда, никогда, вы слышите, голубчик, никогда не будет у меня детей. Tombe la neige, все по-честному. Просто падает снег и вплющивает непокрытые темечки людей в мерзлую, злую землю. Просто падает снег, и все по-честному…
Я стояла раком, уперевшись руками в стол. Передо мной в полуметре сидели гэбэшные молодцы и внимательно, словно подопытное животное, на котором ставят важный эксперимент, рассматривали меня. Некоторые курили, другие негромко обменивались мнениями.
– Хороша девка…
– Холодновата что-то.
– Ничего, сейчас раскочегарится…
– Две минуты, спорим, что две минуты, потом поплывет.
– Спорим, засекаем.
– Надо ей дойки вытащить, у нее красивые дойки.
– Если помацать сиськи, быстрее будет…
Один из молодцов протянул ко мне руку, разорвал красивое дорогое платье и схватил грудь. Начал крутить соски, словно отверткой шуруп завинчивал. Без эмоций, голая техника. Крутил и заглядывал в глаза. Поплыла, не поплыла? Меня перемкнуло. Не от его механических движений, конечно. От другого. «Я же им совсем не нужна, – подумала я. – Совсем, совсем. Я для них инструмент просто, как отмычка или молоток. Сиськи и жопа на месте, и хорошо. Я и Игорю не нужна. А ведь я его люблю. Он мой властелин и повелитель, и он так спокойно, так равнодушно поделился мною. Потому что у меня есть сиськи и жопа. И они на месте. Я им не нужна, а сиськи и жопа пригодятся. Сиськи и жопа, вот мой смысл, вот мое предназначение. Боже мой, это же омут, самый глубокий и сладкий омут, в который я еще не ныряла. Но надо, надо нырнуть, там, может, дальше еще один, и еще… Как хорошо, как сладко и правильно, наконец я нашла свое место…»
– А что я говорил, потекла?
– Меньше двух минут, товарищи, я выиграл…
– Молодец, Игорь, хорошую шалаву подогнал…
– Однако пора и приступать, девка вон вся красная.
– Того и гляди, удар хватит…
– Ладно, поехали, раньше сядем, раньше выйдем.
– Поехали?
– Поехали…
Что было дальше, я помню плохо. Вот вы, голубчик, помните свои оргазмы во всех подробностях? Помните, наверно, что были. Ну максимум длинные или короткие, слабые или сильные. И все. А там был один сплошной непрерывный оргазм. Неприятная штука, скажу я вам. Выматывающая. В конце, кажется, я потеряла сознание. Когда очнулась, Игорь нес меня на руках по коридору и успокаивающе шептал:
– Все, все кончилось, они ушли, потерпи, сейчас легче станет…
Помню смутно, как блюю голая в ванне, а Игорь поливает меня из душа и нежно, очень нежно намыливает мое красное, в ссадинах и синяках тело. А потом мы сидели на кухне и пили водку. Он мне дал сигарету, я сильно кашляла, но все равно затягивалась, первый раз в жизни затягивалась горячим дымом.
– Скажи «А-а-а-а-птека», – учил он меня.
Я говорила «А-а-а-птека», и дым проникал в легкие. Загрязнял их, зато все остальное прочищал. Особенно мозг. Грязи я не боялась. Чего уж теперь…
– Скажи мне, любимый, – еле ворочая заплетающимся языком, спросила я у Игоря. – Нет, ты мне скажи, ты с самого начала задумал из меня подстилку вашу чекистскую сделать или хоть денек, хоть часок, хоть одну секундочку любил меня?
– Дура, я, между прочим, жениться на тебе хотел. Еще год назад хотел. Правда, честное слово. Пришел честь по чести к майору. Сказал, так и так, хочу жениться. Девка уж больно хорошая, покладистая, написал отчет, полагается у нас так. А меня через неделю вызывают и говорят, шлюха твоя невеста, и заключение психологов показывают. Я даже спорить пытался. Чуть взыскание не заработал. А они говорят, шлюха, и все. Ты думаешь, я скотина конченая? Думаешь, я сам бабу у тебя на глазах к себе домой привел? Они сказали так сделать. Сказали, ты вытерпишь, потому что шлюха. И ключи от твоей квартиры попросить, чтобы соседку трахнуть, они сказали. Я думал, ты не выдержишь. А ты терпела и терпела, терпела и терпела, как шлюха терпела, как…
– Я любила тебя, дурака, я жила для тебя, а ты…
– Да нет, Пуль, ты просто шлюха. Нравилось тебе. Сегодня и сама поняла небось, что шлюха. Чего теперь говорить… Сама подумай, зачем мне жена шлюха?
Я подумала и сказала:
– Незачем. – И заплакала горькими пьяными блядскими слезами. И прижалась мокрой щекой к моему бывшему повелителю. А он стал гладить меня и успокаивать:
– Ну чего ты так убиваешься? Ты не виновата, ты просто родилась такой. Не виновата ты. Мне психологи сказали – это от рождения. Просто такой темперамент.
– Такой темперамент, – повторила я и снова зарыдала.
– Не переживай, это тебе еще повезло, что на меня нарвалась. Ты об этом лучше подумай. Если бы не я, все равно шлюхой бы стала, только дешевой подзаборной. Ну видела, на Трех вокзалах такие околачиваются, за стакан портвейна минет делают. Мне психологи так сказали.
– Психологи так сказали, – снова повторила я, но на этот раз не заплакала. Слез больше не осталось.
– А так Родине послужишь, – продолжил Игорь. – Родине все нужны, даже шлюхи. Родина никого не забывает. Ты знаешь, какая у нас великая и добрая Родина? Ну, ты же знаешь. В ней всем место есть, даже шлюхам. Она и тебе место нашла. Спасибо надо сказать.
– Нашла, – сказала я. – Спасибо.
– Ну вот и отлично. Давай выпьем за нашу великую Родину, Пулька. И без обид.
– За Родину. Без обид, – согласилась я, выпила водки и сковырнула пальцем засохшую сперму с губы.
Вот и все, голубчик, теперь вы знаете. Теперь я сама знаю. Права вредная старая сука Пульхерия оказалась. Я блядь. Трудно жить, но буду. Неудивительно, что сошла с ума. Но ведь зачем-то я живу, голубчик? Зачем-то мучаюсь и вспоминаю свою позорную жизнь. Значит, есть, голубчик, смысл? Ну, хотя бы надежда на смысл есть. И пока она есть, я буду жить и вспоминать. Жить и вспоминать… Эй ты, старая сука, ты слышала, что я сказала? Ты права. Я сказала, что ты права. Ты этого хотела, да? Ты за этим меня тридцать лет мучила?
– Жизнь сложна и лажова, только жестко жевать эту жизнь, ею давятся снова и снова, выделяя из глоток слизь. Туго и тесно жить на свете, рождаются дети, а уже бляди и живут дальше Христа ради. Купаются в фальши, омываются дерьмом, но это их дом. Это их божий дом, и бог хочет сделать его краше. Под призором неба живут в позоре, добывают хлеб, жуют горе. Глазами моргают, икают страдающе, для богохульств отверзают уста. Млечный Путь загадили млекопитающие, полагающие себя венцом творения существа. Вещества почти не осталось. Жалость, Пуля, мир спасет, не красота, а жалость. Мне жалко людей, лебедей, блядей, червяков, птиц, цыплят, чистых, не чистых, чекистов, коммунистов, жуликов, святых, светлых и темных, узкоглазых, больных, здоровых, клопов, гениев, святых и грешников, насекомых мне тоже жалко, летучих голландцев, пьющих алко финнов, евреев, вечно проходящих мимо, муравьев, антилоп и цикад, львов, тех, кто прав, и тех, кто не прав. Мне жалко любого или любую. Я целую всю грязь этой земли, я и тебя, Пуля, целую. Живи. Живи. Живи.