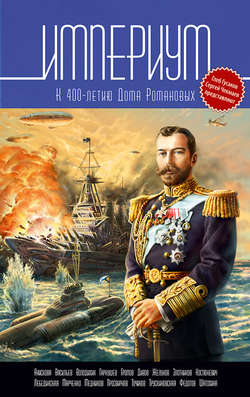Читать книгу Империум. Антология к 400-летию Дома Романовых - Александр Тюрин, Далия Трускиновская, Дмитрий Федотов - Страница 5
Россия во мгле
Андрей Марченко. Межвременье
(Аппарат Лессингера)
ОглавлениеМежду високосным шестнадцатым и несчастливым семнадцатым лежит Тайный год. Он полностью выстроен и наполнен: дома ждут своих жильцов, в полях июля ветер гоняет золотые волны спелой пшеницы. Его изрядно исследовали, однако же ни единого человека в нем обнаружить не удалось. Пока это единственный обнаруженный Тайный год, но дней не в счет, недель про запас – хватает.
Классическая темпоральная теория называет такие дни «карманами времени», но отнюдь не объясняет их. Неклассические – скорей запутывают, нежели проливают свет на данный вопрос.
Тайный год похож на потерянный континент, Атлантиду. Туда уже не ступит нога человеческая. Ибо, как всякое прошлое, оно закостенело. Но впереди много подобных несущественных и несуществующих дат. И порой хочется покинуть вторник, но явиться в среду лишь через пару дней отдохнувшим, или посреди Великого поста получить скоромную неделю. Верно и то, что, прожив эти тайные дни, вы станете старей своих сверстников на оное время – внутренние часы не обмануть.
Но это мелочи…
– Наверное, в этом доме произошло несчастье? – спросил кто-то за спиной.
Шарманщик обернулся. Незнакомец в почтительном жесте приподнял широкополую соломенную шляпу, столь обычную в этих летних краях. Он с любопытством рассматривал и шарманку, которая мурлыкала за спиной шарманщика, и обезьянку, сидящую на инструменте. Но куда больше его занимали люди, которые с почтением несли печальные цветы в дом с окнами, задрапированными черным сукном.
– Несчастье случится завтра, – сказал шарманщик. – Умрет купец первой гильдии Иностранцев. Вот и спешат выразить уважение пока живому.
– У вас в городе имеется аппарат Лессингера?..
Шарманщику оставалось лишь кивнуть:
– Высочайшей милостью дарован городу. Вы же наверняка знаете, что государь благоволит нашим краям.
Приезжему то было ведомо. Он лишь указал глазами на купол храма, стоящего на площади. Шарманщик печально улыбнулся и кивнул. Все церкви мира словно сговорились и к работам Лессингера относились неодобрительно. Неодобрение менялось в широких пределах: одни церкви сулили ад хоть раз взглянувшим в окуляр аппарата, другие, в частности православная, полагали это грехом, но не столь уж неискупимым – вроде гадания или столоверчения.
В самом деле: скорая смерть купца Иностранцева ни для кого в городе не составляла тайны – болезнь грызла его тело давно, изрядная часть барышей уходила на оплату докторов и поездки в разные лечебницы. Битва с хворобой долгое время шла с переменным успехом, но последнее время она стала одолевать. И в один день купец отослал докторов, но призвал священника, исповедовался в грехах совершенных и задуманных. Должным образом было написано прошение в соответствующий департамент, и городской думой оно было без промедления удовлетворено. Затем аппарат был извлечен из хранилища в подвале отделения Государственного банка.
– Говорят, вход в рай расположен где-то вблизи пятницы, – заметил шарманщик. – У господина Иностранцева есть все виды туда попасть. Оператор видел его в четверге, но не в субботе.
– Как уместно, – сказал приезжий.
Его взгляд скользнул по уличной тумбе. С одной афиши гостей и жителей города зазывали в электротеатр. Сулили новейшую ленту синематографического ателье «Пате – Попов», снятую по последней столичной моде – в цвете и со звуком. Рядышком ветер трепал извещение о том, что в это воскресенье состоится открытие традиционной Азовской регаты на кубок цесаревича Павла. И внизу улицы, за красными куполами храма Николая-мученика расплескалось море. На нем белели запятые парусов, да британский эсминец в сопровождении французских канонерок шел к берегу. Дым поднимался к облакам.
Приезжий подобрал саквояж и уже собирался идти, к гостинице, как почувствовал, что кто-то тянет за рукав его чесучового костюма. Мужчина обернулся. Обезьянка протягивала ему билетик счастья.
– Берите, берите, – подбодрил шарманщик. – За счет заведения.
Когда мужчина всё же взял билетик, шарманщик заспешил прочь, в глубину сквера, к фонтану. Шарманка покатилась вслед за ним. Приезжий пожал плечами и отправился в иную сторону.
Из окна недорогой пивной штабс-ротмистр рассматривал, как внизу, на бирже, с плоскодонных барок, спустившихся по реке, перегружали приазовское зерно на баржи, стоявшие на рейде. Уже тянули за город железнодорожную ветку, уже строился новый, большой порт. Но в хлебной гавани еще только мостили волноломы, и зерно покамест грузили тут. Хлеба в этом году уродили, и в былые времена маклеры и купцы потирали бы руки, предвкушая барыши. Однако же былые, старые добрые времена остались где-то там, до Великой войны. А сейчас зерном приходилось расплачиваться за долги и кредиты.
Пять лет назад, когда еще не закончилась Гражданская война и хозяйства стояли разоренные, когда на Кавказе еще колобродили горцы, в Сибири и даже в плавнях Кубани прятались банды, ударила засуха. Удалось не допустить превращения недорода в голод, но произошло немыслимое: империя, которая ранее кормила всю Европу, – завозила зерно. Закупала в долг, под обещания концессий, в урон своему престижу… По требованиям союзников пришлось даровать независимость Польше, Прибалтике. Финляндия получила ее чуть раньше – в обмен на военную помощь, на стотысячный корпус, вошедший в мятежный Петроград с севера.
Украину удалось удержать, впрочем, даровав ей автономию вроде довоенной финской, Раду и собственные войска – десять тысяч реестровых казаков, подчиненных гетману. При этом гетман, хоть и утверждался государем, выбирался Радой.
Как раз по мостовой куда-то вниз, к морю прошелся офицер в форме сотника Войска Запорожского. Уж что он делал в этих краях – непонятно. Навстречу гайдамаку из подворотни выскочил юноша в темно-зеленом мундире связиста, юркнул в пивную и сел напротив штабс-ротмистра за уже заказанную, но изрядно степлившуюся кружку пива..
– Хлебнем мы еще горя с этими самостийниками, – зевнул офицер, провожая взглядом удаляющегося гайдамака.
Юноша, не обращая внимания на слова старшего по званию, схватил кружку и начал пить. Пил быстро и, влив в себя за какие-то секунды половину кружки, после, отер рукавом губы, зашептал горячо, быстро и испуганно:
– Они – существуют! Они уже где-то рядом…. Они – уже в сегодня!
– Они?.. Кто – они? – поморщился офицер. – Не так быстро.
– Прыгуны во времени!.. Они тут, где-то среди нас. Они из будущего!
– Что за ерунда. Признайтесь, у вас тепловой удар?
– Тогда как вам это?
Из кармана мундира связист достал полуполтинник, протянул его офицеру.
– Смотрите, смотрите…
И посмотреть было на что. Судя по дате на монете, ее должны были отчеканить через пять лет. Затаив дыхание, штабс-ротмистр перевернул монету. Романовы были весьма похожи друг на друга, как и надлежит родственникам, и, чтоб исключить путаницу, справа и снизу имелись монограмма и подпись.
– Император Всероссийский Константин Первый, – прочел он задумчиво. – Фокус какой-то. Мистификация. Быть такого не может.
И дело было даже не в том, что великий князь Константин был в порядке престолонаследия отнюдь не на первом месте. Темпоральная теория Зворыкина однозначно считала прошлое незыблемым, поскольку на его плечах стоит настоящее. Будущее, напротив, иногда высоковероятно, но отнюдь не абсолютно. Следовательно, возврат в прошлое невозможен.
– Это ничего не доказывает, – покачал головой офицер. – Возможно, это остроумная подделка.
– Послушайте… Это настоящее серебро. Я еще не встречал таких подделок, просто чтоб потешить свое остроумие.
– Где вы его взяли?
– Принес какой-то нищий. Все знают, что я – нумизмат.
В самом деле – в годы Гражданской войны многие стали вынужденными коллекционерами. На базарах в те времена более всего ценились старые деньги Романовых – особенно монеты. Куда меньше веры было керенкам – с уже раскоронованным, но еще орлом. Совдензнаки вовсе шли по цене грязной бумаги. Немногим лучше были гривны и карбованцы украинской выделки. После войны дети, играя в магазин, часто расплачивались не листиками с деревьев, не рваной бумагой, а вышедшими из употребления кредитными билетами. Некоторые, однако же, их хранили, полагая, что со временем коллекция вырастет в цене.
Офицер еще раз вгляделся в профиль на монете. Безусловно, это был Романов – хотя без усов и бородки, с какой-то модерновой прической. Штабс-ротмистр попытался вспомнить, как выглядит великий князь в анфас, но из памяти всплыло нечто смутное – публика мало интересовалась его личностью, он не являлся на приемы, редко мелькал в газетах.
– Что делать? – стал торопить офицера связист. – Ведь мы должны что-то предпринять?
– Что?! – спросил офицер так, словно отрезал.
– Ну, это же очевидно. В город завтра прибудет цесаревич с семейством. Я читал, что будет и великий князь Константин Георгиевич… И, значит, его жизнь в опасности! Мы должны предотвратить…
– Почему его жизнь в опасности?
– Ну, это же очевидно! Ведь если он становится императором, то остальные цели неважны, мелки. Цесаревича с семьей, видимо, устранят обстоятельства… Император слаб здоровьем… Видимо, кто-то расчищает путь к престолу. Кто у нас следующий в очереди?
Офицер совершил жест, словно что-то перечеркнул. Собеседник замолчал. Но ненадолго.
– И всё же… Уверен, мы должны предотвратить приезд великого князя и предупредить цесаревича об опасности.
– А тебе не приходило в голову, – прищурил глаз штабс-ротмистр, – что некто как раз пытается спасти семейство цесаревича?.. Мне надобно снестись с Петербургом.
Глотнули пива. После из карманов френча штабс-ротмистр достал две потертые записные книжки. И, сверяясь с первой, стал черкать во второй. Закончив, переписал мешанину букв на салфетку и подал ее связисту.
– Допивайте пиво и идите к себе на службу. Телеграфный адрес вам известен. Когда поступит ответ – тотчас же ко мне…
У проходившего мимо полового офицер попросил огня. В пепельнице сжег ненужные уже листки, вырванные из записной. От огонька в пепельнице прикурил папироску и благостно откинулся на спинку стула.
– Вы не вернете мне монету? – набравшись смелости, спросил связист.
– А зачем? – Офицер пожал плечами. – Если это правда, через пять лет таких монет будет много.
В гостинице «Континенталь» приезжий представился Ильей Сургучевым, киевским журналистом, на которого телеграфом был забронирован номер. Комнату он получил выходящую окнами не во двор, но и не на центральную Екатерининскую, а на тихую Харлампиевскую. С дороги принял душ и, освежившись, снова надел костюм, вышел в город.
Время склонялось к вечеру. Бриз нес по променаду запах кофе, где-то ниже в кафешантане голосом с едва заметной трещинкой пел шансонье. Чуть ниже, на другой стороне улицы около касс синематографа стояла небольшая очередь. Сургучев купил билет, рядом – в киоске с сельтерской водой – неприлично сладкое мороженое. Неспешно пошел вниз по улице. Доел мороженое уже в самом низу, там, где по Базарной площади грохотали трамваи. Выбросив палочку, озаботился чем-то вытереть пальцы, вспомнил про билетик счастья. Аккуратно извлек его из кармана, развернул и прочел единственное слово: «Оглянись!»
И оглянулся. Справа – грохоча и звеня, приближался трамвай. Слева – некто в мундире штабс-ротмистра переходил улицу, за ним в саженях тридцати с почти перегородившей проезжую часть повозки сгружали арбузы. Арбузы были некрупными, видимо с баштанов, которые окружали город.
И вдруг краем глаза Сургучев заметил: воздух впереди трамвая задрожал, стал плотней, как то бывает при миражах. Из этого марева раздался гул, а после вынырнул могильно-черный «Протос». Голову шофера почти полностью скрывали шлем, очки, но щеки его были белы как мел. Появившееся авто смело растерявшегося штабс-ротмистра с ног, отбросило с мостовой на тротуар, словно тряпичную куклу. Казалось, далее машина неизбежно врежется в повозку с арбузами, задавит незадачливого грека, покалечит запряженного мерина. Но снова вздрогнул воздух, и авто исчезло, как и появилось.
«Мираж? Фата-моргана?» – пронеслось в голове Сургучева, да и не только в его.
Но в воздухе еще явно чувствовалось кисло-сладкое дыхание мотора, а в луже, что образовалась около уличного фонтанчика с питьевой водой, остался след протектора. И, разбивая вдребезги последние мысли о мираже, кто-то закричал высоко и пронзительно.
Сургучев бросился со всех ног и был около военного первым, однако ничем помочь уже не мог. Сбитый лежал странной марионеткой, у которой разом обрезали все нити. Кутаясь в серую оболочку пыли, текла по брусчатке кровь. Из разжавшейся ладони мертвеца выкатился серебряный кругляш и, звеня, откатился к ногам Сургучева. Тот тут же наступил на монетку.
Кто-то звал врача, кто-то – полицейских.
Будто поправляя шнурок на туфле, Сургучев нагнулся, подобрал монету.
Появилась полиция, стала спрашивать свидетелей происшествия. Тех было в избытке, однако никто не решался начать первым – уж слишком невероятным было увиденное. Толпа собиралась, но из почтения к смерти была нешумна. Люди переговаривались полушепотом. Сургучев позволил себя оттеснить от места происшествия. Он занял место в трамвае, который остановился перед толпой, перегородившей рельсы. Вагоновожатый нервно трезвонил: задавили мотором кого-то – что с того, трамвай должен идти по графику, чтоб разминуться на кольце со встречным. Улочки города узки, движение в обе стороны шло по одному пути попеременно.
Наконец трамвай тронулся, побежал.
Сургучев никогда не был в этом городе и теперь с интересом разглядывал через окно протекающий мимо мир: дома и заборы, обыватели в своей ежедневной суете, повозки и автомобили. Порой в разрыве меж домами и в туннелях улиц отливало бирюзой море. Сделав поворот, трамвай вышел к вокзалу, у которого на кольце его уже дожидался встречный вагон.
Дело шло к вечеру, и с пляжа, расположенного за станцией, тянулись господа отдыхающие. Прибывшие в город на однодневный отдых садились в дачные поезда, кои ждали пассажиров всего в полусотне саженей от линии прибоя. Иные занимали место в ожидающем трамвае. Те, кто брезговал садиться в тесную и жаркую коробку, шли в город пешком.
В центре трамвайного кольца, что-то складывая, возились строители. Сургучев, переводя взгляд, встретился глазами с местным хохлом в вышиванке, который, видимо, ехал с базара к себе на окраину.
– А ведь строится город, – сказал Сургучев.
– Та то капличку відбудовують. З нагоди порятунку цесаревича Георгія. Червоні зламали, а зараз – відбудовують.
– Зрозуміло, – кивнул Сургучев.
Всё действительно было понятно. Еще несколько лет назад город переходил из рук в руки по три раза на дню. Махновцы выбивали белых, белых теснили красные. Красных с моря вышибал союзный десант. Во время какой-то перемены слагаемых досталось часовенке – может, задело шальным снарядом, может, кто-то не весьма трезвый бросил гранату в символ, по его мнению, отжившего.
Сургучев подумал, что, пожалуй, часовенку возвести как-то в двойном объеме…
…На самом излете девятнадцатого века, летом года Господнего 1899-го, цесаревич Георгий Александрович, большой любитель технических новинок, разбился на своем мотоцикле. Тяжело пострадав, он пролежал без сознания полторы недели. К тому же открылось кровотечение в легких, вызванное чахоткой, и доктора давали очень мало шансов, что цесаревич поправится.
Всем было известно о слабом здоровье родного брата императора Николая II. Из-за чахотки он избегал сырого климата Петрограда, жил на Кавказе или в Крыму, а в Москву не ездил, дабы не утомлять себя долгой дорогой.
Уже был подготовлен указ о даровании титула цесаревича великому князю Михаилу – третьему сыну Александра III, а в иностранных державах писали траурные адреса и определяли, кто же поедет на похороны. Некоторые, учитывая дальнюю дорогу, выезжали заранее.
Но случилось чудо: цесаревич пришел в сознание, чахоточные каверны затянулись. Он встал на ноги, хотя оставался слаб.
Авария в чем-то пошла на пользу Георгию. Как после шутили: на своих похоронах он познакомился со своей женой. Принцесса Виктория Уэльская прибыла в Тифлис, где находился на излечении кузен-цесаревич. Визит вежливости несколько затянулся, и через полгода молодые люди объявили о своей помолвке. Об этом писали в газетах, но не на первой полосе. После рождения у царствующего брата наследника – сына Алексея, Георгий лишился титула цесаревича.
По-прежнему на приз великого князя Георгия проводились мотогонки и состязания на катерах с газолиновым мотором. Всё так же Сикорский нарочно летал в Крым, дабы покатать Георгия на аэроплане. Однако о князе постепенно забывали – всегда находились вести важней: война с японцами, а позже – Великая война, революции. Меж войнами и революциями – убийство Столыпина и дело Бейлиса. О Георгии постепенно забыли. Даже отрекаясь от престола, Николай вспомнил лишь о Михаиле, сочтя третьего брата слишком слабым, далеким…
А уже в восемнадцатом, когда от большевиков наступило муторное похмелье, красные к своему неудовольствию, а белые к радости обнаружили, что великий князь Георгий, хоть и в плачевном здравии, но жив. Мало того, в браке с английской принцессой родилось два сына – Павел и Константин и дочь Мария.
Трамвай шел вдоль Приморского шоссе. Справа на склонах белели пансионы, от которых серпантином сбегали лесенки и дорожки, слева – между дорогой и морем – сейчас строили железную дорогу. Сургучев, сидя у окна, переводил взгляд то на море, то на монету, лежащую на ладони.
Трамвай остановился на конечной станции, у здания возводимого нового пароходства. Строительство шло неспешно – былой уверенности в огромных прибылях не имелось. Намереваясь соперничать с пароходствами, американская компания тянула железнодорожную ветку от Одессы через Херсон и Мариуполь на Таганрог. Ожидалось, что, пока Азовское море будет лежать во льдах, по железной дороге можно будет возить грузы по побережью, да и летом отнимать изрядную долю барышей у пароходств.
Из всех пассажиров, ранее занимавших трамвай, до пароходства доехали только Сургучев и хохол. Последний, сойдя с подножки, тут же растворился в лабиринте улиц. Сургучев же огляделся: от моря его сейчас отделяла высокая стена, и о его существовании вовсе нельзя было бы догадаться, если бы не чайки, повисшие в небе. Но он ехал сюда не к морю.
Он не был тут никогда прежде, но нужное место увидал сразу. На вершине кручи почти до облаков дотягивался шпиль радиомачты.
Калитку Сургучеву открыл вызванный трелью электрического звонка какой-то получеловек. Так иногда бывает: сделав человека побольше, израсходовав материала на двоих или троих, природа лепит иного из того, что осталось, да и то как-то по-странному. Ростом хозяин чуть более сажени, лысый, с узким туловищем, но с горбами на спине и груди такими, что казалось, словно у него нет ни левого, ни правого плеча, а есть плечо переднее и заднее. Кроме того, получеловека сильно потрепала жизнь: не хватало пальцев на левой руке, левого же глаза, а вся кожа была испещрена синими пороховыми ожогами.
Получеловек пожал протянутую для приветствия руку и указал гостью на домик, стоящий у основания антенны. Дверь в дом была по-летнему распахнутой, и лишь ветер трепал занавеску, повешенную от мух.
Пахло еловой стружкой, на полу, на столах, на шкафах и даже подвешенные к потолку – были видны устрашающие веретенообразные снаряды.
Сургучев подобрал лежащую на стуле книжку, вчитался в обложку.
– Читаете Циолковского? Нынче он весьма популярен в столицах…
– Бред и ересь! – отмахнулся хозяин. – Жюльверовщина какая-то.
– Как ваши изыскания?
– Прошлый снаряд согласно записи барометрического самописца достиг высоты в полверсты за полминуты.
– Вашими разработками, вероятно, заинтересуется военное ведомство.
Получеловек отмахнулся как от чего-то назойливого:
– Но я не интересуюсь военными. Земля, которую можно занять, похоже, в мире уже закончилась. Всякий новый передел принесет лишь горести и убытки. Вести войны уже невыгодно. Впрочем… Исследования требуют значительных трат. Чуть не после каждого пуска следует начинать всё заново.
– Ах да, простите… – Порывшись в бумажнике, Сургучев протянул чек. – Обналичите в Государственном банке.
Чек хозяин взял без благодарностей.
– Пороховая ракета – это слишком просто, да и, похоже, – недостаточно, – рассуждал он меж тем. – Будущее за ракетами на жидком топливе. Желаете кофе? Хороший есть.
От кофе Сургучев не отказался. Чашки были немытыми, но кофе действительно был неплох.
– Готов ли тот прибор, что я вам заказывал? – спросил Сургучев.
– Вы прибыли несколько раньше, чем я полагал: обещали быть в субботу. К субботе я управлюсь.
Гость несколько с раздражением кивнул.
– Но зачем ЭТО вам?..
– Вы, кажется, знали Лессингера?.. – ответил вопросом на вопрос Сургучев. – Работали с ним?
– Ну, как сказать… – помялся получеловек. – С ним никто не работал. Не уживался Лессингер ни с кем. Эдисон будто сказал, что вклад в науку от Лессингера отрицательный и выгнал из лаборатории. Тесла – так вовсе не взял.
– А Розинг?.. Он же поступил к Розингу?
– К Розингу он не поступил, а, скорей, завелся, как заводятся, положим, тараканы. А добрейший Борис Львович из-за врожденной деликатности не мог его выгнать. Только и всего. Никто не мог сказать, чем этот скрытный сукин кот занимается. Забудьте о том, что гений и злодейство несовместимы. Кто говорит так – ни бельмеса не петрит ни в злодействе, ни в гениальности. Если бы не полиция, он бы до сих пор чудил со своим прибором.
Полиция заинтересовалась, откуда у простого ассистента дорогой особняк и мотор с лихачом. В ходе следствия у Лессингера обнаружили некий странный прибор, – нечто среднее между ведьмовским хрустальным шаром и телевизором, разрабатываемым в то время Розингом. Случилось это в 1916 году, и, как выяснилось, вероятностный прибор использовался уже около двух лет. Его сокрытие казалось властям возмутительным, ибо сколько бед удалось бы избежать с его помощью. Чудом избежав огласки, Лессингера сгоряча арестовали, подозревая в доступе к государственной тайне.
– А вы занимались прибором?
– Я работал в другой лаборатории, – пожал своим задним плечом получеловек. – Прибор передали Розингу и Зворыкину. Они его усовершенствовали и дали описание. Вы его, верно, читали.
– А что сталось с Лессингером после? Не знаете?
– Его освободили будто в семнадцатом. Потом я читал о нем где-то в начале двадцатых. После освобождения он опубликовал свои расчеты, ему даже собирались вручить Нобелевскую премию. Но многие были против.
– И было за что!
В благодарность освободителям-большевикам Лессингер построил для них несколько своих приборов. Поэтому в Гражданскую войну прибор применяли обе стороны, что, в известной мере, его обесценивало. Впрочем, целых полтора года – от обнаружения до революции, империя владела прибором исключительно и тайно. В лаборатории Розинга было изготовлено три модели, позже переданные на фронт. С их помощью удалось предотвратить несколько вражеских наступлений и организовать одно вполне успешное свое. Но, когда грянула революция, оказалось – смотрели не туда.
– А вы могли бы опознать его при случае?
Получеловек пожал всеми плечами:
– Не знаю. Столько времени прошло, паче человеком он был прозрачным, никаким. Не бросался он в глаза. А что?
– Есть подозрения, что он сейчас в городе.
– Батюшки! А зачем?
– Видимо, готовит покушение.
Получеловек хотел спросить на кого, но догадался, прикрыл рот ладонью.
– Я бы хотел воспользоваться вашей радиостанцией. Подозреваю, что официальные каналы ненадежны.
– Да-да, конечно… Но она у меня немного с характером. Я, знаете ли, несколько доработал конструкцию.
– Ерунда, – отмахнулся Сургучев. – Как вы уже знаете, я имею чин генерал-электрика.
– Почему вы полагаете, что пропавшая монета столь важна? – спросил связиста следователь.
– Мне показалось… Да и он так говорил.
– Кто он?
– Покойный! Только еще когда покойным не был.
Следователь носил довольно скромный мундир коллежского секретаря и имел фамилию Окаянчик. Казалось бы, с такой фамилией – прямая дорога в шпану, в хулиганы или хотя бы в лихачи. Но вот же: стал следователем, человеком въедливым, скучным и даже нудным.
По глазам, по дрожи в голосе видел Окаянчик, что врет посетитель. И доказать, что врет, – возможно. Выписать ордер на использование прибора Лессингера, с ним обследовать прошлое убитого, найти место встречи их беседы… Но хлопотно. Прибор громоздок, имеет привязку к месту и позволяет осматривать лишь будущее или прошлое того места, где находится, да и то в скверном отображении. На то многие преступники и полагаются: не всякое преступление становится явным, не за каждым карманником с прибором побегаешь.
– Что еще покойный говорил? – вздохнув, спросил Окаянчик.
– Что это как-то связано с покушением на кого-то из августейшей семьи.
Коллежскому секретарю вдруг нестерпимо захотелось удушить этого юнца. Ведь был же вполне приятный летний день. После службы он намеревался выпить пива, а вечером взять извозчика и отправиться с семьей за город, на море. Ничего этого не будет. На службе придется задержаться, и выдохнуть он свободно не сможет, пока цесаревич не покинет город. Была еще возможность изловить заговорщиков до открытия регаты, однако относительно своего дарования Окаянчик не заблуждался.
Окаянчик перевел взгляд на пыльный портрет государя, висящий над столом. Георгий Первый не по погоде был одет в мантию из чего-то белого и пушистого, смотрел на следователя с небольшим злорадством и полуулыбкой.
– Что еще вам известно? – продолжал опрос Окаянчик. – Кем вообще был этот офицер?
– Он был отправлен в город от Министерства внутренних дел. Я был приставлен к нему в помощь. Департамент почт и телеграфов относится к МВД.
– Тогда о его смерти следует донести начальству?
– Я уже отправил телеграмму. Ответ пока не поступил.
Новая вспышка злобы: теперь огласки не избежать. Впрочем, винить телеграфиста не в чем: он сам пришел, узнав о гибели офицера. Конечно же, следует известить об этом градоначальника. Он уже звонил, спрашивал о странном наезде. Коллежский секретарь рассказал о случившемся, доложил, что с божьей помощью следствие зашло в тупик. Городничий обругал Окаянчика дураком, фантазером и бросил трубку.
Отпустив связиста, коллежский секретарь задумался: что следует сделать?
Никто не запомнил номер на машине, но один прохожий заметил, что по форме и цвету он походил, скорее, на местный. В прессе много говорилось о необходимости введения единообразия в номерных автомобильных знаках по всей империи. Но всякий раз Дума находила дела поважнее, и законопроект откладывался в долгий ящик. А покамест каждый уездный город устанавливал свои форму и цвета знака, стараясь перещеголять соседей.
Автомобили даже в провинции уже не были редкостью, однако по всей империи ездили всё больше на отечественных «Руссо-Балтах», на «Рено», «Цитроенах» выпущенных по лицензии, или дешевых «Фордах», которые сейчас производили в Екатеринославле. Германские «Протосы» встречались нечасто.
Эти обстоятельства позволили определить, что в прошлом году черным «Протосом» владел доктор Хампер, здешний гласный. Окаянчик поговорил с ним, и доктор сознался тут же. Прошлой осенью его что-то выхватило посреди пути и выбросило на несколько секунд в лето. Доктор клялся, будто ничего не успел разглядеть, но машину же втайне починил и продал куда подальше – в Царицын.
Когда точно это произошло, Хампер сказать не мог. Окаянчик искренне презирал доктора за то, что тот не сообщил о наезде сразу по возвращении из будущего. Но в уголовном уложении не имелось статьи, по которой его можно было бы привлечь.
…По дороге двигались панцерники украинского реестрового казачества. Бронежалюзи и люки, как и положено на марше, были открыты, но ни одна машина не остановилась около путника. Зато сразу же после них у обочины остановилась двуколка, коей правил мичман.
– Вы до города? – спросил Сургучева мичман. – Садитесь, подвезу.
Сургучев сел на указанное место, двуколка тронулась. Возвращаться в город он решил не по Приморскому шоссе, а по тракту, что шел через степь, по вершинам холмов, по кручам.
Город был уже виден. Над ним к небесам поднимались рыжие дымы металлургических заводов «Русского Провиданса». В безветрие или особенно при ветре слабом, направленном в городские улочки, воздух становился коричневым, со странным вкусом, а крыши и стены домов покрывались коричневой коркой.
Сургучев оглядел повозку. Меж сидений был воткнут карабин с оптическим прицелом. На него накинут самодельный патронташ, опустевший где-то наполовину. Пули имели внутреннюю полость – выточку. На войне пойманным с такими пулями отстреливали пулеметом конечности, но на охоте, особенно против здешних свирепых диких кабанов, подобная экипировка не была чем-то необычным.
– Хороший карабин, – заметил Сургучев. – Не разбираюсь в оружии, но, кажется, немецкий?..
– Так точно.
– А прицел? Тоже германский?
– Австрийский «Калес Миньон». Вполне приличный охотничий прицел.
Дорога обещала быть недальней, но попутчику из приличия надлежало развлекать водителя.
– Я, знаете ли, тоже охочусь иногда. У меня есть ружьецо «Монтекристо».
Мичман снисходительно улыбнулся: так лихачи смотрят на мальчишек, катающихся на дощечках с колесиками.
– А вы, видимо, местный, – спросил Сургучев.
– Да, – улыбнулся мичман. – Вы по профилю догадались? Грек из здешних. У нас тут как американцев намешано: и хохлы, и греки, и немцы. Ну и русские, само собой. А вы приехали на регату или просто на отдых?
– Скорей первое.
– Спортсмэн?
– Журналист…
Мичман посмурнел.
– Не люблю газетчиков – все беды от вас.
Впрочем, из своей повозки попутчика не высадил – и за то спасибо.
– Как вам нравятся гетманские броневики? – спросил мичман после некоторого молчания. – Хохлы стягивают к городу отряды, словно готовят переворот.
– Бросьте. Цесаревич и великий князь Константин – шефы многих казачьих полков. Константин, как говорят, свободно изъясняется на украинском.
– Скажите: на малороссийском… Константин… Когда-то Екатерина Великая назвала так внука, полагая, что он воссядет не в Стамбуле, а Константинополе. А нынешний заигрывает с самостийниками!
– Вы не монархист?
– Отчего же? Как и всякий честный флотский – монархист. А вы, видимо, нет?
– Я, скорее, сочувствую октябристам.
– Ну, спасибо, хоть не большевикам.
– Нынче это немодно. А что касается хохлов, то вспомните – большевиков разбили не без их участия. Врангель со своим приятелем Скоропадским отбили Москву.
Мичман кивнул: да, это было так. Кроме того, в обмен на признание независимости Маннергейм атаковал Петербург и помог Юденичу взять его. Из Сибири подпирал Колчак – судьба большевиков оказалась решена. Ленин бежал из Первопрестольной, переодевшись в женское платье, но не успев сбрить усы. Затем он перебрался через Германию в Швейцарию, Троцкий уехал в Мексику, Свердлов осел где-то в Африке. И, разъехавшись по миру, большевистские вожди писали мало кому интересные мемуары да вяло спорили меж собой, по чьей же вине революция пошла наперекосяк.
– И всё равно, – не сдавался мичман. – Как вам проект Константина о переносе столицы в Иркутск? Дума, конечно, сочла проект несвоевременным. Финансы расстроены, и всё такое. Государь будто тоже был против. Ну вот, скажите на милость, зачем нам столица в Сибири? Это значит, мы уйдем из Европы?
– Мы бы укрепились в Азии…
– Ай… Пустое. Слава Господу, наследник у нас Павел. У него семья, сын. Константину не добраться до трона. Государь не отличается крепким здоровьем… Верно, грешно так говорить, но смею надеяться, молодая кровь на престоле даст о себе знать.
Сургучев задумчиво кивнул: он понимал, о чем шла речь. Положение империи странное. Будто Россия и оказалась заодно с победителями и несла тяготы войны не менее остальных, взамен ничего не получила и даже растеряла земли. И теперь смотрела на союзников с надеждой: а не скостят ли они хоть часть долга?.. Оттого в державе, особенно среди военных, бродила злоба. Многим хотелось прижать инородцев, устроить победоносную войну.
Двуколка въехала в город, и около почтамта Сургучев расстался с мичманом.
Город чем-то напоминал пирамиду или какую-то башню, на каждом ярусе которой жило особое общество. Внизу у моря, около базара и далее по пойме реки жил народ простой – рабочие с заводов, мастеровые, а то и просто грузчики. Под стать себе и развлечения они предпочитали простые: гармонь, водку, поход в цирк братьев Канарис. Выше, по склонам холма, на котором стоял город, селились мещане, купцы средней руки. Они уважали вино и коньяки из недорогих, предпочитали всякие новинки: радио и синематограф. А там, где городские подъемы заканчивались, обитал провинциальный бомонд. Там пили недешевые вина, ходили в театр. Порой спектакли были заведомо скучны, но положение обязывало.
В те летние дни город словно вывернулся наизнанку.
В театре ставили какую-то из новых пьес Горького. Тот, после разгрома большевиков, выехал из Астрахани в Персию, а оттуда перебрался в Италию. Но позже, получая из России гонорары, вернулся. Пьесы его обычно шли с успехом, но сегодня к кассам мало кто подходил. Да и сама заезжая труппа вместо репетиций прогуливалась не по здешнему проспекту, поросшему липами, а по короткой набережной.
Рядом, на пирсе уже сбили лавки и подмостки, с которых цесаревич объявит о проведении регаты. Свои места на специально сколоченном помосте обживали пресса, кинематографисты. В этом году имелась новинка: с иконоскопом возились техники из лаборатории Зворыкина. Они намеревались совершить ранее небывалое: по беспроволочной связи передать изображение за тысячу верст, в Москву.
На рейде уже появилась белоснежная яхта великого князя Константина, и многие рассматривали ее через бинокли, пытаясь угадать сына государя в фигурах, появляющихся на палубе. Особенно старались здешние модницы: в шляпках-колокольчиках, узких юбках, в чулочках столь тоненьких, что ножки казались голыми. У них был свой интерес.
Говорили о том, что в семье цесаревича не всё гладко, что у Павла Георгиевича отнюдь не платонический роман с молодой московской актрисой Любовью Орловой. Вспомнили и о брате цесаревича.
– А не кажется ли вам ненормальным то, что Константин до сих пор холост? – спросила одна модница другую, стоявшую рядом с Сургучевым. – Не припомню, чтоб о его избраннице где-то в прессе упоминали…
– Может, это потому, что на брак великого князя должен давать дозволение государь. А он этим выбором недоволен. Вот Константин и выжидает, – ответил Сургучев.
Барышни фыркнули и удалились.
У пирса плескалась позеленевшая вода. С поверхности рыбки воровали крошки. Сургучев достал из кармана монетку с профилем Константина и бросил ее в бычка. Не попал, но рыбка всё равно обиделась и уплыла вниз.
Меж тем гости съезжались. Над гаванью покружил и приземлился тяжелый четырехмоторный гидросамолет. Тут же заспорили, чей бы это мог быть: похожий «Сикорский» имелся у государя. Вспомнили, что на коронацию в Первопрестольную Георгий на три дня летал именно на таком аэроплане. Как отмечала пресса, Императору Всероссийскому при этом сильно нездоровилось. Злые языки говорили, что царь долго не протянет, более оптимистически настроенные предупреждали, что Георгий будет кашлять на чужих похоронах еще долго. С той поры прошло достаточно времени, и подобные аэропланы появились у цесаревича, председателя Совета министров и гетмана.
К самолету был выслан катер, который, к неудовольствию обывателей, отвез пассажиров на яхту Константина.
Услышав музыку, Сургучев обернулся. На углу играла шарманка, обезьянка раздавала билетики. Увидав журналиста, шарманщик улыбнулся, приподнял шляпу. Сургучев учтиво кивнул.
С пристани он вернулся в город. Прошелся мимо мещанских домиков тремя окнами на улочку. На подоконниках меж горшками с геранью грелись кошки. Во дворах за высокими сплошными заборами, судя по табличкам – злые собаки. Что поделать – от добрых собак в мире никакого проку.
К указанному в билете часу подошел к электротеатру, занял место в наполненном зале. Фильм, который показывали, был снят по патентованному методу Прокудина-Горского: действо через светофильтры фиксировали на три камеры с обычной черно-белой пленкой. Затем размноженные копии развозили по кинотеатрам, где их также прокручивали через три аппарата. Метод сей имел множество недостатков, главным из которых была трудность синхронизации во времени и пространстве. Порой какая-то лента забегала вперед, превращая полотно в футуристическую картину.
В журналах говорили о широкой пленке и аппаратах, в которых бы кадры записывались по три в ряд. Это требовало специальных проекторов. Химики Императорского Казанского университета возражали, сообщая, что разработка цветной пленки – дело ближайшего будущего.
Сценарий фильма писали, очевидно, специально для цветного синематографа, что явствовало даже из названия: «Боязнь зеленого». Сценарист был дарования среднего, отчего многие зрители, в том числе и Сургучев, вышли раньше.
На улице стемнело и посвежело. В пивной на углу Сургучев, взяв кружку, постоял за столиком, послушал, о чем судачит народец.
В иные дни говорили бы о жаре, коя, верно, спадет только к осени, о привычно засушливом лете, маклеры обсуждали бы цены на хлеб. Но нынче город до последнего увлекся политикой.
Допив пиво, Сургучев отправился в гостиницу. Поднявшись в свой номер, он было начал стягивать пиджак, но почувствовал нечто. Он успел дотянуться до несессера. Ладонь обняла рукоять револьвера. Но поздно – меж лопаток ткнулся ствол чужого пистолета.
– Без резких движений, пожалуйста. Я их с войны не люблю.
– Грабеж?..
– Полиция.
– Где монета?
– Какая монета?
– Которую вы подобрали около убитого.
Через аппарат Лессингера удалось рассмотреть выроненную монетку, человека, который ее подобрал. Последовательно перемещая прибор, удалось установить, откуда этот человек вышел. Монетка была будто единственной зацепкой, но при обыске ее найти не удалось.
– Подобрал, – кивнул Сургучев. – Но куда дел – не помню. Кажется, отдал кондуктору в трамвае. Что в этой монете разэтакого?
Коллежский секретарь не знал. Вероятностный прибор, имеющийся в распоряжении города, обладал скверным разрешением. Подумалось: хорошо, если б Лессингер придумал что-то, заглядывающее вместо будущего в головы сограждан.
Во дворе гостиницы ровно стучал газолиновый мотор, вращая привод динамо-машины. Под потолком горела люстра. Ее электрический свет был довольно ярким, ровным, но неживым. И был ли тому виной этот свет или усталость, накопившаяся за день, но Окаянчику показалось, что этого человека, это лицо он уже сегодня видел.
– Кого-то вы мне напоминаете…
– В самом деле? – вскинул бровь Сургучев. – Кого же?
– Пока не могу припомнить. Только вы совсем не тот, за кого себя выдаете.
– В самом деле?.. И кто же я?
– Это мне также пока не ведомо. Но вы не репортер. Вы видели смерть того военного, видели машину, вылетевшую из ниоткуда и пропавшую в никуда. Будь вы репортером, вы бы бросились отсылать телеграмму в свою редакцию.
– Чтоб ее тут же перехватила цензура? Я отправил заметку другим образом – она будет в редакции не позже понедельника.
Коллежский секретарь задумался. Мысли ворочались в голове тяжело и неохотно. Без этого приезжего было бы проще. Всякий приезжий – повод для беспокойства.
– Знаете, я мог бы вас арестовать или хотя бы выслать из города под конвоем.
– А я подам на вас в суд, и наш адвокат выест ваш мозг кофейной ложечкой.
Окаянчик еще раз проверил документы, стараясь рассмотреть малейшие признаки подделки. Их не было.
– Михаил Сургучев. Какая у вас уместная, канцелярская фамилия.
– Фамилия ничем не хуже и не лучше иных.
– Не скажите. Еще латыняне говорили: «Оmen est nomen». Сие значит: «Имя имеет значение». У меня был знакомый – Бутылкин. Как следует из имени – наш человек.
– И что с ним далее было?
– Да что с ним могло быть? Спился…
Он зевнул, осмотрел рукав мундира, застеснялся его засаленности.
Нет, удалять приезжего из города – мысль не из лучших. Он может вернуться incognito или, что хуже, пришлет кого-то иного, незнакомца.
– Сегодня поздно, пожалуй… Зайдите ко мне завтра в отделение.
– Право, не знаю, смогу ли я выбрать время.
– А чтоб легче было время выбрать, я, пожалуй, возьму ваши документы. Вот завтра и верну. Спокойной ночи.
Коллежский секретарь вышел из гостиницы. Закурил под тополем, глядя на окна номеров. И был ночной воздух чист и свеж, напоен влагой, несомой бризом с моря. С проспекта неслись музыка и смех, а также запах парфюмов. Хотелось пива и покоя, но работа была категорически против. По улочке, идущей параллельно главному городскому проспекту, он поднялся к зданию почтамта.
Крыши здешних домов украшали антенны различных конструкций, вдоль улиц, по столбам было натянуто такое множество телефонных проводов, что казалось, будто в городе поселился какой-то особенно крупный паук. В отличие от других городов, здесь городская дума отказалась предоставлять монопольную лицензию на телефонную связь единому поставщику, что, с одной стороны, множило провода еще более, но с другой – конкуренция заставляла чаще радовать потребителя новинками и ценами. Кто-то предлагал связь с другими городами, кто-то сообщал об установке автоматической станции – быстрой и полностью защищенной от прослушивания любопытными барышнями-телефонистками. Другой оператор обещал городской управе убрать провода с глаз долой под землю. Под это рылись туннели и колодцы, которые постоянно затапливало, отчего общение превращалось в мучение.
Солидные организации также ставили у себя телеграфные аппараты, имелся он и в полиции. Но фототелеграф в городе был один.
Почтамт был открыт и практически пуст. За окошком приема телеграмм скучал телеграфист, уже знакомый коллежскому секретарю.
Он удивленно вскинул бровь.
– А что поделать, – зевнул связист. – Моя смена. Давайте, что у вас.
– Снимите копию с этого, – распорядился секретарь, протягивая документ Сургучева. – И передайте в Киев с припиской, чтоб они срочно сверились со своей картотекой. Телеграфный адрес…
Подумалось: ничего из этого не выйдет. Качество изображения, переданного по фототелеграфу, оставляло желать лучшего. Фотографию сперва переснимали на металлическую пластину. Затем щуп скользил по пластине, прибор определял – есть ли под щупом краска или же чистый металл. И за многие версты самописец иного прибора вырисовывал нечто похожее. Пересъемка, передача занимали много времени. Порой связь обрывалась, и требовалось всё начинать заново. Почти всегда на линии возникали помехи.
Секретарь зевнул и взглянул на часы: хорошо бы оказаться дома к полуночи.
Но хорошее иногда случается.
– Эй, – сказал телеграфист, – да я ведь знаю, кто это.
И после сбивчивого, но краткого объяснения Окаянчик понял, почему лицо Сургучева показалось ему знакомым.
Заказав кофе в номер, Сургучев читал довольно потрепанную книгу Уэллса, но прочитанное не лезло в голову, где хороводили иные мысли. После – попытался уснуть, но выпитый кофе не пускал разум на отдых.
В номере было жарко. Огромный кондиционер, судя по словам распорядителя гостиницы, был уже куплен и даже погружен на корабль. После получения кондиционер намеревались присоединить к системе вентиляции и гнать через нее охлажденный воздух.
Сургучев ворочался, несколько раз то проваливался в полудрему, то снова просыпался. Два раза вставал выпить воды. Во второй раз – взглянул на наручные часы. Был ровно час ночи.
И вдруг где-то ниже по улице громыхнул странно одинокий винтовочный выстрел. Забрехали собаки, кто-то засвистел в свисток – то ли полицейский, то ли мучимый бессонницей дворник.
Сургучев пригнулся. Но после скользнул к окну. Выглянул на улицу. Улица была пуста, и непонятно для кого светили фонари.
Ожидая новых выстрелов, Сургучев прислушался. Но – тишина. Это было странно. В империи после войны имелось достаточно оружия. И перестрелки, просто пальба по звездам с горя или радости были частыми. Но один выстрел?.. К тому же в городе винтовка неудобна – хороши были пистолеты, револьверы.
Более ничего не происходило. Сургучев лег, чтоб лучше думалось, прикрыл глаза…
И заснул.
Ночью умер купец Иностранцев. Поскольку желающие с ним уже попрощались и к похоронам всё было подготовлено, похоронили купца еще до полудня по утренней прохладе. И, хоть ветер трепал траурные полотна и ленты, забыли о покойном тут же, благо для бесед имелись другие, более веселые поводы.
Коллежский секретарь дремал за чашкой кофе в буфете гостиницы, ожидая, когда спустится постоялец Сургучев. Портье, как и было условлено, растолкал Окаянчика, но пока тот пришел в себя, понял, зачем он тут, – Сургучев успел выйти из гостиницы. Окаянчик бросился вослед. Когда выскочил на улицу, оказалось, что Сургучев, изрядно отойдя от гостиницы, уже кликнул извозчика и сейчас садился в пролетку.
– Господин… – попытался окликнуть коллежский секретарь гостя города, но вдруг оказалось, что забыл фамилию, значащуюся в документе.
Потому Окаянчик окликнул садящегося в повозку человека его настоящим именем:
– Константин Георгиевич! Подождите!
Великий князь посмотрел на Окаянчика печально и устало, а после глазами показал на место рядом с собой.
– На набережную, – распорядился он извозчику, после повернулся к Окаянчику. – Всё же догадались…
– А я ведь голову ломал: откуда мне лицо ваше знакомо, ваше императорское высочество. А я же на лицо вашего батюшки каждый день смотрю.
– Я хотел бы попросить вас об услуге. Для всех вокруг и для вас я должен остаться журналистом Сургучевым.
– Отнюдь, – возразил Окаянчик. – Вы в самом деле думаете, что будете ходить по моему городу, в котором зреет нечто неспокойное, без охраны?
– Хотите стать наследственным дворянином? Я попрошу отца, сегодня же оформят…
– Пытаетесь меня купить? К тому же не я один об этом знаю.
– Кто еще?
– Телеграфист, который был приставлен к сбитому вчера офицеру.
– Это немного.
– Но он уже донес телеграфом в Москву.
– Кому?
– Говорит – в МВД.
Собеседник кивнул, чувствуя зыбкость этого «говорит».
– Может, я лишь человек, похожий на великого князя?..
– Тогда я вас, пожалуй, арестую до выяснения обстоятельств.
Прибыли на набережную. Белоснежная яхта всё так же стояла на рейде. Вокруг скользили яхты поменьше – тех, кто готовился к регате. Гидросамолета, впрочем, уже не было. Интерес к яхте спал, и обыватели занимались своими привычными делами. Узкий городской пляж был усеян телами отдыхающих.
Вдоль линии прибоя шел шарманщик рядом с фотографом, который зазывал господ отдыхающих сфотографироваться с обезьянкой. Сама обезьянка семенила за самодвижущейся шарманкой, которая то и дело вязла в песке.
На помосте с иконоскопной установкой возились техники. Их камера, поверх голов еще несуществующей толпы, была направлена на трибуну, за которой ветер трепал флаги держав, заявивших о своем участии в регате.
Сходя с пролетки, Сургучев отправился ко второму помосту, вокруг которого кружили мальчишки. Полицейский, охраняющий место, попытался возразить, но, узнав коллежского секретаря, отступил.
– Где-то здесь буду стоять я. А мой брат станет вот там, – Сургучев указал на микрофоны. – А убийца… Как вы думаете, откуда мог бы стрелять убийца?
Лет пять назад, когда город был под большевиками, сквер у набережной изрядно проредила шрапнелью артиллерия кораблей союзной эскадры, расчищая путь десанту. Но с той поры выросли новые деревья, прикрыв нижние этажи домов.
Над крышами дрожал раскаленный воздух.
Гильзу нашли на третьей крыше. До помоста было саженей сто: для хорошего стрелка – не расстояние. Сургучев ее обнюхал – она пахла свежим порохом.
– Вы не желаете мне что-то пояснить? – спросил Окаянчик.
– Если бы я всё понимал…
– Ну, так скажите, что понимаете.
– Вы про карманы времени слыхали?
– Безусловно.
– Ежели существуют непрямые пути из вторника в четверг, то, вероятно, есть иной, короткий путь, который позволит из понедельника попасть, скажем, в четверг. Мы не способны увидеть этот лаз в надлежащий прибор, поскольку времени меж этими днями нет или же его очень мало.
– Не пойму я вас никак. А свой прибор для чтения мыслей снес в починку. Вы прямо мне сказать можете?
– Сегодня ночью кто-то вытолкнул пулю в межвременье. Она, видимо, вернется в наше время дня через два, когда площадь эта будет полна народа.
– Но это невозможно…
– Возможно, – покачал головой Сургучев. – Это секретная разработка. Пробный прибор уже испытывают в военном ведомстве.
– Так это были военные? Это они сбили того офицера?
– Наверняка нет. В то время, из которого явился автомобиль, военный прибор был только в чертежах. Кто-то другой сумел его построить и раньше и лучше.
– Лучше?..
– Военный прибор только зашвыривает что-то из настоящего в будущее. «Протос», как вы помните, был возвращен назад.
Делать было нечего, и по скрипучей пожарной лестнице спустились на землю.
– Так, выходит, вы – будущий царь?..
– Возможно.
– А монета?
– Я сам не знаю, откуда она…
– А как же Павел?
– Ай… – отмахнулся Сургучев. – Узнаете в свое время…
Они ступили на мостовую и тут же едва не попали под колеса лихача, обдавшего пешеходов густым бензиновым запахом.
– Нет уж, я сейчас же звоню городничему. Вам небезопасно ходить так по городу.
– Прошу вас, дайте время хоть до утра. Утром прибудет мой брат. Я откроюсь сам.
– Да вы подумайте! Где мы, а где завтра! – вскипел Окаянчик. – Да вас тут до утра убьют три раза! Слушайте, я знаю, что запрещено через прибор Лессингера вникать в жизнь августейшего семейства. Но обстоятельства особые! Чего проще: взять прибор и посмотреть сквозь него – в кого и откуда стреляли. После попросить будущую жертву стать на сажень влево или вправо. Вытащить убийцу.
– На меня покушались дважды. На отца в войну – семь раз. Тут если создать прецедент…
– А на брата?
– Что «на брата»? – не сразу понял Сургучев.
– На брата сколько раз покушались? На Павла?
– Ни разу…
Утром, без четверти девять, как и ожидалось, над летным полем за городом завис огромный дирижабль «Генерал от инфантерии Михаил Дмитриевич Скобелев». Из гондолы сбросили канаты. Их закрепили в барабаны лебедок, и моторы, заревев, мягко притянули огромное воздушное тело к земле. На поле сошел цесаревич Павел с семьей. Их встречали лучшие люди города во главе с городничим, и вскоре открытое ландо везло их в город.
В гостинице «Континенталь» они заняли верхний этаж. На лестницах и у дверей появился караул. Во дворе стали блиндированные авто. На улице, на каждом углу появилось по полицейскому. Они подозрительно глядели на зевак, но вели себя учтиво.
В три часа пополудни в управе городничий дал разорительный то ли поздний обед, то ли ранний ужин.
Городничий полагал, что неожиданность – лучшее средство для безопасности, поэтому об угощении никто в городе не знал до последней минуты. Полицмейстер был в ярости и, взметнув тревогой подопечных, нагнал столько полицейских, что весь бульвар стал синим от полицейских мундиров.
Еще полицмейстер был зол на Окаянчика за то, что тот о появлении великого князя доложил напрямую городничему, и тайно намеревался стереть подчиненного при случае в порошок. Однако отказался от такого намерения, узнав, что коллежский секретарь получил приглашение на обед. Не вышло бы хуже.
Приглашение получил и телеграфист. От этого он впал в панику и даже подумывал сбежать из города, но сгреб себя в кулак и всё же пошел. В застегнутом на все пуговки вицмундире было жарко и тесно. Девушки на выданье с любопытством глядели на невесть откуда взявшегося молодого человека.
– А мне что говорить, когда спросят, как я сюда попал? – спросил Окаянчик у Сургучева.
– Скажите, что некогда довелось служить вместе, – ответил тот. – В свое время меня помотало по стране.
В то время как Георгий, находясь преимущественно в Краснодаре, был символом Белого дела, оба его сына воевали. Павел служил во флоте, а Константин в чине подполковника командовал отрядом бронепоездов. Исколесил всю Украину, где и набрался симпатии к местному населению. После участвовал во взятии Москвы, в боях был дважды ранен.
Было много военных. Среди них оказался и мичман, недавно подвозивший Сургучева. Узнав недавнего попутчика в великом князе Константине, он изрядно стушевался и покраснел.
– Вы? – удивился мичман.
– Вы? – ответно удивился Сургучев. – Как вы тут очутились?
Ангельский чин мичмана отнюдь не открывал двери подобных празднеств.
– Я пришел с отцом, – зарделся мичман еще более. – Он купец первой гильдии…
И постарался тут же сменить тему, однако едва ли удачно.
– Как остроумно вы пошутили про то, что вы октябрист! – сказал он.
– А я и не шутил.
Мичман напрягся, вспоминая, что же он еще наговорил в дороге, но Сургучев пресек раздумья. Порывшись в карманах, он достал и протянул неприметный светло-коричневый камень.
– Возьмите.
– Что это? – спросил мичман.
– Пару лет назад в Астраханской губернии упал метеоритный дождь. Я был в экспедиции, разумеется incognito. Один осколок я оставил себе на память. Думаю, наука от этого пострадает незначительно. Теперь я отдаю его вам.
– Он дорогой?
– Говорят, на вес золота.
Мичман смотрел недоверчиво.
– Вы, верно, полагаете, что я хочу им купить ваше расположение, – сказал Сургучев. – Отнюдь. Я даю, но не дарю его. Потрудитесь-ка вернуть его обратно – на небо.
Началась официальная часть. Цесаревичу дарили всяческие курьезные пустяки, в городе изготовленные: ажурную чугунную трость, огромный пирог, выпеченный нарочно к его приезду. Ответно цесаревич известил о своем новом даре городу – учреждение ремесленной школы.
Пока шел обмен дарами, Окаянчик прощупывал взглядом толпу. На таких обедах, как на свадьбах, порой появлялись какие-то посторонние люди. Всякий, законно присутствующий, полагал, что этого гостя пригласил кто-то иной, не он. Однако же визитер был ничьим, залетным.
Окаянчик заметил одинокого подполковника в пестром мундире дроздовца. Его лицо искажали шрамы, но делали не уродливым, а скорей наоборот. Он был еще совсем не стар, однако волосы серебрила седина. Грудь его украшали два ордена Святого Георгия, орден Святой Анны в петлице с мечами, а также орден за поход Яссы – Дон. Еще один орден – Святой Анны четвертой степени украшал темляк сабли.
Коллежскому секретарю пришлось потратить время, чтоб узнать, кто это. К его удивлению, лучше всех осведомлен оказался мичман.
– Как? А вы не знаете? Это же подполковник Гипотенузов. Мой кумир! Лучший русский стрелок Великой войны. Двести девятнадцать убитых германцев. Из них – семьдесят два офицера и семь вражеских снайперов. А уж большевиков он накосил – на целый погост. Еще было выпущено пять открыток с ним. Разве не видели?
Пропаганды и агитации ради в те времена издавалось множество, и запомнить хоть что-то не представлялось возможным.
– Я, кажется, нашел вашего убийцу, – сказал Окаянчик, подойдя к Сургучеву.
– Какого убийцу?
– Того, кто вчера ночью стрелял в вас завтрашнего! В вас или вашего брата. Вам известен подполковник Гипотенузов?
– Что-то слышал. Забавная фамилия, запоминающаяся.
Это было так. В круговерти Февральского восстания, большевистских и прочих мятежей документы легко терялись, и этим многие пользовались, меняя фамилии на иные, порой более благополучные, иногда наоборот, на невзрачные, незаметные, как потертый пиджак. Изредка кто-то облагораживал свою фамилию, добавляя какую-то пикантную приставку.
Конечно же, Гипотенузов – смешная фамилия. Но, с другой стороны, – пусть и нестарый, но дворянский род. Опять же, не будь дворянства, уйдя на фронт вольноопределяющимся, он вернулся подполковником – великолепная карьера за десять лет. Дурная ли фамилия или нет – но она известна. Бывало, лишь одна она холодила сердца врагов страхом.
– Я использовал хорошую трехлинейку, иногда с пятикратным прицелом Герца. Но зимой он запотевал, и удобней было бить с открытого прицела, паче цель можно было быстрей захватить, – как раз рассказывал Гипотенузов корреспонденту «Нивы».
– А пули-то? – спросил подошедший Сургучев. – Пулями какими пользовались?
– В Великую войну – обычными. Безоболочечные, как знаете, запрещены были. А в Гражданскую чем, бывало, не стрелял. Война без законов, пули иногда только свинцовые. Бывало, пульнешь рассверленной, так полгруди – долой. Дыра что триумфальная арка, внутренности наружу.
– А в город-то вы зачем прибыли? На регату?
– Нет-нет. Сегодня же вечером уезжаю.
Когда отошли, Окаянчик отчаянно зашептал:
– Надобно его арестовать!
– Да за что же?
– За попытку покушения! На вас или на Павла! Ай, всё равно! Узнаем от него!
– А если не скажет? Да и нет у вас никаких доказательств.
– Тогда следует отменить регату! Я тотчас скажу городничему.
Сургучев покачал головой:
– Не скажете, и вот почему. Сейчас мы хотя бы знаем, где и когда всё сойдется. А если они начнут менять планы – мы окажемся в неведении. Пуля уже летит.
– Что тогда делать?
– Это я вам скажу. Окажите мне услугу… Я дам вам письмо. С ним отправляйтесь за город, в Моряцкий поселок. Место найдете сразу же – там имеется высокая радиомачта. Ее владелец передаст мне нечто. Сделал бы сам, но теперь, вашими стараниями, я шагу не могу ступить без чьего-то присмотра.
Известно всякому, живущему не в городе: ежели землю бросить – пропадет она.
Пусть предки веками свой надел перепахивали, а пройдет хоть пару бесхозных лет – и нет на ней следа человеческого. Щирица, чертополох ли, рогоза – это понятно, это беда малая. Но вот скажите, откуда камни берутся, хотя бабка-покойница самые крошечные, даже размером с ноготь, выбирала? А тут булыжники – лопата ломается. Плодятся они, что ли? Растут, пока человек другим занят?
А что делать, когда по полям к тому же война прошла? Гильза или патрон – сгниют. Но, бывает, лемех вывернет снаряд, а то и чьи-то кости. Оно, конечно, прах к праху. Но надо остановиться, похоронить по обычаю христианскому. Хотя, может статься, убитый воевал как раз за то, чтоб кресты посшибать.
Городничий изволил выразиться, что большевицкому бунту Россия должна быть обязана за то, что общество чрезвычайно оздоровилось. Всякие бездельники, неблагонадежные лица либо в эмиграции, либо истреблены.
Если это и верно, то лишь отчасти – обезлюдела земля. Сколько лет прошло, а стоят поля нераспаханные. По деревне едешь, то там, то сям – разрушенные, брошенные дома. Скалит война зубы. На выезде из города долго валялся раздолбанный из трехдюймовки броневик – лишь в прошлом году его разрезали на металл. И что-то таилось нехорошее в таких вот поселках, слободках.
Владельца дома под антенной Окаянчик не застал на месте. Но сказали соседи – пошел он в пивную, что в конце улицы.
Получеловек действительно был там, солил темное пиво. Окаянчик ждал беды, думал увидеть кого-то из своих нехороших знакомцев, из-за профессии образовавшихся. Но тут он иного не знал. Впрочем, обратное могло быть ошибочно, поэтому он вел себя скромно. Сев около получеловека, он протянул письмо, прислушался к разговорам.
– …Мы имели великую империю.
– …Это, скорей, империя имела нас. Вы думаете, что еще немного – и старые добрые времена вернутся? Так вот шиш!
– Наше время – век прогресса. Никто бы сейчас не прибивал Христа гвоздями. Его бы прикрутили шурупами.
– Святохульник! Война до победного конца!..
– Три империи почили в бозе с этой войной. Так что мы еще легко отделались.
Прочитав письмо, получеловек зевнул.
– Пойдемте.
Уже на улице спросил:
– Так вы, выходит, тоже приятель нашего будущего царя?
– Царя?.. – удивился Окаянчик. – А как же Павел? Ведь он же наследник?..
– Об этом не знают, но Павел намерен отречься от престола, развестись и жениться на своей возлюбленной юной Орловой. Отречется от престола он, видимо, после смерти отца: давно замечено, что потрясения народ переживает легче, когда они происходят скопом, а не отдельно. Царем станет либо сын Павла Андрей при регенте Константине, либо сразу коронуется Константин. В любом случае будет править он.
Оставив спутника у основания гигантской антенны, получеловек ушел в дом, откуда вернулся с коробкой.
– Я ждал Костю…
От такой фамильярности Окаянчик вздрогнул.
– Я написал коротенькую инструкцию. Думаю, Костя разберется. Когда реальность даст трещину, а вероятность отклонится от единицы, он обозначит разлом и немного сдвинет время. Чуда не обещаю, но, полагаю, что поможет.
После раздумий получеловек задал вопрос, который Окаянчик тогда не вполне уразумел:
– Не пойму только, зачем Костя лезет под пулю. Ты не знаешь?
– Ума не приложу…
У калитки получеловек протянул руку, коллежский секретарь пожал ее.
– Боже, царя храни?
– Боже, храни хоть кого-то, хоть как-то…
На том и расстались.
Возвращаясь, Окаянчик рассуждал: кто готовит покушения?
После Великой войны в какой-то лаборатории эсерам удалось синтезировать яд, убивающий человека лишь через три дня после приема. Оттого у принявшего отраву террориста не было пути назад, что добавляло решимости. Но недавно в Императорском Казанском университете удалось выделить противоядие, что практически свело на нет поток смертников – большинство сдавались добровольно. Король русского террора Савинков будто был ранен и утонул при попытке перехода пограничной реки, но, по слухам, выжил и скрывался то ли в Польше, то ли в России.
Популярность получали русские фашисты – они твердили об обособленном пути России, но не имели лидера, отчего очень страдали. Но все они твердили о реванше, о новом походе на Балканы, о единстве славян.
Может, руки тянутся из-за кордона? Будто бы Пилсудский недоволен границей и намерен ее отодвинуть на восток.
В тот памятный день не то что площадь, а весь город, кажется, был не в силах вместить всех желающих. Пляжи опустели, закрылись лавки и почти все питейные заведения. Не ходили трамваи – всё одно по городу не проехать. С площади людское море выплескивалось в смежные улицы и проезды. Заняты были и крыши, в том числе и та, на которой найдена злополучная гильза.
Размахивая служебным жетоном, Окаянчик протиснулся через толпу. И как раз вовремя. Из блиндированного «Руссо-Балта» вышел цесаревич с семьей, потом с места водителя поднялся Сургучев.
– Ваше императорское высочество! – бросился к нему Окаянчик. – Остановитесь!
Сургучев обернулся.
– Я узнал!.. – зачастил Окаянчик. – Приглашение на обед Гипотенузову было выдано от Министерства Императорского двора. И телеграфный адрес в Петрограде, по которому слал раздавленный офицер телеграммы, – тоже. Вы понимаете, что это значит?
– Признаться, не совсем…
Сургучев указал на помост с репортерами:
– Глядите. На помосте одно место свободно! Как думаете, кого не хватает?
– Ума не приложу…
– Телевиденья! Я звонил сегодня в лабораторию Зворыкина. Они говорят, что никого к нам не слали. Это как раз и были военные со своими приборами. Вы понимаете? Заговор наверху…
Он не стал говорить, о чем думает: старая библейская история про двух братьев могла повториться здесь, в городе.
– Ай, не всё ли равно, кто покушается? – отмахнулся Сургучев.
– Да я же вас не пущу туда, под пулю! Остановитесь!
Помост охранял личный гетмана гайдамацкий полк. И Сургучев кивнул одетым в малиновые жупаны гайдамакам:
– Господа! Молодому человеку в толпе нездоровится. Помогите ему, выведите его на свежий воздух.
Те легко подхватили Окаянчика под руки и поволокли его прочь. Толпа расступалась, он что-то кричал, но на это никто не обращал внимания – мало ли безумцев бывает. Окаянчик видел, как великий князь поднимается на помост, словно на эшафот.
…Его оставили на перекрестке, когда до площади было саженей сто. Здесь народу было так мало, что можно было свободно пройти, а речи, произносимые с помоста, слышались в гулком отзвуке.
Расстроенный Окаянчик сел прямо на асфальт. Раскаленный на солнце, он пек даже сквозь штаны.
За спиной послышались скрип колес, музыка и две пары шагов: неспешные и мелкие торопливые. Тихий голос произнес:
– Сейчас на площади случится нечто неспокойное… А я ведь только того и хотел, что покоя. Этот город был нескончаемым курортным сезоном.
– Вы… – не вполне понимая, начал Окаянчик.
– Я пытался предотвратить. Сочинил ту аварию, выбросил пару монет с ликом будущего царя. Всё без толку. Кто-то противодействовал мне…
Окаянчик кивнул:
– Павел. Он желает убрать брата. Если Константина не будет, он может остаться хотя бы регентом.
– Не Павел… Он не будет царем в любом случае.
– Тогда…
Окаянчика осенило:
– Тогда это Константин! Он расчищает путь…
– Уже ближе, – кивнул шарманщик. – Покушение готовит не он, но он ему содействовал… Не противился, как сказал бы старый Толстой.
– А вы… Вы Лессингер?..
Поскольку дело Лессингера было засекречено, его фото нигде нельзя было найти.
Шарманщик кивнул:
– Только сегодня и только для вас… Розинг и Зворыкин – блестящие ученые. Но они не поняли главного в вероятностной машине и в самой вероятности тоже. Чем крупней событие, тем сложнее его предотвратить. Можно одно из его проявлений ликвидировать, но оно случится иначе – в другое время, в другом месте. Это всё равно что справиться с потоком, затыкая все дыры в плотине. Понимаете, о чем я?
– Андрей… Все против Андрея?..
– И ничего-то вы не поняли. Ждите, уже недолго.
Первым читал речь городничий. Он говорил много, витиевато и походил на свадебного генерала. После – уступил место цесаревичу.
И тут началось. Будто грянул сухой гром. Пространство и время дали прореху. Она вспыхнула так ярко, что на некоторых кинокамерах оказалась засвечена пленка. Яркий след пролег от крыши к помосту, к месту, где только что стоял цесаревич, секундой назад ступивший к трибуне, тем самым открыв своего сына Андрея.
Мальчишка смотрел удивленно и испуганно. Ему, да и всем остальным казалось, что нечто горячее с неотвратимостью летящей гири движется на него. Время стало медленным и вязким, как патока. Но как ни медленно двигалась пуля, еще медленней двигались люди.
Уже никто не успевал выдернуть мальчика из-под удара. Но в последнее возможное мгновение его своим телом прикрыл великий князь Константин, и тут же был отброшен, рухнул на помост.
Прореха закрылась, время обрело привычную скорость. Толпа многоголосо выдохнула. Испуг, нехороший шепоток по толпе – убили? Потом: будто бы жив, но плох. Пуля застряла в бумажнике. Как позже написали в прессе – была бы она обычной, остроконечной, прошила бы насквозь и кошелек, и тело. Но злодей высверлил в ней выемку, из-за которой пуля смялась, расширилась и застряла в коже бумажника.
Великий князь всё же получил травму и доставлен в здешнюю больницу.
Экстренные выпуски газет вырывали из рук разносчиков, и утром, как сообщила пресса, жизнь великого князя была вне опасности, но тем не менее его спешно самолетом перевезли в Москву.
– Это как геометрия Лобачевского, но только не для пространства, а для времени, – пояснил на следующий день Окаянчику шарманщик.
За спиной на волноломе шарманка играла мелодию, популярную следующим летом, а на тот день даже невыдуманную. Обезьянка грелась рядом, запасая тепло на зиму.
Рядом два обывателя-рыбака спорили о том, что следует считать величайшим изобретением человечества – диван или всё же мышеловку. Жизнь в городе успокаивалась.
– Как уместно, что карета скорой помощи стояла сразу за помостом, – заметил шарманщик.
– Скорая помощь всегда дежурит на таких мероприятиях, – возразил Окаянчик.
– А самолет гетмана, что прилетел еще в четверг?.. На нем, кстати, привезли хирурга. Вы сами-то верите, что это совпадения?
Окаянчик пожал плечами:
– Он спас ребенка, рискуя своей жизнью.
– Да бросьте. Стрелять через два-три дня – всё равно что стрелять в упор. Они стреляли в то место, где стоял великий князь. Он ответно мог лишь выбрать место, где бы в него попали. Ребенок, оказавшийся за его спиной, – хороший ход. Только как он узнал, что стрелять будут в грудь?
– Он за день до этого разговаривал со снайпером. Тот выболтал даже какими пулями пользуется.
– Тогда понятно. Константин наверняка прилично играет в шахматы. Вы, кстати, играете?
– Только в шашки.
– Это напрасно… Так вот, ежели до покушения шансы Константина удержаться на троне были неблестящими, то сейчас они хорошо за шестьдесят процентов. В России, как знаете, любят больных и оскорбленных. Если ему удастся продержаться десять лет и избежать войны с Японией в 1930 году, то к 1935 году будет объявлено о начале освоения внеземных колоний Российской империи. Но вероятность подобного – лишь десять процентов, хотя она и продолжает расти.
– Любопытно…
Помолчали. Солнце пекло просто адски. Шарманщик надвинул соломенную шляпу на глаза. Окаянчик разглядывал гавань. С якоря снималась яхта великого князя. Цесаревич отбыл еще вчера, регату сочли за лучшее в этом году отменить. И теперь спортсмены бороздили море для собственного удовольствия.
– А скажите… Если меняется судьба империй… Вы бы могли изменить немного жизнь одного человека? Мою?
Шарманщик щелкнул пальцами. По сигналу обезьянка проснулась, вытащила из ящика билет и протянула его Окаянчику.