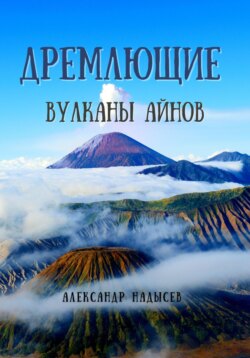Читать книгу Дремлющие вулканы айнов - Александр Валентинович Надысев - Страница 2
Камчатка
Глава 1
ОглавлениеС давних времён на Камчатском полуострове, враждуя меж собой, жили эвены, коряки, чукчи, ительмены и другие народности. А на южном побережье Камчатки проживали удивительные племена айнов-курильцев, выбиравших места своего пребывания вблизи вулканов. Но пришло время и русские первопроходцы в погоне за пушниной начали освоение Камчатки и приведение её жителей в российское подданство.
А начиналось это так. Анадырский приказчик Владимир Васильевич Атласов, пятидесятник, глава необъятной Чукотки, узнав о неведомой и очень богатой Камчатке, предложил якутскому воеводе поход за ясаком[1], ценными шкурками соболей и лисиц, в эти неизведанные земли. Воевода, не раздумывая, приказал:
– Велю покорить Камчатку, и добыть ясак с новых верноподданных государя!
И добавил, лукаво улыбаясь:
– Но на поход сей денег не дам.
Так по велению якутского воеводы Владимир Атласов стал за свой счёт готовиться к походу за «рухлядью»[2] в далёкую и загадочную Камчатку. Казаки его уважали и тянулись к нему. Атласова знали, как человека волевого, целеустремлённого, воспитанного в походных условиях, привыкшего с детства к умеренности и лишениям. В постоянных скитаниях по сибирским тундрам окончательно сформировался его характер, очень жёсткий, предприимчивый, часто беспринципный, и вместе с тем Атласов обладал железной волей и редкой физической выносливостью. На столь масштабное мероприятие ему пришлось одолжить у подьячего Ивана Харитонова 160 рублей, а у торгового человека Михаила Остафьева взять в долг деньги, с отдачей красными лисицами, и не только у них. На эти деньги Атласов стал нанимать казаков и, конечно же, ясачных юкагиров[3], обещая им богатую камчатскую добычу, и они записывались в поход. Без юкагиров, жителей Чукотки и умелых оленеводов, невозможно быстро пройти по заснеженным горам на оленьих упряжках, да ещё в такую даль. Так что без камчатской добычи задолжавшему Атласову лучше не возвращаться в Анадырский острог, и он готовился. С буйными казаками он ночами засиживался, то в приказной избе острога, то в кабаке, обсуждая предстоящий поход на Камчатку. Больше всех высказывали свои соображения казаки Иван Голыгин и Лука Морозко, уже побывавшие на Камчатке. Они за застольем весело переглядывались и балагурили.
– Да, что там, перемахнём через горы и Камчатка наша, – говорил, улыбаясь, Голыгин. – и возьмём, как в прошлый раз, множество соболей и чернобурых лисиц.
– Ага, – смеясь, отвечал Морозко, – забыл, как тебя там дикари подстрелили?
– Да ладно, что нам бояться дикарей с луками, – ответил Голыгин, – вот нам бы в поход поболее оленей с юкагирами, тогда быстрее покорим Камчатку.
– Будут вам юкагиры, – сразу заверил Атласов, – и много оленей.
– Тогда и «рухлядь» тебе добудем! – ответил Морозко, подмигнув Голыгину, – да ещё какую, пушистую!
– Надеюсь на вас, други, – поднял кубок медовухи Атласов. – Так выпьем за казацкую удачу! А тебя Лука я оставляю вместо себя править на Анадыре.
Декабрьским утром 1696 года отряд Атласова численностью в 124 человека вышел из Анадырского острога на оленьих упряжках и двинулся в поход. Отряд состоял из 64-х служилых, промышленных людей и 60-и ясачных юкагиров, которым предстояло покорить таинственную Камчатскую землю и собрать достойный ясак.
Тремя днями позже в Анадырский острог прибыл новый приказной Постников. Узнав о походе, он велел Луке Морозко догнать и вернуть Атласова, чтобы тот отчитался перед ним. И Морозко помчался вслед за отрядом, даже не думая передавать приказ Постникова. Он догнал Атласова уже в горах и был счастлив, что стал участником этого грандиозного похода.
В январскую стужу 1697 года, перевалив через Корякский хребет, отряд казаков спустился с гор и остановился передохнуть. Перед ними раскинулась неведомая земля с заснеженными горами, сопками и высокими вулканами.
– Камчатка! – радостно закричал Атласов, оглянувшись на казаков. – Здесь обитают коряки, с них и начнём приводить дикарей под царскую руку.
– Откудава таково прозвание Камчатка? – спрашивали казаки друг друга, соскочив с нарт.
– Известно откуда, – ответил седобородый казак и рукой махнул на юг. – Тама течёт большая река Камчатка, названная именем якутского казака Ивана Камчатого, сыскавшего в её устье лежбища моржей, а позже и сия землица стала называться Камчаткой.
– А ну, все по местам! – заорал десятник Морозко. – Ишь, разгалделись.
Казаки нехотя стали садиться на нарты, ворча на десятника, а тот, взглянув на небо, покачал головой:
– Кажись запуржит.
Сплошная хмурая облачность клоками тяжело нависала над суровыми кряжами гор, покрытых снегами, и только в её просветах сверкало своими косыми лучами низкое солнце. Красота!
– Вот она какая, земля камчатов! – озирались молодые казаки, удивляясь необычным искрящимся горам, поросшим лесами.
– Им всё в диковину – ворчали бывалые казаки, как вдруг заметили местных дикарей с луками наготове.
– Ба, да нас уже встречают, – загоготали казаки. – Смотри-ка, луки свои наладили.
Промысловики схватились за ружья и все приготовились к бою.
– Как бы не стрельнули? – вскрикнул кто-то из молодых, и вскинул пищаль[4].
– Не трожь их, – строго велел Атласов, – это ж горные коряки, мирный народец, да и ясак с них никакой. А нам в путь к Пенжинской губе, вот там возьмём что-нибудь пожирнее и постреляем. Трогай!
Казаки, несмотря на поднявшуюся метель, двинулись в путь, а коряки как появились нежданно, так и исчезли в лесу. Ветер стих, но снег валил, не переставая, а отряд упрямо продвигался на юг, несмотря на крики недовольных юкагиров, хлеставших оленей. Вдруг небо прояснилось, снег закончился, и выглянуло низкое солнце. Отряд Атласова неожиданно выбрался на высокое скалистое плато. Олени встали. Казаки повыскакивали с нарт, поразмяться…и увидели в дымке синие горы и огромную искрящуюся реку, покрытую льдом.
– Какая ширь! – дивились молодые казаки. – Какая загадочная река!
– Это Пенжинка, – пояснил Атласов. – Здесь будем ставить острог.
Так, прибыв на берега каменистой реки Пенжины, Атласов основал острожек Акланский, а затем – Каменский. Передохнув, он отправил десятника Морозко с казаками дальше по заснеженному льду к устью реки Пенжине, где тот поставил зимовье, назвав его Усть-Пенжинское. За несколько дней Лука Морозко призвал присмиревших коряков под государеву руку, без боя собрав с них ясак лисицами, и вернулся в Каменский острожек.
В приказной избе острожка тепло и уютно, горела лучина, и пахло свежим срубом. За грубо сколоченным столом сидели приказчик Атласов с десятником Олешко Пещерой и пили крепкий мёд, закусывая сушёной рыбой. Неожиданно в избу вошёл Лука Морозко, перекрестился на икону в красном углу и широко улыбнулся:
– Будь здрав батька.
Атласов, развалившись на лавке, посмотрел на вошедшего Луку и спросил:
– Всё ли сладилось с ясаком?
– Всё, батька, – быстро ответил Морозко.
– Что за народец? – спросил Атласов. – Доложь.
– Коряки пустобородые, – докладывал Морозко, распахнув свой тулуп, – лицом русоковаты, роста среднего, в бога не верят. Живут в ярангах, похожих на островерхие юрты, покрытых шкурами, в очаге – огонь на тюленьем жире, а спят в гамаках. Есть у них шаманы – они бьют в бубны и кричат. Ясак взял лисицами.
– Что же они хотят? – ухмыльнулся Атласов.
– Оружие у них – луки, да копья, а потому товары им надобны – железо, ножи, топоры. Менять товары им не на что – в устье Пенжины нет соболей, а питаются они только рыбой, – закончил Морозко и посмотрел на приказного.
– Житьё у них скудное, – заметил Атласов, нахмурившись.
Он поднялся с лавки и велел:
– Передохни Лука, и сбирай людей в поход за жирной добычей.
Атласов, проводив Морозко, выразительно посмотрел на Олешко Пещеру.
– Более добычи нам не видать, – тихо сказал он и, приложив палец к губам, прошептал. – А потому, Олешко, возьми служилых людей, и иди с ясачным обозом в Якутский город. Отчитаешься тама, но никому ни слова, понял?
Перед рассветом ясачный обоз остановился у ворот острога, и десятник Пещера с передних нарт крикнул:
– Семейка, открывай врата.
– Куды ты, Олешко, в такую рань? – спросил воротник. – А то вчерась, видал я в лесу коряков с луками. Слышь, куды тебя несёт?
– Не твово ума дело! – прокричал десятник на ходу, и обоз скрылся в туманной дымке леса.
«Кабы чего не вышло, – подумал воротник, – а то коряки меткие охотники, подстерегут, не дай Бог».
Уже совсем рассвело, и Семён, увидев казаков, которые готовились к походу, подумал: «Эти робяты, понятно, хотят заясачить коряков, – и стал открывать ворота, как вдруг стрела пронзила его грудь.
«Эх, это не к добру» – мелькнуло в голове Семёна, и он упал на снег. Казаки, увидев в лесу стрелявших дикарей, стали палить по ним из пищалей. Коряки, бросив раненых, в страхе разбежались. Казаки, выдернув стрелу, внесли раненного Семёна в избу, а тот, переживая, шептал чуть слышно: «Как бы не подстрелили мово племяшку, Олешко».
Атласов, увидев стонущего воротника, вздрогнул и участливо утешил:
– Задело тебя чуть, Семейка, терпи – пройдёт, – а сам подумал: «Хорошо, что ночью отправил ясачный обоз в Якутский, а то было б худо».
Вскоре отряд казаков на оленях резво помчался по заснеженному льду реки, и вышел на побережье огромной Пенжинской губы. Не найдя на пустынном побережье никаких корякских селений, отряд остановился и Атласов решил разделиться.
– Ты, Лука, – велел он, – бери людей и иди на восточное побережье Олюторского[5] моря, ведь ты сюды хаживал с Голыгиным. Смотри, не озоруй, и ясак бери по лисице с души. А я пойду по берегу Пенжинской губы на юг. Если что случится, присылай гонца. Всё, трогаемся!
Десятник Лука Семёнов Морозко Старицын был дерзок, храбр в бою и удачлив в нескончаемых походах, и потому пользовался у казаков заслуженным уважением. И казаки говорили о нём:
– Мы с ним, как у Христа за пазухой.
Перевалив через высокие горы, десятник Морозко с товарищами захватывали поселения олюторских коряков, которых призывая «лаской и приветом», приводили в подданство царю и собирали с них ясак лисицами. Дальше казаки, продвигаясь по побережью, встречали лишь редкие селения коряков и как-то приуныли. И вдруг они увидели чумы любопытных чукчей. Те разбегались, прятались, ещё и отстреливались. Их отлавливали и приводили в российское подданство, а ясак приходилось брать силой. После перестрелки с чукчами, Морозко как-то забеспокоился.
«Что с основным отрядом? – думал он. – Всё ли благополучно у Володимира? А мои-то казачки, как блаженные, идут из леса и даже не оглядываются».
– С дикарями надо держать ухо востро. Ишь, расхрабрились! – закричал на казаков Морозко и велел им садиться на нарты.
Так с мелкими боями казаки Луки Морозко шли на оленях по побережью полуострова, теряя по пути своих товарищей.
1
Ясак – вид дани, подати.
2
Рухлядь – название пушнины, выделанных шкурок пушных зверей для производства меховых изделий.
3
Юкагиры – восточносибирский народ.
4
Пищаль – длинноствольное огнестрельное ружьё.
5
Олюторское море – Боброво море, Берингово море.