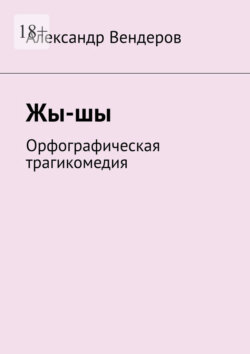Читать книгу Жы-шы. Орфографическая трагикомедия - Александр Вендеров - Страница 2
ОглавлениеПредупреждение. Главный герой рассказа – исключительно идейный человек, который в течение многих лет доказывал, что «жы-шы» надо писать через «ы». В знак уважения к нему автор в этом произведении пишет слова с «жы-шы» через «ы», хотя это и противоречит общепринятым правилам. Фамилии персонажей пишутся так, как они были записаны в их документах на момент действия.
С первого класса нас учат: «ча-ща» пишы с буквой «а», «чу-щу» пишы с буквой «у», ну и, конечно, «жи-ши» пишы с буковой «и». Эти правила затвердил каждый русский человек с семилетнего возраста, не задумываясь, почему, собственно, надо писать так, а не иначе. Однако Николай Васильевич, учитель русского языка и литературы из маленького уральского городка, в студенческие годы задумался, почему именно так надо писать, и это в корне изменило его жызнь. Нет, против «ча-ща» и «чу-щу» он никогда не возражал, но вот «жи-ши»… Послушайте-ка историю Николая Васильевича.
С тех пор, как родился он в этом городке сорок пять лет назад, в 1977 году, так здесь и жывёт. И все пятнадцать тысяч населения знают Николая Васильевича как чудака. А всё из-за его сверхценной идеи: в течение двух с лишним десятилетий он боролся за то, чтобы реформировать русскую орфографию и писать «жы-шы» вместо «жи-ши». Знаете, как его фамилия? Шыроков! Прямо так в паспорте и написано, и здесь нет ошыбки. При рождении он получил фамилию родителей – Широков. В шестнадцать лет ему выдали на эту фамилию паспорт ещё советского образца. Но когда на рубеже веков советские паспорта стали менять на российские, Николай Васильевич решыл, что пришла пора показать окружающим пример и изменить написание своей фамилии. Оставался последний год учёбы в педвузе в областном центре, и если стать Шыроковым сейчас, то диплом будет выдан уже на фамилию в правильном, с точки зрения её носителя, написании.
В июле 1998 года в загс маленького городка вошёл высокий худой юноша с русыми волосами, блёкло-голубыми глазами и длинным прямым носом. Ничем не примечательная внешность, и в большом городе сотрудники любого учреждения и внимания не обратили бы на такого посетителя. Однако в райцентрах, где каждый знает каждого если не по имени, то хотя бы в лицо, визит в загс не останется незамеченным. И сотрудница, работавшая в тот день на приёме документов, подумала: «Знаю этого парня, много раз на улице видела и в магазинах. Жениться хочет, что ли?» Велико же было её удивление, когда посетитель рассказал о цели своего визита.
– Здравствуйте! – произнёс молодой человек, немного смущаясь, но стараясь говорить твёрдо. – Я хочу сменить фамилию. Точнее, подправить, поскольку она по недоразумению неправильно пишется.
Не каждый день с такими запросами люди приходят в загс, и женщина заинтересовалась:
– Какая же у вас фамилия?
– Широков. Но она, согласно очень архаичному правилу, пишется через «и», а надо бы через «ы». Вот чего я хочу.
– Это ваше право, – ответила она после некоторого раздумья, глядя на молодого человека как на несмышлёного ребёнка. – Я заявление приму, но вы хорошо подумали? Ведь над вами же смеяться будут, да и проблемы с документами будут возникать всё время, потому что станут писать через «и».
– Ну, уж это моя забота, – возразил юноша. – Я добьюсь, что через «ы» будут писать не только мою фамилию, но и все слова, где встречается сочетание «жы-шы».
– Зачем же это? – удивилась сотрудница загса. – Вот, например, моя фамилия Илюшина. Неужели вы и её хотите писать через «ы»?
– Конечно! Понимаете, в написании «и» после шыпящих был смысл века до четырнадцатого, пока они произносились мягко. К пятнадцатому веку шыпящие отвердели, а правило осталось. Однако эта орфограмма не соответствует современному русскому языку. Теперь у нас уже двадцатый век кончается, и мы не говорим [ж'изнь] и не говорим [Илющина]. Нет, только [жызнь] и только [Илюшына]. Звука [и] там и близко нет вот уже шестьсот лет. Значит, надо писать через «ы», – Николай Васильевич рассказывал увлечённо, как, должно быть, делал это уже много раз. Он в этот час был единственным посетителем, и бывшые на месте сотрудницы, в том числе и директриса, пришли его послушать. Он продолжал: – И я вам такой пример приведу. В 1918 году была большая реформа русской орфографии. Отменили ять, фиту, і десятеричное и твёрдый знак в конце слов. Нам сейчас такими чудны́ми кажутся тексты с этими буквами! А если бы тогда же отменили и «жи-ши» через «и», то мы сейчас удивлялись бы: «Вот людям делать было нечего – слово „шышка“ писали через „и“!»
Директриса, услышав такую пламенную речь, написала что-то на маленьком листочке бумаги и подала Илюшиной. Та, прочитав записку, сказала Николаю Васильевичу с улыбкой:
– Я поняла вас. Спасибо, что так интересно рассказали. Что же, заполняйте заявление и оплачивайте пошлину в сберкассе.
Записка была короткой: «Наталья Ивановна, принимайте документы. Дайте дорогу дураку». На следующий день Шыроков пошёл в паспортный стол, где ему тоже выпал случай рассказать, почему писать «жы-шы» через «и» неправильно. Эта история быстро стала достоянием гласности в городке и вызвала не одно кручение пальцем у виска. А мать Шырокова, узнав о поступке сына, только развела руками:
– Имбецил! Наказал меня Господь сыночком.
Мать всегда холодно относилась к сыну: дескать, придумывает какую-то дичь – ну и пусть его. Больше он ни на что не способен. Когда Николай подправил свою фамилию, ему был двадцать один год, но она уже махнула на сына рукой. Того же мнения был и его отец, и жаль, что он рано ушёл из жызни – как бы не пришлось теперь старость в людях коротать. Сам же Николай Васильевич мечтал стать великим человеком, но когда в вас не верят самые близкие люди, это очень обидно. В ответ на упрёки родителей он замыкался в себе и продолжал делать по-своему, иногда даже наперекор.
Шыроков окончил филфак педагогического университета и вернулся работать в родной город. Трудно начинать любую работу, но начинать работать учителем, когда надо поставить себя перед учениками так, чтобы они не сели вам на шею, особенно трудно. Однако у Николая Васильевича это получилось. Нельзя сказать, что он был хорошым педагогом. Дети на его уроках вели себя в рамках приличий по той причине, что знали: учитель строгий и может как двойку поставить, так и душу вынуть, подняв на смех перед классом. Так что лучше выполнить домашнее задание или списать его. Шыроков и за списанные работы меньше трёх баллов не ставил – ему главное было, чтобы на уроках не болтали. Тяжело эта педагогика давалась Николаю Васильевичу, но делать было нечего. Учителем всё равно предстояло работать, потому что ничего другого он не умел. Да и на филфак поступил только по той причине, что лишь по русскому языку и литературе у него в школе были твёрдые пятёрки. Поплыл, стало быть, по течению, но в годы учёбы в университете заинтересовало его это самое «жы-шы» сверх всякой меры.
Устроившысь в школу, Шыроков, разумеется, объяснял ученикам, что по правилам русского языка надо писать «жи-ши» через букву «и», в том числе и на экзаменах.
– Но если вы в домашней работе или в сочинении, где никто кроме меня этого не видит, напишете через «ы», то я не буду считать это ошыбкой. Наоборот, меня порадуете.
И школьники пользовались этой маленькой свободой – безнаказанно жышыкать в тетрадях по русскому языку. Иные, правда, кто по той или иной причине был обижен на Николая Васильевича, принципиально писали «жи-ши». Этим они вызывали досаду у учителя, но ничего с ними поделать он не мог: не снижать же, в самом деле, отметки за правильное написание!
Николай Васильевич рассказывал ученикам о пресловутой орфограмме ещё подробнее, чем в своё время в загсе, и они прозвали его Жы-Шы. Так и говорили за глаза: «Наш Жы-Шы идёт» или «Жы-Шы нам задал сочинение написать». А иной раз и в глаза, маскируя это под случайную оговорку:
– Жы-Шы Васильевич, можно выйти? Ой, извините, Николай Васильевич.
Хотя Жы-Шы Васильевич и был суровым учителем, однако подобные выходки игнорировал. Это всё мелочи по сравнению с пользой, которую он может принести русскому языку как реформатор орфографии. И он не только мечтал – он делал. В 1999 году, когда Шыроков получил высшее образование и начал работать в школе, интернет в России был ещё в зачаточном состоянии. Поэтому он продвигал свои идеи посредством бумажных писем. Писал и в научные общества, и в толстые журналы, и в Российскую академию наук, и в Российскую академию образования – ни одного ответа не получил. Адресаты, прочитав письмо, или недоуменно качали головой, или, опять-таки, крутили пальцем у виска, а то и просто смеялись над письмом всем отделом. Однако такого пассионария, как Шыроков, было трудно сломить как равнодушыем, так и насмешками, и он не оставлял попытки убедить людей в своей правоте.