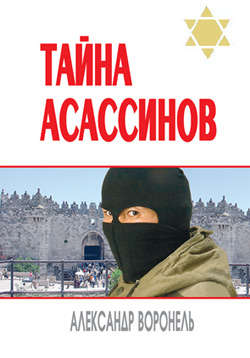Читать книгу Тайна асассинов - Александр Воронель - Страница 6
1. КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ЛЮДИ НА ВОЙНЕ
ОглавлениеВ обыденной жизни от множества мелких забот и незначительных разговоров мы обалдеваем и теряем ощущение смысла и цели, перестаем различать высокое и низкое, важное и пренебрежимое. Хорошая книжка может встряхнуть и напомнить… Прошло уже много лет с тех пор, как множество людей покинуло СССР. Некоторые из них прижились в Израиле настолько, что способны писать о жизни здесь, о нашей жизни, не о невозвратном прошлом. Такой человек пишет о жизни, которая нас окружает, но в его тексте невольно присутствует сравнение: он знал и другую жизнь, он не может забыть, даже если захочет. Это неявное сравнение наполняет его наблюдения особым смыслом, придает его описаниям оттенок тайного знания. Его внимание невольно выхватывает из беспорядочной картины реальности то, что он менее всего ожидает увидеть. Это хорошая позиция, обостряющая взгляд писателя, дающая творческому слову новые смысловые оттенки. Зря эмигранты жалуются. Впрочем, они жалуются не зря. Они жалуются на то, что вместо чисто словесной работы, к которой они привыкли с детства, им приходится проделывать новую работу по осмыслению незнакомой действительности, заниматься трудом, от которого они с детства отвыкли.
Удачи на этом пути редки. Они приходят к тем, кто погружается в эту действительность целиком (или не погружается в нее совсем). Об одной из таких удач я хочу рассказать на последующих страницах, но, хотя это желание возникло у меня в связи с книгой, речь пойдет, скорее, о жизни, которая за этой книгой стоит. О драматическом эпизоде этой жизни. О войне в Ливане…
Командир инструктирует солдат перед боем: «Одна из наших главных задач – вернуться домой целыми!» Такое замечание, может быть, не остановило бы внимание писателя-американца. «Поэтому делайте то, что вам говорят, и никуда не лезьте без команды!» – здесь содержится новое для русского выходца обоснование воинской дисциплины.
С этого, в сущности, начинается книга Владимира Лазариса «Моя первая война». Этим, в сущности, она и кончается: «Побеждает тот, кто остается в живых. А каждый знает, что в живых остаться можно только, если воевать, а не бежать». Это слова из интервью, которые В. Лазарис взял у молодого десантника, родом из Вильнюса, историка по специальности. Действительно ли каждый знает, что бегство не спасает? Или, может быть, только историки по специальности?
Книга Лазариса представляет собой короткий военный дневник и 22 интервью, взятых на поле боя у солдат – выходцев из СССР. Автор проявил чуткость к своему материалу: дневник его, не заслоняя картину, вводит читателя в обстановку ливанской войны. Тон дневника подготавливает читателя к шуму разных голосов в интервью и потому намеренно негромкий.
Прочтение книги провоцирует мысль, что, быть может, война, или еще конкретнее, армия сплачивает нас вернее, чем прожитые в стране годы, успехи по службе и знание языка. Мы вместе живем и вместе воюем, значит, мы – один народ. Это не столько силлогизм, сколько чувство. Как всякое чувство, оно сильнее разума. Это чувство господствует во всей книге. Разум же подсказывает каждому интервьюируемому свои собственные пируэты вокруг этого стержня. Большинство из них – молодые ребята, так что они, в сущности, уже не «русские», а израильтяне. Это очень заметно по свободе, с которой они признаются в своих страхах, а также по свободе, с которой они рассуждают о войне и политике. Но сказанное выше об особой двойственности оценок бывшего выходца из СССР остается верным и для них. Во-первых, потому, что кое-что они все же помнят, а во-вторых, потому, что направляет разговор воля автора, и характер его вопросов определяет, конечно, круг их внимания.
«Меня поставили за дерево, прикрывать ребят… Первый пробежал благополучно. Прямо за ним, фонтанчиками по земле, шла очередь… И рядом со мной пули из „Калашникова“ шлепались „панг, панг“. Я только думал: ради мамы пусть со мной ничего не случится».
Это интервью разведчика. А вот голос шофера:
«Мне до Ливана дела нет, я туда пришел, потому что там кто-то был, кто мне мешал… Я себя чувствую, как маляр, которого попросили покрасить дом. Прийти, покрасить и уйти. Как в России говорили: “Надо, Федя!”… С правой стороны виднеется Бейрут, а слева – наша артиллерия. Вот она и начала долбать. А мы – на дороге. Снаряды летят над головой. Едешь и сам себя уговариваешь: “Не в тебя, не в тебя! Это – наши!” Но снаряды-то летят. И террористы отвечать начали. Мы оказались посередине. Говорят, если слышишь снаряд, он уже не опасен. Не знаю. Чувствую, в кабине сильно воняет. Оказывается, напарник, когда “катюши” стреляли, в штаны наложил. Мы остановились, но я как-то ничего не чувствовал. Дело еще в том было, что, когда мы перед въездом в Бейрут ждали пропуска, я с ребятами бутылку водки распил. В общем, когда этот парень меня за руку схватил, я затормозил. Вылазит он, значит, из машины и говорит: “Вы меня, ребята, извините. Желудок не выдержал”. С каждым может случиться. Вообще лучше не думать, что ты можешь вот так запросто помереть, потому что, чем больше думаешь, тем больше вероятность, что так оно и будет».
Ну, кто способен не думать, тот не думает. Но вот танкист думает все время:
«Если на узкой горной дороге стоит автомашина, ты же не станешь останавливать колонну в сотню танков, чтобы эту машину оттащить. Представляете: на легковушку наползает полсотни тонн железа… Никто, конечно, не хотел специально вредить и портить, но, если честно сказать, мне было даже забавно. Потому что в такую минуту особенно ощущаешь, какой махиной ты правишь… У командира голос стал немного истерическим. Когда сильное напряжение – всегда крики. Потом параллельный пулемет вышел из строя, и я должен был вылезть наружу, чтобы заменить его другим. Тогда я почувствовал беспредельный страх…»
Хотя жанр этот довольно обычен для англоязычной или ивритской литературы, такие книги никогда еще не появлялись на русском языке. Русскоязычный читатель может найти здесь впервые не только некую правду об Израиле, но и некую новую для себя правду о жизни вообще. Так как это непохоже на обычную для него сионистскую пропаганду. Недавний советский гражданин может задать законный вопрос: «На чью мельницу льет воду господин Лазарис?» Здесь обнаруживается привычная нам по прошлому опыту аналогия между правдой и водой.
Что такое правда? Прежде всего, забудем, что в СССР нас учили, будто бывает правда «наша» и «не наша». Правда – одна. Иногда – неприятная. Затем придется также отказаться и от внушенной всей русской литературой, от Толстого до Солженицына, мысли, что главная правда проста. Как ни смотри, всегда оказывается – с одной стороны… с другой стороны. Простоты никак не получится, если мы не готовы для этого сжить со света половину человечества. Как и вода, правда протекает сквозь пальцы, если надеешься ее зачерпнуть голой рукой. Но может утолять жажду…
Правда жизни состоит в том, что люди ее не знают. И те, которые ищут ее, оказываются значительнее и правее, чем те, которым она безразлична. И книга Лазариса поражает, прежде всего, ощущением значительности жизни, которую она описывает.
Многие талантливые писатели замечали, что жизнь человека на земле – это трагедия. Но современный писатель, будучи верен правде, которую он видит, описывает все, как есть, и получается фарс, суета вокруг мелочей, водевиль с убийством… Потому что человек ведет себя в этой трагедии, как комедиант. Это только у Шекспира он предлагает за коня полцарства, и понимаешь, что жизнь его стоит царства. В литературе, верной реальной жизни, человек ищет коня подешевле. Эта скидка сразу снижает и цену его собственной жизни. Какая уж тут трагедия – просто бизнес: кому повезет, а кому и нет. Биржа. Поэтому современная литература ищет пограничных сюжетов из жизни гангстеров и сутенеров, в надежде, что их опасное существование и привычка расплачиваться крупными купюрами сами по себе сообщат эту крупность и повествованию. Однако незначительность мотивов снижает также и литературную значительность преступлений, а чем больше мы узнаем о преступном мире, тем менее серьезным в смысле крупных чувств он выглядит.
Война – это не только смерть и разрушение. Это еще и опыт. Это жизнь. Даже если это и «преступление», за этим преступлением стоят значительные мотивы. Книга о войне всегда имеет шанс на значительность. Реализация этого шанса зависит от тех, кто в войне участвует, какой правдой они руководствуются, к каким купюрам привыкли…
Из двадцати двух израильских солдат, бывших выходцев из СССР, все двадцать два вынуждены были проверить свое представление о правде в той пограничной ситуации между жизнью и смертью, когда вторичные мотивы отступают. Конечно, когда в родительском доме разливают чай, каждый признает, что доброта лучше ненависти. Но когда нас, пятнадцатилетних мальчишек, гнали этапом из пересылки в лагерь и я протянул руку за какой-то съедобной ягодой, а мой сверстник выхватил ее у меня, он не постеснялся сослаться на школьный учебник, проповедовавший выживание сильнейших в жизненной борьбе. С тех пор я столько раз наблюдал практическое применение этого социального дарвинизма, что начал сомневаться в универсальной применимости принципа преимущества добра над злом. Никакие книги, сеющие разумное, доброе, вечное, не могут научить молодого человека быть человеком, пока он сам не побывает между молотом и наковальней, пока он не узнает настоящего страха и не определит для себя собственную меру доброты, доверчивости и способности к риску.
В Израиле нет романтизации войны и военных подвигов. Но я знаю, что пацифисты у нас в Израиле совершенно другие, чем в иных странах. Как правило, это люди повышенной храбрости. Может быть, от легкомыслия, но они явно не опасаются за свою жизнь. Многие из них служат в самых отчаянных боевых частях. Когда одни требуют немедленного мира, они имеют в виду свою готовность рискнуть жизнью, проявив максимум доверия к арабским противникам, а не свою готовность бежать с поля боя. Вот голос десантника:
«Я не крайний левый, хотя с самого начала был против этой войны. Раньше всегда чувствовалось единство, мы всегда знали, ради чего воюем. В первый раз в нашей части произошел такой глубокий раскол. Когда пошли слухи, что нас пошлют к Бейруту, некоторые ребята, включая наших офицеров, заявили, что они готовы сесть в тюрьму, но на Бейрут не пойдут. В другой ситуации они никогда бы себя так не вели. Я того мнения, что приказ нужно выполнять, если только он не заставляет меня совершать что-то бесчеловечное. Конечно, когда предстоит боевая операция, у наших людей есть готовность идти на самый страшный риск…»
Это прямо противоположно тому, что характеризует пацифистов в Европе: «Лучше быть красным, чем мертвым! Лучше заниматься любовью, чем войной!» Эти готовы бежать и бегут…
Десантнику, готовому на самый крайний риск, отвечает десантник осторожный:
«Был приказ стрелять только по тем, кто стреляет в нас. Но мы стреляли и тогда, когда замечали что-нибудь подозрительное. Я хотел, чтобы там было как можно меньше людей – неважно, террористов или нет, потому что я вообще не хочу ни стрелять, ни убивать. Конечно, если уж приходиться… С кем мы сражались? С арабами. Я их никак не разделяю. Любой араб – это враг…
Таким образом, различие между правым и левым, между голубями и ястребами определяется мерой доверия, мерой риска, которую ты готов на себя взять. У каждого эта мера – своя, и определить ее теоретически невозможно:
«Вбегаю в дом – на полу сидит парнишка, рядом оружие лежит. Он руки поднял. Ну, раз так, думаю, сдается парень. Наклонился оружие поднять. Даже не подумал, что парень может мне что-то сделать, никак еще не вбил в голову, что это – война, что один другого должен убить. Спокойно так нагибаюсь. А он, видно, понял, что я один, и как прыгнет мне на спину! Ухватил за цепочку с жетоном и давай душить. Парень молодой, но я – тоже не инвалид. Напрягся, порвал цепочку… автомат уже не стал поднимать… Когда он упал, я ему еще ботинком поддал. Разозлился я на него сильно. Скажу вам прямо: первый раз убить человека тяжело».
И второй раз тоже:
«Что я чувствовал? Что мне приходится стрелять в ребенка. Я был готов убивать, но я не знал, что придется иметь дело и с детьми… Нам дали приказ – ни женщин, ни детей, ни стариков не трогать. Не сказали только, что эти самые дети будут стреять в нас… Настоящие убийцы! Ребенок, как овца. Куда пастух, туда и он. Перевоспитывать их надо…»
Не все относятся к этому так спокойно. Во всяком случае во время боя:
«В ту минуту, хоть и страшно, но в тебе поднимается злоба против тех, кто в тебя стреляет, и хочется их убить. Я стрелял по живым людям, но для меня они были только мишенями… И было только одно желание: заставить их замолчать. Навсегда… Некоторые сдавались. Нам было приказано не стрелять, если человек бросает оружие. Я совру, если скажу, что у меня не было желания этот приказ нарушить… Жена и дети очень обрадовались, когда я вернулся. Я им ничего не рассказывал. Я не хочу, чтобы мои дети ненавидели арабов только потому, что они – арабы».
Какой вывод из всего этого? Ведь эти свидетельства не только противоречат друг другу, но и каждое в себе заключает противоречия. И каждое имеет право на существование, потому что за каждым стоит человек, который живет и рискует своей жизнью с этим багажом. И израильский читатель знает, что это не воспоминания после войны, которые уже ни к чему не обязывают, для внуков, так сказать. Нет, через несколько лет или месяцев придется опять идти на войну и опять решать, как поступить с собой и другими. Как замечательно заметил 20-летний танкист: «Чувствуешь, какой махиной ты правишь…» Все ли люди на земле чувствуют, какая махина ответственности катится вместе с ними по земле, и как значительны, на самом деле, их поступки? Вернее, как они незначительны в подавляющем большинстве случаев. Как мало продуманы их мотивации, как мелки принимаемые во внимание обстоятельства. Какое вопиющее несоответствие между причинами и следствиями. Мы живем в таком месте и в такое время, что всякий невольно задумается. Может быть, в этом и состоит наша правда. Задуматься.
В конце концов, многие ли из нас стали бы думать о жизни и смерти, если бы этот вопрос не висел над нами, как налоговое бремя? Дает ли этот опыт молодому человеку что-нибудь такое, ради чего стоит рискнуть жизнью?
«Когда сидишь в танке, не так страшно… потом уже я понял, что каждый должен преодолеть какой-то барьер страха. Я преодолел в тот момент, когда мы покинули подбитый танк… Представляете, какая в горящем танке температура! Я удивляюсь, как те парни, которые вытащили командира, вообще смогли приблизиться. В днище танка есть несколько дырок, через которые спускают масло, так через эти дырки вытекли все алюминиевые части из мотора. На земле лужа застывшего алюминия».
Ради этого мы привезли сюда своих детей? Ответ, я думаю, следует искать у самих детей. Тех, кто еще не ищет тихой пристани. Кого жизнь еще не придавила или контузила. Тот же 20-летний танкист говорит:
«Мы выскочили (из подбитого танка) через верхний люк и очутились на совершенно открытом месте… Подъехал бронетранспортер, чтобы нас забрать. Там была дикая теснота… Вначале я был немного в шоке, хотелось забиться в какой-нибудь угол. Наверху двое парней стреляли из пулеметов, там было еще свободное место. У бронетранспортера стены, как бумага, – уж лучше стоять наверху. Я взял автомат и поднялся…»
Он, как и наш историк-десантник, откуда-то знает, что спрятаться – не поможет. Жизнь и смерть достанут и тех, кто забьется в самый тихий угол: «у бронетранспортера стены, как бумага…» К тому же в тихих углах – «дикая теснота». Это такое знание, которое 20-летний парень не вычитал бы в книгах.
Ведь стены, как бумага, и у наших домов. И цивилизация наша, нормы жизни, к которым мы привыкли, отделены от варварства не более, чем бумажными стенами. Как ни странно, наибольшее чувство безопасности испытывали жители Советского Союза. Если они не диссиденты, конечно. Это тем более странно для евреев. Во время мировой войны в Советской армии служило 550 тысяч евреев (вдвое больше, чем в израильской армии при полной мобилизации), и более 200 тысяч из них сложили головы в боях. Чтобы достичь такой цифры потерь, нам пришлось бы здесь воевать еще триста пятьдесят лет или провести 60 войн подряд. Ну, скажут мне, это было так давно… И, наверно, не повторится… Такое утверждение прозвучит так же смешно, как надежда, что у нас в Израиле больше не будет войны. Мы привыкли, что живем в очень опасном месте. Возможно, это наше преимущество. Мы окружены всего лишь врагами. Нас отделяют от них государственные границы. Множество талантливых генералов заботится о нашей безопасности. А кто заботится о безопасности, допустим, Берлина? В Европе нет войны уже сорок лет, но сорок лет назад Европа была самым опасным местом на земле. Что же, это навсегда кончилось? Трудно поверить.
Ощущение безопасности в СССР рождалось из представления о чудовищной мощи советских военных и карательных органов. Ничего подобного нет в демократических обществах. Все они находятся в состоянии необъявленной войны с асоциальными элементами у себя дома и за границей и ведут эту войну с переменным успехом. То, что эта война не объявлена, только осложняет ситуацию.
Профессор Дельбрюк, автор классического труда «История войн и военного искусства», замечает, что при обсуждении причин падения Римской империи (а это означало, и Римской цивилизации) упускают обычно ту единственную причину, которая ему, как специалисту, кажется по-настоящему важной. В Римской империи военная профессия потеряла свой престиж, и римляне разучились воевать. Просто мирная жизнь стала для них так привлекательна, что только варвары и асоциальные элементы соглашались служить в армии. И варварские орды, разрушившие Империю, встречали на поле боя «римлян», которые отличались от них самих только тем, что воевали неохотно. Кстати, он также подчеркивает, что представление о том, будто на Рим нападали несметные полчища, возникло только как оправдание честолюбия римских полководцев. Варварские орды никогда не превышали римские войска численно, они просто состояли из храбрых людей, подогреваемых неутоленной жаждой наживы.
Армии и полиции западных стран состоят, в основном, из слабых людей, не выдержавших конкуренции в свободном обществе и выбравших легкий путь. Не удивительно, что им так трудно бороться с противником, одушевляемым мечтой «кто был ничем, тот станет всем». Они, может, и сами бы не прочь…
Необъявленная война идет не только между правительствами и террористами, добивающимися невесть чего. Она идет и на каждой улице между цивилизованными людьми и варварами, которые хотят взять «своею собственной рукой» то, что они не заработали. В общем, они добиваются своего.
К известному русскому поэту Н. Коржавину, живущему в Бостоне, заходит по субботам сосед-негр и требует три доллара на выпивку. (Мои сведения многолетней давности, в прошлом году в Нью-Йорке мне сказали, что с собой теперь надо носить двадцать долларов, а то грабитель может рассердиться и выстрелить. Но он может рассердиться и по другой причине.) Коржавин не знает, как отразился бы на его здоровье отказ выполнить просьбу соседа. Однажды соседу понадобилось взломать дверь и унести телевизор… В общем, Коржавин бы не возражал, чтобы его от соседа отделяла государственная граница. Но в полицию он обращаться не пробовал. Журналист Г. Рыскин очнулся от забытья у самых рельс нью-йоркского метро. Ему удалось припомнить, что кто-то ударил его по голове незадолго до этого. Журналист Рыскин больше в метро не ездит. Он купил автомобиль. Писатель М. Гиршин в Нью-Йорке просто никуда не ходит после пяти вечера. Математик В. Рабинов получил несколько пуль в живот в Сан-Хозе, Калифорния, в ресторане, где он ежедневно обедал, потому что не разобрал по-английски команду: «Руки вверх! Лицом к стене!» Не лучше ли было бы ему слушать раз в году команды израильского командира? Каждый защищает свою жизнь и свободу, как может. Как он хочет. Способ, которым это делают израильтяне, – не худший на свете. И приводит не к большим жертвам.
Мы живем, возможно, в самом опасном месте на земле, но мы чувствуем себя в абсолютной безопасности у себя дома и на улицах. К тому же мы знаем, как защититься. Половина израильтян владеет оружием.
Если верно, что всякий мужчина рано или поздно в жизни встретит смертельную опасность, то не лучше ли к такому случаю подготовиться? И не лучше ли встретить опасность в кругу товарищей, чувствуя за собой всю мощь государственной поддержки, чем одному, в темном переулке?
Каково содержание той жизни, которую израильтяне защищают? Каково их отношение к своим целям и задачам в Ливане? Как они себя чувствуют после этой войны?
Танкист:
«Когда смотришь на разрушенный дом – душа болит. А тут еще дети вокруг, которые в этом доме жили… Но если спрашиваешь себя, почему разрушен, ответ ясен. У всего есть своя цена. Те, кто нападает, платят свою цену, и те, кто защищается, свою… Ливанцы заплатили за свою глупость, что дали террористам хозяйничать… когда ты стреляешь, в тебя стреляют – все поровну. Начинаешь относиться к этому, как к работе. Работу надо сделать, вот и все».
Артиллерист:
«Враг врагом, но разрушать страну из-за того, что он там обосновался, тоже не дело. У каждого есть мать с отцом, жена, дети. Конечно, если поставить его детей против наших, я буду думать не о его детях, а о наших. Я о них там все время и думал. Для того и воевал. Вначале мне даже хотелось воевать. Но потом я стал думать: цели мы своей добились, сорок, или сколько там, километров очистили, чего нам еще? Хотя мы знаем, что защищаем наших, многим людям в Ливане мы мешаем… Мы много спорили. Нельзя нам больше тут оставаться».
Пехотинец:
«Я человек верующий, а на войне это имеет большое значение… Я сразу заметил, что террористы стреляют в воздух, и прекратил огонь. Зачем зря человека убивать?.. Вся эта война была справедливая».
Связист:
«Приказы в армии не обсуждаются… Хотя в моем бронетранспортере был командир дивизионной разведки, и я с ним горячо поспорил о приказе. В конце концов, я ему сказал: “Йоси, я знаю, что мне его придется выполнить, но этот приказ дубовый!” А он: “Ну, может быть. Но армия есть армия!” Вряд ли в какой другой армии можно было бы так спорить, тем более рядовому с майором… Когда видишь невероятное количество оружия, которое они запасли в Ливане, и знаешь, что оно было приготовлено, чтобы убивать израильтян, начинаешь понимать, что жертвы, которые были и еще будут, не напрасны. Наверно, в каждом из нас есть вера. В гражданской жизни этого не замечаешь. Там ты полагаешься, в основном, на себя, и нет необходимости обращаться… я даже не знаю, как это сказать… к помощи извне, свыше… пока нет необходимости, я думаю, но вот, война напомнила: наверно, в каждом из нас есть вера».
Есть ли какой-нибудь общий знаменатель, который объединил бы все эти противоположно направленные убеждения, ощущения, веры? Или в сумме все эти силы дают полный и окончательный нуль, погашая друг друга?
Я уверен, что сумма не равна нулю. Мы не случайно самое сильное государство в нашем районе, несмотря на нашу немногочисленность. Отсутствие навязанного единства взглядов только подчеркивает готовность к реальному единству действий. Еще точнее – к единству образа действий, который коренным образом отличается от образа действий несвободных людей. «Я того мнения, что приказ надо выполнять», – говорит десантник, наиболее радикальный противник войны в Ливане. Это единство впервые пошатнулось именно в результате односторонней попытки манипулирования, предпринятой Шароном.
Ливанская война постепенно превращается у нас в наш Вьетнам. Как и тогда, в США, все большее число людей склоняется к желанию поскорее этот Ливан покинуть. Как и тогда, в США, за своими внутриполитическими проблемами мы все позабыли, собственно, о Ливане. И как тогда, не о чем, в сущности, и помнить, потому что наибольшую безответственность проявляют сами ливанцы, что народ, что правительство. Так было и с Вьетнамом. И уже наперед ясно, что, как и во Вьетнаме, это кончится грандиозной резней. Чувство вины за события во Вьетнаме, случившиеся после их ухода, настигло американцев только много лет спустя. У нас это чувство охватывает многих противников войны уже сейчас, и, быть может, это будет единственной причиной, которая удержит нас от американского пути. И от ливанских беженцев.
Все интервью объединяет то чувство свободы как ответственности, которое так редко ощущалось нами в СССР и отсутствует в большинстве случаев и у советских эмигрантов в других странах. Все интервьюируемые, высказывая свое мнение, понимают, что их мнение не безразлично к политической ситуации и могут изменить счет. Все они думают не о пустяках. Так или иначе, они понимают, что участвуют в Истории.
Техник-связист:
«Вообще я доволен. Даже чувствую гордость, что на этот раз сам участвовал в войне. Мне всегда казалось, что все важные события проходят мимо меня. А теперь, вот, довелось самому делать историю».
И бывалый шофер говорит, что рад, что был на этой войне:
«Получается, что и я как бы немного своей крови отдал. А то ведь приехал в Израиль на все готовое. Вот и представился мне случай себя показать. Живу, мол, не зря, даром свой хлеб не ем!»
Зачем это им нужно, – возможно, спросит кто-нибудь. Я не уверен, что это нужно всем. Но я уверен, что это нужно очень многим людям, в том числе и таким, которых в этом не заподозришь. Человек вообще не может жить только мыслями о материальном, даже если он и ведет себя соответствующим образом. Человек – существо историческое и продолжает оставаться таким даже в ХХ веке.
Вот что говорит сапер:
«Нам, израильтянам, эта война ничего не дала. Слишком много погибших… Ну, навяжем мы мир этим ливанцам… Надо их видеть, этих ливанцев. Отглаженные, одеколоном… каждый, наверно, литр одеколона на себя вылил. Грязную работу делать не будет. Все может продать и купить. За бронежилет готов отдать свой “Калашников”. А за меховой комбинезон ему и родной сестры не жалко… Уверен, что они и мир этот продадут при первом случае… Работа у меня тяжелая. Минировать поля. Когда прорываешь землю… если в Синае, то не так страшно, потому что – песок, а на Голанах земля комковатая. Бросаешь комок и думаешь: моя или не моя? Каждый шаг – как будто приближаешься к вечности, потому что никогда не знаешь, где и когда взорвется. Начинаешь верить в Бога. Вера очень помогает… Всегда есть молитва к Нему. Даже не молитва, одно-единственное слово: “Боже!”… Мы не намного лучше их. Иногда мы даже хуже… Раз я нас считаю людьми, значит и они – люди… Дикое чувство от безысходности. Ведь после войны Судного дня думали, что это была последняя война. А сейчас видно, что и эта тоже не последняя… Израиль очень напоминает мне огромный военный лагерь. В средние века были такие государства, которые все время вели войны и этим жили. Вот и я живу в такой стране. А остаюсь здесь потому, что очень ленив и никуда отсюда не поеду…»
Все же мне кажется, что сапер-философ немного слукавил, говоря, будто не бросает наш военный лагерь только потому, что ленив. Слишком тонкое историческое чувство он обнаруживает в своем интервью, чтобы поменять его на какой-нибудь «джоб».
Заметив, что Израиль напоминает одно из средневековых государств, живших войной, сапер не упомянул, что в те времена это были единственные государства свободных людей. Все остальные были населены рабами. И хотя эти воинственные государства были несправедливы к побежденным, внутри себя именно они создавали представления о чести и справедливости, которые унаследовала от них Европа. От разбойничьих норманнских королевств, от поставлявших всему миру наемных солдат швейцарских кантонов, от пиратских итальянских республик, а не от мирных деспотий получила Европа зачатки демократии. От викингов и бондов, от рыцарей и йоменов, ландскнехтов и кондотьеров, а не от смердов и крепостных, составлявших подавляющее большинство остальных богоспасаемых королевств, свободных от военной службы, как и от всех остальных гражданских прав. Собственно, главным признаком, отличавшим свободного от раба в средние века, было ношение оружия и владение им.
На много веков раньше евреи унаследовали свои библейские заветы от толпы испуганных рабов, за сорок лет в пустыне превратившейся в военную орду. И у нас, так же как у этих скитальцев, то, что тяжелым выбором было для отцов – горшки с мясом в Египте или вечные войны в Пустыне, Ц превратилось в однозначное и естественное для сыновей. Они стали свободными членами опасного, воинственного племени и, как всякие свободные люди, немного обленились, чтобы вернуться на службу к фараону или кому-нибудь еще. Они привыкли служить только себе самим и, как бы жестоки они ни были с врагами, они установили такие нормы взаимоотношений друг с другом, что их идеалы и сейчас остаются недостижимым образцом для половины человечества.
Гораздо поразительнее, однако, чем внешнее сходство Израиля с военной ордой, оказывается то фундаментальное отличие, которое бросается в глаза во всех высказываниях участников войны. Они не похожи на варваров. Несмотря на то что Израиль уже пережил пять войн и каждый израильтянин, в среднем, участвовал в друх-трех войнах, несмотря на то что каждый израильтянин 30–60 дней в году проводит в армии, мы не видим никаких признаков огрубления души у наших ландскнехтов. Я специально употребляю этот средневековый термин, чтобы показать, насколько он не подходит для характеристики наших солдат с человеческой стороны. Все интервью сходятся в своем человеческом отношении к мирному населению и даже к побежденному врагу. Пожалуй, это единственный пункт, где достигается всеобщее согласие. «Сначала он человек, а уже потом террорист». «Зачем зря человека убивать?» Что бы ни выдумывали западные журналисты о «бесчинствах израильской военщины» в Ливане, отчего же не пришло им в голову сообщить хотя бы о нескольких случаях грабежа или насилия? Было бы больше похоже на международный опыт и существующую практику всех остальных армий.
Все интервью сходятся в отвержении войны, в презрении к жестокости и жажде мести, которые мы встречаем в окружающем мире: «Фалангисты так говорят: отомстил через 80 лет – рано отомстил. Такая у них культура, такое воспитание…» И это после 35 лет непрерывного напряжения, заполненного угрозами (и попытками, время от времени) вырезать все население Израиля или «сбросить его в море…»
Кое-что, как видно, прибавилось к Ветхому завету за эти тысячелетия…