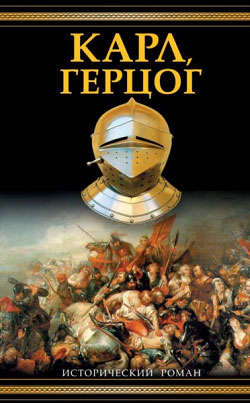Читать книгу Карл, герцог - Александр Зорич - Страница 4
Глава 4
Мавританская танцовщица
Оглавление1
1447 год обогатил противоречивую агиографию[31] Карла двумя в разной степени фотогеничными, но одинаково значительными эпизодами. «Детской болезнью и дефлорацией», – конкретизировал наставник юного Карла Деций на 122-й странице своего труда.
Строкой ниже Деций, предтеча энциклопедического зуда лапидарной Реформации и поклонник безобидных филологических спекуляций, отмечал, что два этих события имеют общую заглавную букву. (Можно согласиться при условии, что мы будем полагать круп «детской болезнью», а термин «дефлорация» применять по отношению не только к девушкам, но и к юношам, что в равной степени и озорно, и смело, но попахивает пропагандой педерастии). Вслед за этим случайным наблюдением следовало глубокое обобщение. «Герцог и герцогиня плакали от счастья, когда Карл наконец-то выздоровел и поборол детскую болезнь. Но, право, они радовались не менее, когда доверенные лица сообщили, что отныне Карл принимает участие в исконно мужских забавах наравне с записными итальянскими жеребцами. Такова человеческая природа – радоваться всему без разбору, не различая события истинно важные (такие, как выздоровление после детской болезни) и мнимо важные (такие, как потеря девства)».
Шутки ради и Карл, и кто угодно другой мог бы посравнивать две эти биографические вешки между собой. Смерить их высоты, поспорить, какая значительней отозвалась в душе юного графа Шароле, какая сильней повлияла на формирование той фиктивной субстанции, которую посредственные психологи и все подряд литературоведы называют «характером». Одним словом, пройти след-в-след за Децием. (Незадолго до своей глупой гибели он выдал на-гора небесталанное повествование о детстве Карла Смелого, этакую «Карлопедию»[32] – рукопись была уничтожена вместе со всем остальным во время революционного разорения Дижона в 1793 году. В ней Деций без видимых затруднений датировал конец детства Карла Смелого 1447 годом и, расцветив декабрьские утехи юного графа в последней главе, с легким сердцем завершил повествование афористичным «Вот и все»).
Но, helas![33] После смерти Деция никому до детства Карла дела не было, а сам Карл нечасто искушал личную историю линейкой и штангенциркулем, когда возвращался в 1447 год. Обычно, правда, он возвращался туда по делам – чтобы вспомнить лицо, место, обстоятельства. Но «нечасто» и «никогда» – вещи разные. В честь этой тонкой разницы устроены не только страховые компании, но и литература.
2
В тот момент в бане находились: Франческо, Никколо, Бартоломео. Все как один мужчины, как один – флорентийцы. Франческо – толмач и писарь флорентийского посольства, поэт. Состоявшийся графоман с жемчужной душой теленка.
Он и сейчас пишет. Но отчего дрожит перо Франческо, скребет бумагу, брызжет чернилами и дрожит? Да оттого, что на его перодержательной руке висит камнем – утопляемому, а ему – приятной обузой, Лютеция, пародия на лютик, чайная роза во второй стадии расцвета, дева по гороскопу и так, существо продажное, но без достоевщины, трогательное, как чебурашка, и вдобавок говорящее. Не говорящее, правда, по-итальянски, но это пустяки! Во-первых, его нам заменит язык жестов, трам-пам-пам, красотка. Во-вторых, Франческо говорит по-французски. В принципе. Сейчас он нем.
Товарка Лютеции Франсуаза осуждающе глядит в затылок прилежному Франческо, затаившись у него за спиной – невиданное кощунство работать в бане. Лютеция нервничает.
На Франческо кальсоны, Никколо и Бартоломео без них. На лавке подле оконца они гоняют игральные кости, время от времени прикладываясь к рубиновой жидкости, которая плещется в оплетенной до пояса бутыли – такие задают вертикаль каждому второму бургундскому натюрморту. Бартоломео подолгу сосет бутыль и, отвалившись, каждый раз отдувается, сонно щурясь. Никколо прикладывается чаще и пьет тоже из ствола, скупыми гомеопатическими глотками. Все ясно, синьоры любят вино. А теперь скажите, как не заскучать двум честным девушкам, сиротам и розам, банщицам привилегированной спецбани имени первого Великого герцога Запада Филиппа Храброго?!
Высшая доблесть поэта – трубить ни о чем, пустословить, но делать это так, чтобы на авансцене рисовалось нечто возвышенное. Чтобы даже Марьиванна, не отрывая зада от своего места на балконе третьего яруса, могла разглядеть ангелов и лестницу на небеса в свой театральный бинокль.
Высшая доблесть чиновника – даже о возвышенном писать так, чтобы его не упрекнули в пустословии. В этом отношении эталонен, наверное, отчет прокуратора Иудеи за 33 календарный год от Р.Х. Две этих доблести – два модуса письма. Они, словно норд и зюйд, делают географию буквенного мира описуемой. Франческо, пребывая на чужбине, повествовал своей любимой о любви к ней и к любимому городу, это очень замечательно, рафинированно прекрасно. Но Франческо – и поэт, и чиновник. Писать прозу, будучи чиновником и поэтом – как править квадригой[34] тянитолкаев. Пиши же, доблестный Франческо, и пусть пот градом стучит по бумаге.
3
Тело под действием пара. «Что это ты такое пишешь, миленький?» – интересуется Лютеция со всей представимой в походной канцелярии обольстительностью. Заворачивает прядь-ужика за ушко, напоказ чистит перышки. Франческо неохотно отрывается от работы, поднимает на нее близорукие глаза, растирает пот по лицу и рассеяно сообщает: «Не твоего ума дело, милашка». Сообщает, впрочем, совершенно беззлобно. Франсуаза, чьим ушам тоже перепало учтивого хамства, глазами плюнув в затылок Франческо, устремляет сердце к иному обращению и отступает – простодушная, добросовестная и полнозапястная. Презирая Франческо, она уходит прочь, фривольно пританцовывая. Она направляется к Никколо и Бартоломео. У них, по крайней мере, алкоголь, доисторические анекдоты и игральные кости. Это ближе к делу. Между прочим, она честно отрабатывает свои денежки. Заплатили – работай!
Но увы, увы, Никколо и Бартоломео показательно игнорируют подкравшуюся Франсуазу. Что ж ей теперь – сесть задницей на эти крапленые кубики, чтобы привлечь к себе внимание? Ну уж нет, она будет просто стоять и дожидаться, когда господа поймут, что ее рабочий день подходит к середине, а когда он подойдет к концу, она сейчас же развернется, топнет ногой, потом хлопнет дверью – и отправится в оплачиваемый отпуск. Но подлость судьбы в том, что ждать этого «развернется» придется до первой зорьки. Франсуаза скрестила руки на груди и превратилась в статую.
Оскорбленная Лютеция также оставила Франческо в покое, села на лавку и горестно подперла голову ладонями. Ее желания просты, но противоречивы. Ей тоже очень хочется домой. Ей хочется отработать свои деньги, она так привыкла. Хочется писать. Хочется превратить это трехголовое флорентийское братство в хрустальное яйцо и размозжить его, затолкав в пасть к Щелкунчику. В самом деле, эти итальяшки какие-то недоделанные – один пишет, двое с костями вафлят бутылку, а тем временем девушки-розы, девушки-лютики томятся и млеют, девушки вздрагивают (даром что никто не замечает) в ожидании дела, в ожидании тела, струят млеко и соки нектарные с розовых ножек. И стебельков.
Все так скучно и плохо, что даже непонятно, что имели в виду, когда придумывали слово «разврат» и вводили соответствующие индульгенции.
Как вдруг: Франческо темпераментно откладывает перо (заметим – не отшвыривает, кладет или мечет). Перо нехотя перекатывается. Далее: изгоняет из своего поля зрения написанное, встает из-за стола, приобнимает скорбящую Лютецию за плечи и голосом, в котором кротость елея сочетается с фельдфебельской хрипотцой, командует: «А ну-ка, милашка, живо в постелю!» «О-у», – жертвенно кивает Лютеция, ничего себе перепады давления, может взорваться манометр, и семенит туда, туда, подальше от бочек, исходящих испариной, бочек таких страшных, словно бочкарем был Неназываемый, словно рогатый банщик наполнил их смолой и серой, а не водой, словно это не бочки, а тренажеры, чтобы упражняться в визитах туда (палец указывает вниз, но не в смысле «нельзя помиловать», а под землю, в ад, в геенну). О Боже! Это в последний раз! – сквозняк из Хельхейма[35] разметал волосы на голове у Лютеции, и она клянется, она, честное слово, клянется, опускаясь на ложе с балдахином.
Лютеция уже сбросила платье на бретельках, она уже успела щелчком удалить с предплечья ипохондрического таракана и взбить подушку. А Франческо все еще плетется. Кальсоны с бульбами на коленях, бицепсы, не тронутые анаболиками, на груди пятно курчавой шерсти – издалека кажется, что это грязь. Нет, в натуре, девочки, этот писарь дослужился бы до старшего матроса на корабле дураков! Он ни за что не снимет кальсон, пока не залезет под одеяло – они такие, эти итальяшки. И Лютеция побилась об заклад, сама с собой – снимет или нет?
Но Франческо тоже можно понять. Он и не думал возлечь на ложе продажном, дышащем прохладой и мелиссой, белеющем снежной горой в царстве пара, предбаннике преисподней, он – нет, он – ничуть, он не из тех, он не ложится со шлюхами и уж подавно не снимает перед ними ни кальсон, ни шляпы. Пусть вольная Флоренция от моря и до моря облобызает своего стыдливого сына. Он заслужил, он останется непричастен.
Лютеция, которая до всего этого еще не додумалась, в порядке инициативы кладет на живот Франческо ручку. «Не тронь, блудилище», – Франческо мягко, но решительно снимает ее руку. Лютеция не находит в этом ничего обидного. В ветхозаветном «блудилище» ей слышится что-то значительное, историческое. «Вот так и лежи, не мешай!» – с ловкостью медбрата он накрывает Лютецию одеялом и, пригрозив ей кулаком, возвращается к своим бургундским запискам. «Не иначе как самому королю пишет», – догадалась Лютеция в оправдание Франческо. Его женский кулак, его решимость, его податливая строгость ей импонировали. Она перевернулась на живот, чтобы все видеть. Она так и лежит, не смея ослушаться. «Он занят. Пишет королю и поэтому не может пока лечь», – утешает себя Лютеция. Какому еще королю? – впору спросить.
4
Бартоломео и Никколо, плоть от плоти флорентийской, стучали костями в обществе Франсуазы, осененные ею словно духом Франции, о нет, не бывать Бургундии французской, словно духом Бургундии, словно душицей, мелиссой постельной, женщиной в цвету, музой игры, уст не отверзающей, молчаливой, красногубой, честные денежки. Она устала быть статуей, корой, кареатидой. Она пританцовывает на месте, хотя музыки не слыхать, Франсуаза танцует, она гарцует, словно лошадка, застоявшаяся у коновязи.
«Понимаете ли, девушка, – виновато объясняет Николя, но та, разумеется, не понимает по-итальянски все эти tutto-rogazzi, – мы чувствуем, вам с нами скучно, но видите ли…» – Никколо с понятной досадой опускает глаза туда, куда уводит минетчицу пижонская дорожка, ах, ну да. Франсуаза аплодирует ресницами – от нее ускользают детали, но то, что об этом продолговатом предмете вообще зашел разговор – это она поняла и обрадовалась. Это уже прогресс, это шаг вперед, это без двух минут смена дискурса. А вдруг этот итальянский компот – прелюдия к долгожданному трам-пам-пам? Может быть, он сейчас заискивает: «Милашка, о роза, о красотка, не сердись, мы тебя уже почти хотим, а через минуту захотим по всем правилам, посмотри хоть сюда, ведь уже лучше, правда, гораздо лучше?»
Может и лучше. В смысле, может, у трупов и хуже. Но скажите, почему эти кретины невозмутимы как два комода, почему они говорят тарабарщину и пьют вино, вместо того чтобы делать то, за что они уже заплатили? Почему они просто сидят и глядят, как бьется ресница об ресницу, как твердеют ее соски, в то время как между ног у них – и это Франсуаза сразу с тоской отметила – между ног у них два недовольных зрителя, два пикуля, безнадежных, маринованных, сморщенных пикуля.
Франсуаза не понимает почему, ведь они оба такие молодые. Слава Богу, итальяшки тоже понимают, что это непорядок, значит, есть надежда. «Короче, подожди!» – подъелдыкивает Бартоломео. Франсуаза, которая поняла это так, что перед ней извиняются, сказала «Ничего!», но Никколо понял это «ничего» как нечто, обращенное персонально к нему – как упрек, как неоплаченный счет.
«Погодите, сейчас я вас развлеку, чтобы вы так не томились, а тем временем мы придем в соответствующее настроение», – пообещал обходительный Никколо. Он был секретарем посольства, начинающим негоциантом и любителем всяких пушечек, метательных машинок, механических механизмов, словом, смекалистым ребенком, который хорошо помнит мертвительную силу скуки. Сказал – и был таков. Лютеция видела, как он скрылся за занавесями в глубине бани и сосредоточенно там копался. «А мы пока выпьем», – предложил наскоро накидавшийся Бартоломео. Франсуаза не стала отказываться.
Бартоломео рассказал ей анекдот о глисте-солитере, который выглянул изо рта завтракающего хозяина, чтобы выразить свое недовольство. Хозяин, а точнее, партнер этого солитера только что выпил кофе, но почему-то отказался от ежеутренней сдобы. Вот глист и спрашивает: «А булочка где?»
Потом Бартоломео сообщил, что его фамилия Каза. В ходе всего рассказа Франсуаза преданно улыбалась, но то была улыбка всплывшей на поверхность Офелии. Бартоломео был вдвойне красноречив, когда знал, что его не понимают.
5
Довольно скоро Никколо возвратился, но что это у него в руках? Мамочки, мавританская шкатулка! Ох уж эти мавританские штучки! Никколо открывает ее («бр-рынь» – отозвался замочек), богатый ящичек раскрывает зев вишневого испода и из нее, Ионой из китовой утробы, выкатывается стройная, испанской спелости женщина. Механическая женщина. Вот они какие, эти розы во вкусе эксцентричной Испании! «Это – мавританская танцовщица», – делает открытие Франсуаза. Она про них слышала, когда была маленькой. Будто все мавританские танцовщицы когда-то были живыми девушками и женщинами, но чары коварных муэдзинов навеки сделали их тела фарфоровыми, а волосы шелковыми. Ее, бывало, стращали, что если она будет баловаться, ее продадут в Мавританию, и тогда все. Никколо заводит шкатулку ажурным ключиком. Франсуаза очарована. Она уже простила Никколо все – и пикуль, и кости, и оплетенную бутыль. Все-таки они не такие козлы, какими кажутся с первого взгляда.
Танцовщица очень красива, она движется как живая. Она одета, но кажется, что обнажена. Танцовщица всегда обнажена. Она так стройна и так улыбчива! Если такие шкатулки распространятся в Дижоне, все честные девушки останутся без работы, в бани будут ходить раз в две недели, чтобы помыться, и куртуазную вселенную постигнет коллапс! Но ведь эта женщина не настоящая, осеняет Франсуазу, и она, растроганная, издает вздох облегчения. Шкатулка поет, фарфоровая женщина танцует, Никколо и Бартоломео экстатически вопят и прихлопывают в такт ладонями – о да! о да! о да! Эпистолирующий Франческо искоса поглядывает на шабаш с вежливым, ревнивым неодобрением. «Это, верно, его шкатулка!» – догадалась Лютеция, на этот раз действительно попав в точку.
6
Веселье в самом разгаре, и если это действительно самый разгар, то ничего скучнее измыслить невозможно. Окошко, у которого теснятся Карл и Луи, под самым потолком. Оно узкое, как бойница, тесное, как нора, высокое, как дупло, как черт бы побрал эту духотищу вместе с недоделанными итальяшками, которые платят шлюхам за безделье. «Надо же! – негодует Луи, – они поливают полыхающих неботаническим цветением в полном объеме женской добродетели девушек высокомерным презрением, гордостью импотентов. Зачем?»
«Но чем, о чем, о чем!» – отвечает-отпевает-отплясывает на последнем дыхании мавританская штучка из слоновой кости, из берцовой кости, ножка в сторону, ах, поворачивается медленно, медленно, ручка вверх, и выше всех устремляется указательный пальчик, завораживающе полунеподвижен в своем элегантнейшем круговращении, гипнотизирует! Танцовщица искристо скалится, Франсуаза скалится, итальяшки веселятся, – а заводец-то оканчивается.
Никколо протягивает Франсуазе шкатулку, подкрепляя свой жест улыбкой, по-итальянски означающей, должно быть: «Это вам, душа моя, поиграйтесь, пока суд да дело, а мы тут досоображаем в костишки». На козлячьем же наречии все это звучит как: «Я, при-дурок, есть не говорить по-французски», – шепотом передразнивает Никколо Карл.
– Возьмите, возьмите! Ключик вот он где! – переводит его улыбку и жест подоспевший Франческо.
«Ах, возь-зьмить-те, возь-зьмить-те! Ключчик-то вона где!» – переводит слова Франческо Луи, и ключчик недвусмысленно выпирает из его штанов. Карл сглатывает смешинку.
– Благодарствуем! – принимает шкатулку солнечная от восторга Франсуаза и, прижав ее к животу, делает угловатое па, пол-оборота на одном стебельке, полшага к постели, где скучает в одиночестве Лютеция. Слоновое подражание костлявой девице. Будут скучать вдвоем. Нет, втроем, с танцовщицей.
«Исключительная штуковина!» – одними губами признается Карл, снедаемый черной завистью.
Спровадив девушек, Бартоломео возвращается к бутыли, Франческо – к письму, а Никколо – к костям.
7
Конец терпению. Последняя сцена положила конец их терпению, терпению Карла, да! И любопытству Луи. Любопытству, заведшему их тайными ободранными лестницами в укромное местечко под самой крышей бани, тихо дрейфующее сквозь ночь и клубы пара. В каморку непонятно кого – истопника? прислуги? В каморку крошечную, словно канарейкина клетка, даром что насрано, но птичка, видно, тут помещалась немаленькая, и любознательность была у нее в характере. Из любопытства она проклевала себе окно в баню, а потом продрала еще и лаз в ту же самую баню. Чтобы, посмотрев, потрогать, ибо сказано: «Что трогаю – тем и владею».
Конец терпению, и Карл, разворачиваясь на одной ножке, – о-ля-ля! – как заправская танцовщица на тупом острие пуанта, становится на четвереньки у устья лаза и нахально ползет в парной мир, где обижают Лютецию, гнушаются Франсуазой, где царит несправедливость. Луи лезет следом. Они обязаны быть там, рядом со слабыми девушками, они должны отнять бургундских принцесс у итальянских придурков, должны исполнить долг мужчин, они должны. От подобных модальностей в четырнадцать лет (а Карлу всего-навсего четырнадцать лет) в голове начинается парад планет, в смысле все мысли выстраиваются в одну линию, дальний край которой упирается в условную женскую фигуру, естественно, обнаженную.
8
Бочка, опрокинутая выпавшим из лаза вослед Карлу Луи, наделала едва ли не больше шума, чем выпущенная неуклюжими пальцами Франсуазы шкатулка, и не в пример больше, чем сама Франсуаза, этим обстоятельством изрядно испуганная. Все целы? Все. Никколо мигом оказывается у ног Франсуазы. Лепеча лишенные магической силы, затертые итальянские проклятия, он поднимает шкатулку и осматривает ее при этом так, словно видит впервые, на деле же гораздо внимательнее: все-таки упала этак с пяти футов! Все целы. Тревога постепенно рассеивается и оставляет Никколо так же, как наемники оставляют крепость, в которую вломился неприятель, то есть быстро.
– Ага, попались! – первым нашелся Франческо.
Правда, он еще не признал в Карле Карла, графа Шароле (это произойдет на несколько минут позже). Для него это выглядит так: двое мальчиков виноваты в том, что это неосторожное блудилище уронило ценную вещь. Сейчас он задаст им трепку.
Лютеция нашлась второй.
– Он подглядывал, он, они, их там сколько?
9
В танце восемь: Франческо, Никколо, Бартоломео. И, да! И Карл! Ну а Луи, бычок Луи: «Черт меня побери, каковы красотки», – он-то болтает, ему член во рту не мешает болтать, а я твой сюзерен,[36] я – твоя денежка, чудовищем о двух спинах Te Deum поем laudeamur-amur-murr,[37] мелисса мурр. Также: Франсуаза – муза и зиза, Лютеция – зыблема сюзереном, неколебимо прекрасна. Париж, ебимый Дижоном, непобедимый – эмблематично.[38] Также: мавританскими па трам-пам-па королева шкатулки – с нею же восемь, дамы и рыцари. Какова какофония, вкус дурен? А на кус недурен, не подделан, не мягок, да, не свинец, золотишко.
Уста разосперсты, отверзты, приемлют – мур-мур – нам претит болтать, мы поглощаем вас, вы поглощены нами. Там, где на отдаленьи видится большое, при ближайшем рассмотрении обнаруживается, обнаруживается, обнаруживается – мур-мур – карта Страны Любви, о! – колыханье Омфала и волосатая тропка к нему.[39]
Итальянцы, и при них позабытая цаца, и при них позабытые кости, наконец-то бежали общества дам и прочего общества, отгородившись от громко флиртующих парочек болтовней – мы вас как бы не замечаем, обходим вниманьем.
– Покажите письмо, Франческо.
Бартоломео Каза ленив и нелюбопытен, но радение, чтобы республика не претерпела ущерба, берет верх. Он давно подозревает магистра наречий в… в более чем всех смертных грехах. К тому же, он проиграл девять флоринов, не считая двенадцати, прилипших к дамским ручкам по настоянию того же Никколо – зачем? Зачем? Его монсеньор Шалтай-Болтай – пс-с-с. Пс-с-с – и все. Исключительно все. Он, видите ли, любит подглядывать.
Франческо отступает на шаг – против воли на шаг, таково естество существа.
– А-а, – это Лютеция.
– Э-э, – это Франческо. – Э-э, мое послание носит исключительно частный характер.
– Будет же направлено адресату за двадцать флоринов из моего кармана. То есть казны, разумеется, – Каза ядовит. – Письмо, извольте.
Никколо хоть и не любит подглядывать, глядит во все глаза. Карл молод, но крут. «Утопил жену-француженку прямо так, в чем была, в подвенечном платье», – шуршит вся Италия. А теперь вот еще раздраит эту Лютецию на две половинки. Представьте, синьоры: Лютеция-левая, Лютеция-правая. Лютик, чашечка, пестик.
Поведя плечом – извольте, мне не жалко – Франческо жестом кавалергарда-посыльного императорского театра подает письмо. Нет, театра не выйдет, не выйдет молодца-кавалергарда – он наг, даром что в кальсонах, наг, как Адам Пеннорожденный. Придется подойти к лавке, поклониться россыпи костей (Северная Корона в апрельском небе) и сунуть драгоценное письмо Бартоломео. Тот с миной заседателя верховного магистрата – он и вправду некогда (никогда?) был (не был?) кем-то в Совете Десяти – разворачивает письмо. Раз: осьмушка – в четверть. Два: четверть – в половинку. Три: целиком, цельное, целое!
10
Луи поет альбу[40] под оконцем мощной резвушки. О-ля-ля, оконце, в оконце лилейный цвет.
Луи, дурным голосом:
– О-ля-ля, каковы красотки!
Бартоломео читает.
– Можете вслух, – небрежно, протяжно, терять нечего, разрешает Франческо.
«Когда я думаю о Флоренции, то представляю себе дивно пахнущий город, похожий на венчик цветка: ведь ее называют городом лилий, а наш собор называется Санта Мария дель Фьоре».
Бартоломео, морщась:
– Что за жеманная ерунда?
Франческо, победительно:
– Читайте-читайте.
«Когда же я думаю о тебе, то представляю себе дивно пахнущий цветок, похожий на эдемскую лилию: ведь ты же называешь ее своей лилией, а мой собор – Сан-Марком дель Фьоре».
‘О – ‘о, наш Франческо, акула пера! дон-жуан! паровая машина желанья! Даже Никколо избрал его центром своего внимания, даже Никколо. А ведь, казалось бы, Карл и Луи – картинка куда как живее. Бартоломео посрамлен гением эротографии, растерян, но не отступает: все равно лишь пс-с-с, вся эта писанина – чисто для отвода глаз, и траты на девушек – тоже.
Никколо в восторге аплодирует младшему братцу: знай наших! Каза вы-ы-ынужден рассмеяться: ха-ха-ха, как мило. Франческо улыбается, Никколо хохочет, итальянская партия на банном приеме взрывается весельем, в веселье взвивается пламя над крышею бани, в щелях стропил перебегают язычки, язычки, тошный дым оборачивается вокруг балок, кровля летит искрами – салют господину небесному фейерверкеру!
11
В глазах шлюхина сына Луи, возведенных горе, блестят непристойные иероглифы, сложенные из чернеющих перекрытий; он ликует, поверженный ликующей Франсуазой, и в хлопьях опадающей сажи они ослепительно неотразимы, как некий юный рыцарь, что в том году спас чудотворную статую святого Бенигния[41] из-под горящих сводов нашей часовни: выбежав, черный, словно Сатанаил, на свежий воздух, он упал без чувств, да его еще сверху придавило дородными статями святого мужа. Он пробыл два часа в мистическом экстазе, а потом отец хотел пожаловать ему, нет, я сейчас больше не буду, нет, слушай же! – достойный лен на юге, в Шароле. Но он, так и не открыв своего лица, ускакал прочь. И только тебе я могу довериться, если бы не уголек, упавший на папирусно-нежное плечо Лютеции, вскрикнувшей, испуганной, недовольной. Ignis sanat[42] – успокоил бы ее Карл, если бы знал латынь, если бы не был сам перепуган до смерти. Огонь-то настоящий, словно сотни опаклеванных стрел из темноты, из ниоткуда, пробили стены и… тьфу ты, какая гадость – «опаклеванных». А итальянцы-то…
– Спасите! – прогремел Карл Смелый, Карл Мужчина.
Неистребимо ослепительный, Луи взбрыкнул под взмыленной Франсуазой, на коновязи – весьма и весьма далеко – заржали флорентийские кабыллиццы. Каза обронил письмо, Франческо вздрогнул, Никколо поперхнулся смехом, опушенный дымом. В сон механической жрицы танца, сквозь изрезанную сурами[43] шкатулку, ворвался невоздержанный юноша и похитил ее прямо с ложа, заспанную газель, стыдливую луну, тень розы, монограмму капель росы. Лютеция-левая и Лютеция-правая вновь сошлись вместе, сомкнулись, лютик отходит к дремоте и, чтобы ему слаще спалось, приправленные слюною пальцы монсеньора Михаила, архистратига,[44] большой и указательный, снимают пламя, увлекая за собой в небо извитый дымчатый вьюнок.
Чудо, шлюхи, чудо, жеманники.
Карл, не одевшись, не поцеловав в шейку свою королеву, не попрощавшись, прихватив лишь шкатулку, облеченный священным молчанием, удаляется.
«Надо было что-то сказать – что? Я женюсь на тебе в следующий раз?»
Так из итальянского кармана оплачивался самый что ни на есть низкосортный разврат при бургундском дворе.
12
«Однако, очевидное подтвердилось. В детском мире все осталось лежать как лежало. Все на своих местах. Шлюхи – работают, развратники – развратничают, баня – горит», – Карл высморкался, схаркнул гнойно-салатовую амебу и опрокинул пол-стакана пунша, над поверхностью которого клубился освобожденный спирт. Это для дезинфекции – после воспаления того же 1447 года его легкие представлялись ему двумя кульками, сшитыми из листьев кочанной капусты, которая перезимовала зиму-другую в овощехранилище сельхозкооперации, то есть вместилищем гнилым и ненадежным. Такую гниль необходимо обдать обжигающей жидкостью, ведь льют же в раны кипящее масло.
Тело струило почти уже печной жар, миндалины были как блокпосты на шоссе Грозный-Краснодар, Карл болел. Впрочем, умереть прямо сейчас, от простуды, он совершенно не боялся, потому что это было так же невероятно, как, например, начать сейчас ухаживать за Лютецией. Он уже обладал Лютецией, он уже один раз умирал от этого же самого. Дважды умирать с одним диагнозом мог, кажется, только Осирис. Тогда, в детстве, Карла обкладывали льдом с ног до головы. Он был похож на свежемороженого хека.
31
Агиография – в христианской традиции жизнеописание святого. Следует отметить, что любая позитивно окрашенная биография политического деятеля Средних Веков несет в себе черты агиографического подхода.
32
«Карлопедия» – «Воспитание Карла» (греч.). Название образовано по аналогии с «Киропедией» Ксенофонта.
33
увы (фр.).
34
Квадрига – колесница, запряженная четырьмя конями. Также – просто четверка тягловых животных (здесь – тянитолкаев).
35
Хёльхейм – у скандинавов мир холода и смерти, ад.
36
Сюзерен – владетель крупной территории, голова над своими вассалами, герцог, король, князь. Здесь употребляется в значении «хозяин».
37
Тебя, Бога, хвалим (лат. искаж.). Начало католической молитвы.
38
«…Лютеция – зыблема сюзереном, неколебимо прекрасна. Париж, ебимый Дижоном, непобедимый – эмблематично». – Действительно эмблематично. Дело в том, что Лютеция – раннее, римское название Парижа. С другой стороны, на гербе Парижа изображена ладья, колеблемая бурей, и начертан девиз: «Fluctuat nec mergitur» («Зыблема, но не потопима»). Каковые факты и доставляют семантическое пространство для каламбура.
39
«…Колыханье Омфала и волосатая тропка к нему». – Омфалом в ранней Античности именовался жертвенный камень фаллической формы, служивший для отправления культов хтонических божеств. Заметим, что подобный omphalos имел место в дельфийском святилище и назывался «Пуп земли». Примечательно, что контексту комментируемой фразы удовлетворяют сразу два понимания Омфала – и пуп, и фаллос. Все зависит от того, в каком направлении пройти «волосатую тропку».
40
Альба – «предрассветная песнь» в поэзии трубадуров. Альба – стихотворение, построенное в форме обращения поэта к своей возлюбленной, который сообщает о том, что уж алеет горизонт, и сменяется стража, и скоро вернется ее супруг, а потому пора расставаться, хотя это и печально весьма.
41
Бенигний – святой католической церкви. Патрон Дижона.
42
Огонь излечивает (лат.). Из афоризма Гиппократа: «Чего не излечивают лекарства, излечивает железо, чего не излечивает железо, излечивает огонь».
43
Сура – глава Корана.
44
Архистратиг (греч. «верховный военачальник») – архистратигом в христианской традиции называется архангел Михаил, предводитель небесного воинства, победоносный антагонист дьявола.