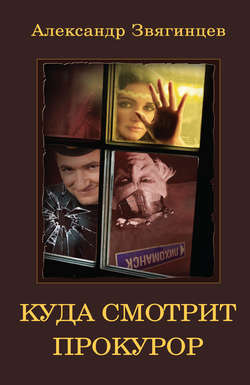Читать книгу Куда смотрит прокурор? - Александр Звягинцев - Страница 5
Глава 3. Прокурорские страдания
ОглавлениеЦель – определить стоимость обуви по оставленным в грязи следам.
Из постановления о назначении экспертизы
– И тут, Жан Силыч, судья спрашивает: «А проводился ли следственный эксперимент?» Я говорю: «Какой эксперимент?» А он: «На предмет установления, в состоянии ли был обвиняемый инвалид догнать потерпевшую бегом в том случае, когда у потерпевшей трусы находятся лишь на одной правой ноге?» Прокурор Туз с отвращением посмотрел на своего тщедушного и неудержимо лысеющего в последнее время заместителя Драмоедова, который докладывал о своем неудачном выступлении на вчерашнем судебном заседании. Рассматривалась попытка изнасилования и нанесения побоев инвалидом второй группы диспетчерше автобазы, не пожелавшей «вступать с ним в половые контакты на добровольной основе за деньги». Дело было смутное – сначала инвалид с диспетчершей вроде бы обо все договорились, уже и трусы оба почти поснимали, а потом та вдруг заартачилась, стала говорить, что она не знала раньше про протез, а когда протез увидела, так ей прямо не по себе стало, и поэтому пусть инвалид еще денег добавляет. Инвалид разъярился, потому что был уже в состоянии сексуального аффекта, и сказал, что добавить он, конечно, может, но только кулаком по морде… Причем не один раз. И рожа у него при этом была такая, что диспетчерша бросилась от него бежать в «недоснятых», как было отмечено в протоколе, трусах. А инвалид в неснятом протезе, но без трусов, поскакал, как козел, за ней, потому что у него уже там все дымилось… Ну и доскакался. Диспетчерша поскользнулась и сверзилась в какую-то колдобину, да так, что сломала руку и ногу и три месяца пролежала в гипсе без возможности работать. Мало того, перелом оказался такой сложный, что теперь ей самой приходится инвалидность оформлять. Ну, естественно, теперь она как человек, смотрящий регулярно телевизор, требовала, чтобы ей возместили и утрату трудоспособности, и моральный ущерб. А адвокат инвалида теперь доказывал, что догнать он ее на своем протезе вообще не мог ни в коем случае, в трусах она была или без трусов. И потому, получается, бежала она куда-то в недоснятых трусах по какой-то своей надобности, и инвалид тут совершенно ни при чем… – Ну а ты что? – спросил Туз, который, глядя на зализанные белесые волосики Драмоедова, представлял себе, как гогочет зал городского суда над двусмысленными подробностями, которые вытаскивает из глупой гусыни потерпевшей ловкий адвокат Шкиль.
– А что я? Сказал, как было. Не делался такой эксперимент, потому что никто из женщин не желает бегать от инвалида в трусах на одной ноге. Даже для следственного эксперимента.
– А судья что?
– Говорит: как же нам в таком случае судить?
– А адвокат?
– А адвокат говорит: гражданин прокурор, вы же понимаете, что нам для выяснения истины и вынесения справедливого приговора надо узнать об изнасиловании как можно больше – где, когда, как? Было это вообще? А может, этого и вообще не было? Как же мы можем это узнать без следственного эксперимента? Тем более если обвиняемый вами инвалид утверждает, что «страдает половой слабостью по месту жительства»?
– Это как это – половой слабостью по месту жительства? Что, дома не может, а на улице – сколько угодно?
– Да нет, Жан Силыч, это я просто выразился так для краткости… В том смысле, что у него об этом справка есть, выданная в поликлинике по месту жительства…
– Ну ты, знаешь, сокращай-то поаккуратнее, а то уж больно у тебя заковыристо получается, без бутылки не допрешь…
Драмоедов подобострастно закудахтал что-то.
Туза невольно передернуло. Бред какой-то получается. Инвалид, страдающий половой слабостью по месту жительства. Баба, снявшая наполовину трусы, а потом испугавшаяся прежде не виданного протеза и побежавшая в трусах на одной правой ноге по какой-то своей надобности…
Но во всем этом бреде ясно чувствовалась направляющая рука. И Туз прекрасно знал, чья это рука. Тут был виден почерк адвоката Шкиля. Он явно решил превратить все в посмешище – и дело, и суд, и прокуратуру. Причем в особо циничной форме. И под все эти хиханьки да хаханьки выиграть дело.
– Я ему, адвокату этому, Жан Силыч, хотел там ответить, срезать так, знаете, сказать все, что о нем думаю, на место поставить… Да потом подумал, что в зале пресса, стоит ли связываться?
– Я себе представляю, – усмехнулся Туз и даже поерзал своим громоздким телом в просторном кресле. – Тебе, Драмоедов, с ним связываться, особенно в присутствии прессы, – это как раз то, что ему и надо. Так что хорошо, что не связался. А то бы ты тоже побежал по своей надобности в недоснятых трусах на одной ноге…
Драмоедов обиженно надулся. А что поделаешь, не таким, как он, такого адвоката, как Шкиль, осаживать.
Прославился Драмоедов тем, что наглый адвокат Шкиль, тогда только объявившийся в городе, в суде его чуть до слез не довел. Это в советском-то суде! Пусть уже и продуваемом насквозь ветрами перестройки, но советском же еще!
В те годы как раз родилась идея о привлечении КГБ к борьбе с экономической преступностью. Прокуратура области, как это и положено, должна была за следствием надзирать и в суде обвинение поддерживать. Но поскольку район находился далеко, область в порядке исключения поручила это дело Тузу как многоопытному и проверенному товарищу. А Туз, надо прямо признать, поступил неосмотрительно – бросил почему-то на эту работенку Драмоедова, рассчитывая, что ушлые и высокомерные чекисты сами со всем справятся, а Драмоедов при сем лишь поприсутствует. Но чекисты оказались ребятами хотя и решительными, но привыкшими работать, не обращая особого внимания на разные тонкости Уголовно-процессуального кодекса. Драмоедов же вместо того, чтобы хоть какие-то приличия при оформлении дела соблюдать, смотрел на них с открытым ртом, как на комиссаров в пыльных шлемах, и слово неодобрительное произнести был не в состоянии.
Чекисты же, умники, не придумали тогда ничего лучше, как сделать главной обвиняемой по делу о хищениях в тресте ресторанов и столовых женщину с оравой ребятишек. Та как начала в суде рыдать – потом выяснилось, что проклятый Шкиль ее специально этому научил, – так весь процесс и проплакала, доведя судью Сиволобова до полного изнеможения.
Сам же Шкиль на протяжении всего судебного рассмотрения постоянно мордовал суд различными ходатайствами по поводу допущенных в ходе ведения следствия нарушений. Чуть ли не каждую минуту вскакивал – и караул! И обязательно, язва такая, присовокупит: невозможно понять, как многоуважаемый прокурор, который здесь, между прочим, присутствует, мог такое допустить! А может, он и к делу-то допущен не был?
Драмоедов дулся-дулся, а потом не выдержал и скулящим голосом стал судью Сиволобова умолять:
– Товарищ судья, да остановите вы наконец это издевательство над прокурором! Чего он все время:
«Прокуратура такая, прокуратура сякая!» Он что, не понимает, что прокурор не может по пятам за следователем ходить? Прошу вас, товарищ судья, запретить ему без явной необходимости употреблять слово «прокуратура» впредь вообще!
Шкиль ядовито улыбнулся, а Сиволобов только плечами пожал. Он-то уже тоже видел, куда перестроечные ветры дуют и что с адвокатами теперь так просто нельзя.
Безжалостный Шкиль через минуту вскочил и залепил:
– Товарищи судьи, здесь снова грубо нарушен закон. А из этого можно сделать один-единственный вывод: должный надзор за законностью расследования не осуществлялся…
Тут он издевательски помолчал, посмотрел на Драмоедова, закатил глаза к небу и, когда все в очередной раз готовы были услышать слово «прокуратура», неожиданно закончил:
– …не осуществлялся, как положено, трестом столовых и ресторанов, в котором работает моя подзащитная!
Зал, конечно, издевательскую шутку адвоката оценил.
Услышав про тресты и рестораны, Драмоедов, который в бессильном ужасе ждал, когда адвокат снова начнет полоскать прокуратуру, вскочил, схватил бумаги и, чуть ли не рыдая у всех на глазах, проблеял:
– Меня тут… оскорбляют! Так нельзя, граждане!
Вид у него был такой, что даже обвиняемая плакать перестала. А Драмоедов схватил портфель и был таков.
Обомлевший от столь необычного поведения прокурора судья Сиволобов тут же объявил перерыв, помчался в свой кабинет, позвонил Тузу и сказал, умирая от смеха:
– Силыч, ты где таких пидоров подбираешь? Тоже еще чудо в перьях – прокурор со слезами на глазах! Он там у тебя не обоссался случаем? Может, вам в прокуратуре теперь на процессы подгузники надевать надо?
На следующий день Тузу пришлось самому идти в суд и в свирепой борьбе с адвокатом, гавкая и рыча на каждую его остроту, честь своей прокуратуры отстаивать.
Наверное, тогда он вполне мог от Драмоедова избавиться, но делать этого не стал. Не потому, что ему этого слизняка жалко было, а просто Жан Силыч, мужик тертый, хитрый, к тому времени уже все про систему, в которой живет и работает, знал. И понимал даже не разумом, а нюхом, что делать надо, а что не надо, и где лучше перетерпеть. За Драмоедова хлопотали серьезные люди, которые для прокуратуры много полезного могли сделать, а многоопытный Туз такими возможностями не разбрасывался. Он давно уже понял, что жизнь богаче всех законов и многообразнее любого из документов партии и правительства, даже самого исторического.
В общем, к началу девяностых, когда в стране все переменилось, он советскую систему принимал без всяких иллюзий, но сам лично перестраиваться не захотел. Не то чтобы он испугался новых правил, боялся, как говорили, не вписаться или выпасть из новой жизни… Нет, Туз при любых отношениях, хоть рыночных, хоть рабовладельческих, своего бы не упустил, потому что он знал самые важные законы жизни: где можно, а где нельзя, с кем можно, а с кем не стоит, как получится, а как ни за что не удастся… При этом четко усвоил для себя важнейший принцип: важно не что, важно – с кем.
Просто с наступлением новых времен Жан Силович ясно почувствовал: для него они чужие. И его личное достоинство, которое он никогда не терял, не позволяет ему, задрав штаны и закусив удила, скакать в новые светлые дали. Которые оказались расположенными в прямо противоположном прежним далям направлении.
Новая жизнь не внушала ему доверия. Вот, скажем, праздников стало столько, что никто не знает, что и зачем празднуют. У язычников праздники и то были с идеей. Какие-нибудь игрища по поводу сбора урожая, удачной охоты, превращения мальчиков в мужчин. У религиозных торжеств дух и идеи были на первом месте. А у советских праздников! Идеология была твердокаменная. Пусть принудительная, выдуманная, тупая, как День работника коммунального хозяйства, но была.
А ныне? Ничего. Ну в полном смысле ничего. Праздники теперь – одна праздность. И только. Бессмысленное ничегонеделание. Многодневное и отупляющее. И – пиво, пиво, пиво, пока брюхо не лопнет… Что День конституции, что День независимости – все едино. Все только повод для выпивки и тупого безделья.
Вот германцы на своих пивных торжествах не просто пивом наливаются, натянув дедовские кожаные штаны, но и дух тевтонский при этом вызывают, проникаются им. И французам праздник вина божоле нового урожая нужен для того же, а не ради кисленького, недобродившего винца. И у татар сабантуй не просто для питья кумыса.
Праздники должны объединять, а тут каждый разделяет. Одни эту самую солидарность отмечают, другие – весеннее безделье.
Нет, Туз не был тем, кого теперь презрительно называли «совком», но посчитал, что раз Господь распорядился так, чтобы жизнь его совпала с советским временем, пробираться, протискиваться бочком в новые времена он не станет.
А поняв это, Жан Силович стал потихоньку подбирать себе преемника, потому что бросать ставшую родной за долгие годы службы прокуратуру на какого-нибудь Трюфеля-Бибика или Драмоедова-Забабашкина не хотелось.
Тем более что у Туза уже несколько лет в городе был неприятель, с которым он вел изнурительную борьбу, и сдаться было невозможно по многим обстоятельствам.
Неприятелем этим был адвокат Артур Шкиль.
Шкиль объявился в Лихоманске с началом перестройки и гласности, как черт из табакерки. Получил разрешение на адвокатскую деятельность и быстро-быстро с иезуитской улыбочкой стал разрушать всю ту систему, что в городе прокурор Туз с судьей Сиволобовым долгие годы отстраивали.
И вот с точки зрения сохранения этой системы Тузу сразу приглянулся Герард Гаврилович Гонсо. Ибо была в нем романтическая увлеченность делом и убежденность, что в прокуратуре много хорошего сделать можно. А это в среде нынешних прокурорских редкость. Проклятая служебная лямка и круглосуточное обращение среди всех мыслимых и немыслимых мерзостей жизни из большинства работников романтические убеждения выбивает быстро и неотвратимо. А в Герарде Гавриловиче с его честным усердием Туз как-то сразу почувствовал родственную душу. И потому-то и поручил ему лично заниматься расследованием дела об украденной в церкви утвари. Очень уж он рассчитывал в случае успеха «засветить» его перед начальством.